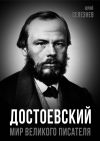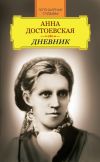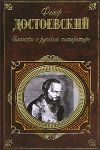Текст книги "Пророк в своем Отечестве"
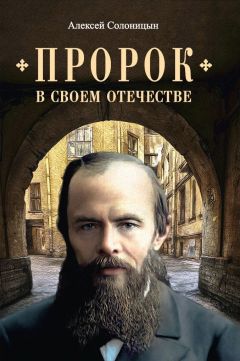
Автор книги: Алексей Солоницын
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Федор Михайлович спал тихо: дыхание его едва угадывалось. Впрочем, он спал так почти всегда, и ее не беспокоило, что он так неслышно дышит.
Она осторожно встала и пошла на кухню, чтобы приготовить вместе с Матреной завтрак.
В эту ночь в квартире номер 11, в комнате, которую занимал Александр Баранников, в засаду попал Николай Колодке-вич[34]34
Колодкевич Николай Николаевич (по другим данным – Иванович; 1850–1884) – русский революционер-народник. Родился в семье помещика в Черниговской губернии. Из Киевского университета исключен за революционную деятельность. В 1879 г. – участник Липецкого и Воронежского съездов, примкнул к «Народной воле». В 1879 г. готовил покушение на Александра II под Одессой, в 1880 г. – в Петербурге. Осуществлял вместе с А. И. Желябовым связь Исполнительного комитета «Народной воли» с военной народовольческой организацией, выполнял другие поручения. В начале 1881 г. арестован. По «Процессу двадцати» (1882) приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Умер в Алексеевской равелине Петропавловской крепости.
[Закрыть] – член исполнительного комитета организации «Народная воля».
Глава шестая
Двадцать седьмое января. Александр баранников
Каземат!
Господи, слово-то какое! Конечно, нерусское, да и звучит как-то дико, если вслушаться. Так и представляешь сальную морду с редкими усиками: «Каземат!»
Было жандармское управление, допросы – от корпуса жандармов, от Министерства юстиции, Министерства внутренних дел.
Фотографировали, потом посадили в карету между двумя жандармами и повезли.
Проезжали Дворцовый мост, и вдруг Баранников понял, куда его везут, – в Петропавловку.
Потом открылись железные ворота, въехали, остановились. Провели через кордегардию, где под ружьем стояло не менее взвода солдат, прошли коридором, потом по лестнице на второй этаж. Здесь раздели, выдали грубое казенное белье, драные туфли и синий застиранный халат. Явился заведующий арестантскими помещениями, объяснил «правила», и двери камеры с двойным затвором и железным засовом, пролязгав, закрылись.
Каземат!
Это конец.
О нет, это только самое начало, еще так много предстоит пережить, увидеть, узнать.
Успокоиться.
«Собрать мысли, всё обдумать и решить!»
Но мысли разбегались; только начав строиться, каждая падала и, как карточный домик, валила остальные, и получалась куча-мала, каша, бесформенная груда, а не привычная логичность и ясность.
Да, он представлял, что может оказаться в каземате. Рисовались каменные стены, солнечный луч, который из узкого оконца косо падал через решетку, а он сидел, задумавшись, на кровати – в белой батистовой рубашке, лосинах, опойковых сапогах…
Господи, это всё стихи – Шиллер, Байрон!
Жизнь совсем, совсем иная.
В который раз он осмотрелся и увидел: низкий сводчатый потолок в грязных, заплесневелых потеках; в таких же потеках и стены. Железная койка, прибитая к полу, железная доска, врезанная в стену вместо стола, железный клозет в углу. Оконце действительно в самом верху, в него можно заглянуть. Камера довольно просторная – шесть шагов в ширину и десять в длину.
Самое ужасное, к чему, наверное, привыкнуть невозможно, – запах каземата.
Это особенный, гнусный, ни с чем не сравнимый тюремный запах: застойный, сырой, накопившийся веками… Почему никто не говорил и не писал о нем? Не хотели трогать чужую душу мерзостью? Или, может быть, к этому запаху можно привыкнуть?
Не знаю, не знаю! Когда тупеет мозг, когда уходят силы, тогда, пожалуй, всё равно.
Действительно, если смерть встанет пред тобой, если тебе объявят, что завтра казнь, неужели будешь думать о запахе?
Минутку, минутку, почему такая паника? Почему такой вихрь в голове?
Ну, схватили. Ну, каземат. Так разве он один должен пройти сквозь испытания? Сколько уже прошли и не дрогнули! А скольким предстоит пройти!
Господи, только бы выстоять и умереть, если придется, с честью, гордо, а не как Иуда…
Что? Кажется, он сказал себе: «Господи»? Это привычка или потребность в высшем защитнике, без которого, говорят, никак нельзя обойтись?
Вопрос!
Но это потом. Сейчас о другом – разобраться, кто предатель. Уяснить, что говорить на допросах, чтобы не навредить случайно, по неведению. Всё рассчитать, приготовить себя к допросам.
Сделать это надо немедленно, потому что на допрос могут повести прямо сейчас. Да, они так любят – внезапно. Ну и пусть ночь, им всё равно. Фитиль увернуть, потому что они керосину выдавать наверняка будут по самой малой норме. Попробую заплатить, чтобы дали возможность читать. Если не читать, то очень просто превратиться в тупую скотину.
Они это знают?
Еще бы. Это же их профессия, и они изучили ее в совершенстве.
Он подошел к окошку. Рассветало, и сквозь решетку он увидел крепостную стену и смог рассмотреть ее. В стене были выбоины, глубокие трещины – вообще она выглядела ветхой и запустелой. А снаружи-то облицована гранитом и кажется такой величественной, неприступной!
Неожиданность открытия развеселила его, и он чуть было не расхохотался: вот он, самодержавный строй, во всей своей прелести – снаружи и изнутри.
Лязгнули засовы. От неожиданности Александр вздрогнул.
Открылось окошко в двери наподобие форточки.
– Кипяток!
Ничего не понимая, Александр подошел к двери и увидел тюремщика с большим чайником в руке. Тюремщик был сердит и заспан. Глазки маленькие, востренькие, нос широк и приплюснут, а под ним хоть и прикрытая усами, но всё равно заметная крупная бородавка.
Александр взял со стола глиняную кружку, протянул ее сквозь окно и улыбнулся.
Улыбка эта крайне озадачила тюремщика.
– Чегой-то тебе весело?
– Да так. – Александр не выдержал и рассмеялся. – А знаешь ли ты, что у алжирского бея под носом шишка?
– Э-э-э! – Тюремщик покачал головой. – Насмешки строишь? Ну-ну. Ужо поглядим, как они тебе, насмешки-то, обернутся. – И он захлопнул окошечко, закрыл его засовом.
– Кипяток! – послышалось из коридора. Голос у тюремщика был зычный и хриплый.
Пока шел этот разговор, Александр успел заметить сквозь открытое окошко в двери камеры, что была напротив, чью-то бороду, усы, потом глаза. Заключенный тоже внимательно разглядывал нового соседа – глаза блестели, рот приоткрылся, и обнажились на секунду крупные передние зубы. Как будто Александр уже видел и эти глаза, и бороду с усами, и зубы. Ну да, зубы очень характерные – растут не прямо, а чуть под углом…
Кто это?
С наслаждением глотая кипяток, обжигаясь, грея руки о кружку и расхаживая по камере, Александр припоминал всех знакомых и друзей, кто носил бороду и усы.
Михайлов?
Нет, зубы не такие…
Фроленко?
При одном только воспоминании о друге сразу увиделась ночная улица и как они шли домой, смеясь над «конспирациями», и как было тихо и покойно… Боже мой, они же расстались всего три дня назад!
Не думать об этом. Надо наладить связь с тем, кто напротив. Для этого побольше говорить с тюремщиком, да громко говорить, с намеками… Завоевать его расположение всеми средствами…
Да! Система конспирации, явок, встреч, казалось, была разработана до мелочей и соткана хитроумно. Автором ее был Александр Михайлов, признанный авторитет…
Скорее всего, в организации засел предатель. Или кто-то из товарищей пал, как Гольденберг?
А если они знают о подкопе?
Что ж, всё станет ясно с первых же вопросов жандармов. Или судейских. Впрочем, суд-то наверняка будет военно-полевой, статья 279 известна, и приговор заранее готов.
Вот поэтому надо успокоиться и думать о другом.
Как там Михайлов? Знает ли, что он тоже здесь? Осуществится ли теперь план его?
После казни Соловьева[35]35
Соловьев Александр Константинович (1846–1879) – русский революционер-народник, совершивший покушение на императора Александра II.
[Закрыть] Центральная группа решила, что террористический акт по отношению к царю неизбежен. Дебаты кончились, и даже члены Исполнительного комитета, которые считали, что казнь Александра II, «освободителя крестьян», не будет понята народом, теперь тоже стояли за ликвидацию императора.
Михайлов предложил план: по Московско-Курской дороге, где проследует поезд царя, сделать подкоп и заложить мину.
План приняли и в трех верстах от Москвы купили дом. Купчую оформили на Льва Гартмана, сделав его Сухоруковым; его «женой» стала Софья Перовская.
Условия для дела оказались скверными. Своды пробитой галереи дрожали, как при землетрясении, от каждого проходящего поезда. Галерею пришлось делать неглубокой, так как мешали грунтовые воды. Казалось, что над землекопами проносятся не поезда, а чудища, готовые раздавить тех, кто сидел под землей…
Когда галерея в двадцать саженей была готова, Михайлов заложил мину, подсоединил батарею, отходящие в стороны проводники вывел наружу. Оставалось по сигналу замкнуть цепь в тот момент, когда прибудет царский поезд.
Он прибыл 19 ноября.
Первый поезд решили пропустить – были убеждены, что в нем находится прислуга.
Когда второй царский поезд подъехал к месту, где была заложена мина, Софья Перовская подала сигнал.
И на этот раз царь спасся – он проследовал в первом поезде.
Теперь решено было делать подкоп в Петербурге, на Малой Садовой улице, по которой царь обычно ездил в манеж.
Был выбран подвал в доме Менгдена[36]36
Малая Садовая улица, 8. На месте этого дома в 80-х годах XIX в. находилось казарменного типа четырехэтажное строение, принадлежавшее графу Менгдену. В первом этаже помещался трактир «Екатерининский», содержавшийся купцом Париковым. Здесь в марте 1881 г. располагалась лавка – «Склад русских сыров Е. Кобозева». Настоящими ее хозяевами были члены Исполнительного комитета «Народной воли» А. В. Якимова и Ю. Н. Богданович. Оба «супруга» уже лет десять занимались противоправительственной деятельностью. Улица была правительственной трассой, каждое воскресенье император Александр II выезжал из Зимнего дворца и по Невскому проспекту и Малой Садовой улице следовал в Михайловский манеж. Здесь в присутствии высочайшего двора происходили в зимнее время смотры кавалерийских полков и конкурсы по выездке. Из дома на Малой Садовой народовольцы вели подкоп, куда собирались заложить мину. В создании подкопа участвовали несколько народовольцев-мужчин. Четверо из них позже были повешены, двое погибли в заключении, двое (Меркулов и Дегаев) стали предателями, только один – Михаил Фроленко благополучно дожил до старости и умер в Советском Союзе в 30-х годах.
[Закрыть] – там решили открыть «сырную лавку».
Работу вели в чудовищных условиях. Ящики с землей таскали лямками, ползком. Свеча то и дело гасла – воздух был тяжелым, удушливым. В галерею просочились грунтовые воды, и пробивать ход приходилось лежа по грудь в воде.
Редко кто выдерживал работу в штольне более часа. Начались болезни: группа таяла на глазах. Но и болезни были не так страшны, как приходы жандармов. Однажды с «санитарным осмотром» пожаловал генерал Мровинский. Высокий, статный, в великолепной шинели и безукоризненно пошитых сапогах, он прошелся по лавке, рассматривая товары и морща нос. Нос этот был довольно крупный, а под ним холеные усы. Держался Мровинский так, как будто боялся обо что-то запачкаться. Поэтому когда он задел носком сапога за коврик, лежащий на полу, то брезгливо посторонился. А коврик тот, между прочим, прикрывал крышку подпола, откуда и велся подкоп.
Два человека в этот момент как раз находились там, внизу. По заранее поданному сигналу они замерли, затаив дыхание.
Не снимая перчаток, генерал пролистнул документы, а его подчиненные в это время прошли кухню и заглянули во двор. Видя, что генералу тягостно осматривать лавку, они и сами поторопились поскорее отсюда уйти и потому не заметили ящики с землей, которые стояли у двери черного хода.
Убедившись, что в документах нет ничего предосудительного, генерал сказал «честь имею» и ушел.
Александра Якимова, «владелица» сырной лавки, упала на стул. Глянув на коврик, она хихикнула, потом засмеялась в голос. Смех очень скоро перешел в рыдания, и с женщиной началась длинная, ужасная истерика. Александр стоял перед ней на коленях, гладил, целовал – ничто не помогло. Ее унесли, уложили в постель…
Спаслись чудом. Кто же теперь доведет дело до конца? Неужто и этот подкоп не приведет к победе? Какой мучительной, долгой, страшной оказалась борьба с царем!
Каракозов… Березовский… Соловьев… Невзорвавшаяся непонятно почему мина под Александровском… Взрыв в Зимнем… Взрыв под Москвой…
Сколько жертв! Сколько крови!
Неужели всё напрасно? Неужели правы они, говорящие «не убий»? Но почему же сами-то убивают? Почему считают, что им дозволено всё, а месть за народ невозможна, не дозволена? Разве возможно победить их смирением? Как можно возлюбить такого ближнего, как, например, генерал, описанный Достоевским?
Тот генерал считал себя, и, может быть, самым искренним образом, верующим. И когда он спускал свору собак на раздетого мальчика, который, играя, камнем зашиб борзую генерала, изверг считал себя в полном праве наказать ребенка…
Собачья свора загрызла мальчика на виду у матери – так распорядился генерал.
Достоевский ничего не выдумал, он взял этот факт из газет. У генерала есть имя, отчество, фамилия. И ведь наверняка он, прикладывая два пальца к фуражке, говорит «честь имею».
Так как же тут быть с верой? Разве этот генерал лучше атеиста уже тем, что он верит в Бога? О, да он мерзопакостнее последней твари и подлежит истреблению!
И опять Александр вспомнил Достоевского и те слова писателя о слезах человеческих, которые прожгли землю до самого центра.
Если бы поговорить с Федором Михайловичем! Если бы открыться ему, рассказать, что делают лучшие люди России для будущего. А в том, что рядом с ним борются за народ именно лучшие люди, Александр не сомневался. И к Михайлову, и к Перовской, и к Кравчинскому он относился особенно – вот с кем познакомил бы он Достоевского или хотя рассказал бы о них… О, тогда Федор Михайлович такую бы правду написал о людях борьбы, что души бы сотрясались… И тогда бы он вернулся к идеалам своей молодости, обязательно бы вернулся, потому что эту опившуюся, обожравшуюся, обгадившуюся сволочь, которая тиранит народ, можно только силой смести с лица земли. Не поможет тут ни великий пост, ни великое смирение, ни непрерывная молитва…
Так думал потомственный дворянин Курской губернии Александр Иванович Баранников, двадцати трех лет от роду, страстный почитатель российской словесности, а писателя Достоевского в особенности. Он шагал из угла в угол, думая то о книгах любимого писателя, то о коротких встречах с ним на лестнице или у дома, о неуместной своей робости, за какую он казнил себя после встреч с Федором Михайловичем. Ну что бы подойти, представиться… Так просто! Но сердце его каждый раз замирало, он лишь вежливо кланялся, проходя мимо, а оправдывал себя тем, что «конспирация» требует соблюдения дистанции с соседями… Потом казнил себя, давал слово подойти к Достоевскому в другой раз…
Обозвав себя в очередной раз дураком, Александр накинул на себя одеяло – промозглость каземата ощущалась всё сильнее. Да и не топили, видимо. Зачем? Каждому тюремщику понятно, что «политическим» положено подыхать…
Он отогнал эти мысли. Надо делать гимнастические упражнения. Есть какая-то немецкая система… Фриденсон говорил. Как жаль, что он не выучил ее. Ничего, можно и по своей системе – самой простой.
Лязгнул засов, окошко в двери отворилось.
– Обед!
Александр подошел к двери и увидел давешнего тюремщика.
– Унтер, ты, брат, меня извини, – сказал он, принимая тарелку с похлебкой. – Это я давеча Гоголя вспомнил, Николая Васильевича, – был у нас такой замечательный писатель. Не слыхал случайно? – Унтер подозрительно и хмуро смотрел на Баранникова. – Я, брат, вообще очень книги люблю. Очень. Разве тут у вас читать нельзя?
Александр, выйдя из Павловского военного училища, «ходил в народ» и выучился говорить с самыми разными людьми. Собственно, учиться тут было нечему – просто его скромность, задушевность и ум тут же были видны. Вот и вступали с ним в разговор самые что ни на есть неразговорчивые люди. А он, ставя себя на равную ногу со всяким, кто ему был нужен, приступал тут же к делу, потому и находил почти всегда сердечный отклик.
– Со всеми претензиями к господину полковнику, – ответил унтер. – А нам с вами говорить не велено.
Он уже хотел уйти, но Александр не дал:
– Так ты ему скажи, брат, что мне книги нужны. Или пусть сам зайдет, а? Скажи, Александр Баранников, мол, просил.
Говорил он мягко, спокойно, лишь фамилию свою выкрикнул для соседа напротив.
Тон молодого заключенного понравился унтеру, и он кивнул, хотя утренней насмешки не забыл.
Похлебка оказалась сносной, и Александр ее съел. Съел он и кашу с куском говядины, а потом с удовольствием выпил кипятку. Александр научил себя быть во всём неприхотливым, когда готовился идти в народ. Поэтому сейчас поел он с аппетитом, а потом лег на соломенный сплющенный тюфяк и закутался грубым суконным одеялом. После еды и кипятка ему стало теплее, потом совсем тепло, и он заснул.
Странно, но приснилась ему самая драгоценная, самая прекрасная картина в целом мире: родной дом и сад.
Он увидел себя не в городском доме, а в деревенском, деревянном, с верандой, на которой он любил сиживать целыми часами, покачиваясь в кресле и держа книгу в руках. Веранда выходила прямо в сад.
Сад был прекрасен в любое время года, но особенно любил его Александр весной, когда всё пробуждалось, цвело, пело и как бы возглашало жизнь. И сирень – темно-фиолетовая, крупными гроздями облеплявшая кусты, пахнущая так, что сердце замирало от восторга, и черемуха, с ее свежим горьковатым запахом, и старые клены и липы с их первыми листьями – всё, всё было полно силы и красоты, и сердце само будто начинало петь. Всего, что росло и жило в саду, просто перечислить было нельзя, да и многого Александр по названиям не знал, особенно цветов, которые выращивал отец. Но то, что растила здесь сама земля уже несколько десятков лет и что в росте этом поддержали люди, – это Александр понимал, знал и любил. Конечно, в любви той он никому бы не признался, потому что умом считал это сантиментами, но когда оставался на веранде один и опускал руку с книгой, и смотрел, и слушал, и видел, и внимал, тогда его сердце переполнялось.
И вот однажды, когда он сидел так и, утомившись, задремал, то почувствовал сквозь сон, как кто-то коснулся рукой его волос. Прикосновение было легким, как дуновение ветерка, но он ощутил его.
Ему показалось, что это она, и сердце сразу проснулось и застучало, и сразу захотелось открыть глаза, но он побоялся. Если она увидит, что он не спит, – убежит сейчас же, немедленно…
«Соловушко мой», – услышал он легкий шепот, и опять рука прикоснулась к нему, а потом тихо прошуршало платье да скрипнула половица…
Он не утерпел и открыл глаза, но платье уже мелькнуло за кустом сирени. Ветка качнулась, с нее упали капли дождя, прошедшего недавно…
Хотелось броситься за ней, догнать… Но нельзя, нельзя, он не имеет права, потому что его ждет борьба, а не тихая семейная жизнь.
«Соловушко мой»…
А ночью он не спал, и соловьи гремели и захлебывались, томились и ликовали, и сад ликовал, и жизнь ликовала…
В это время другой Александр, царствующий, шестидесяти трех лет от роду, старший сын императора Николая I, сидел в кресле у просторного, необыкновенно искусной работы стола. Стол этот удивлял и просторностью, и резными тумбами тисового дерева – тумбы величественно и в то же время изящно опирались на пол и тончайшим сукном, покрывавшим поверхность стола, и множеством бронзовых и золотых принадлежностей для работы, которые стояли на этом сукне. Но не поразительные предметы, не сам стол занимали сейчас императора: он читал донесение министра внутренних дел и шефа жандармов графа Михаила Тариэловича Лорис-Меликова[37]37
Лорис-Меликов Михаил Тариэлович (1825–1888) – российский военачальник и государственный деятель армянского происхождения, генерал от кавалерии, генерал-адъютант. В последние месяцы царствования императора Александра II занимал пост министра внутренних дел с расширенными полномочиями, проводил либеральную внутриполитическую линию, планировал создание представительного органа с законосовещательными полномочиями.
[Закрыть].
В донесении говорилось об аресте заговорщиков и о том, что в засаду, оставленную в квартире номер 11 дома 5/2 по Кузнечному переулку на углу Ямской, ночью попался еще один заговорщик из особо опасных – некто Колодкевич, который давно разыскивался полицией. Теперь можно считать, говорилось в донесении, что главные вожаки организации «Народная воля» находятся в казематах Петропавловской крепости.
Александр II усмехнулся, взял перо и в левом углу донесения начертал: «Браво».
В прекраснейшем расположении духа был в этот момент и полковник Никольский, бодро шагающий по гулким коридорам Петропавловской крепости. Начальник тюрьмы столь же бодро следовал за полковником, а за ними тяжело шел унтер.
– Значит, книги просил? – Никольский остановился перед дверью камеры, в которой сейчас спал Баранников.
– Точно так. – Унтер открыл двойные запоры.
– Темновато, однако. Еще бы лампу.
Начальник тюрьмы, тоже полковник, сделал пальцем движение в сторону, унтер кивнул.
– Сон нарушил? Извините, Александр Иванович. Не знал, что почиваете. Самочувствие, стало быть, хорошее?
– Превосходное.
Александр сбросил одеяло и встал.
– Присесть вам некуда, полковник, кроме как на кровать.
Он застелил тюфяк одеялом.
– Не беспокойтесь, я распоряжусь о стуле. – Полковник улыбнулся. – Как же вам без стула, Александр Иванович? Вам и письма надо писать, и распоряжения… Не так ли?
– Письма – да, а вот какие распоряжения вы имеете в виду, я не совсем понял. В смысле завещательные, что ли?
– Да что вы, что вы, – замахал руками полковник, – я к вам всей душой, а вы… И книги разрешу, и свидания. Можно и камеру другую, где не так сыро, где запашок-с не такой…
Принесли еще одну керосиновую лампу, стул. Полковник приказал как следует протопить печь:
– Видите, как я для вас стараюсь…
– Да ведь не без цели же, – ответил Александр. – Все эти блага, что вы мне посулили, будут исполнены, разумеется, при условии?..
– Приятно говорить с умным человеком. – Полковник вытащил из кармана шинели книжечку. – Не знакома вам сия вещица? Нет? Ее мы реквизировали у друга вашего, Михайлова Александра Дмитриевича[38]38
Михайлов Александр Дмитриевич (1855–1884) – русский революционер, народник, один из членов Исполнительного комитета «Народной воли»; клички: Дворник, Петр Иванович, Безменов, Иван Васильевич.
[Закрыть]. Прелюбопытнейшие тут фамилии записаны, Александр Иванович! Представьте, почти полный список наших секретных сотрудников…
– То есть шпионов?
– Можно и так их назвать, но я предпочитаю название «секретный сотрудник» – звучит благозвучно. Итак, не можете ли вы сказать мне конфиденциально, кто это сообщает господину Михайлову эти фамилии? Учтите, дорогой друг, иных вопросов я вам ставить не буду совершенно… А мы за это постепенно приготовили бы вам оправдательные мотивы… Можно и побег за границу, если желаете… с соответствующим обеспечением… Вы бывали в Париже?
– Я был в Черногории, в отряде Пеко Павловича. Офицером. Также был косарем, грузчиком, молотобойцем. А вот предателем не бывал.
– О ваших военных подвигах нам известно… А вот по поводу предательства, как вы выразились… Тут ведь как посмотреть на вопрос, Александр Иванович. Ради спокойствия народа, который устал, согласитесь, от казней, покушений, ради веры его в Отечество, в его благо вы сообщаете всего лишь одну фамилию…
– Вы так уверены, господин полковник, что в вашей жандармерии служит всего один наш человек?
От столь неожиданного заявления полковник даже рот приоткрыл:
– Я как-то думал… Да неужто не один?
Служил один – Николай Клеточников. Он беспредельно верил Александру Михайлову и по его прямому указанию внедрился в жандармскую службу. Это был первый контрразведчик в русском революционном движении.
Вид у Никольского был столь дурацкий, что Александр не выдержал и рассмеялся.
Полковник этого не вынес и вскочил.
– Мальчишка, – проскрежетал он, – глупый, заносчивый мальчишка! Ты считаешь себя героем? Думаешь, здесь так же, как на поле брани, с шашкой наголо можно вылететь на врага? Да ты знаешь ли, что такое одиночество? Изо дня в день, из года в год? И не какой-то там тебе будет замок Иф, и Монте-Кристо ты никогда себя не почувствуешь, потому что никого с тобой не будет, никого! Ты начинаешь тупеть, дуреть, а холод и эта вонь постепенно будут делать свое дело, как капельки воды; слыхал про такую китайскую пытку, мальчишка? И никакой надежды, совершенно никакой, потому что товарищи от тебя отвернутся: мы им скажем, что именно ты предатель. Думаешь, у нас нет агентов? Думаешь, мы не располагаем сведениями обо всех вас? И по поводу этой книжицы мы тоже получим ответ, потому что человек слаб, слаб, понимаешь ли ты это? Перед лицом смерти слаб, перед болью слаб, перед страхом вечной тоски слаб! А поманим мы деньгами да Парижем, вот и вся ваша стойкость вмиг полетит! Да что ты так на меня смотришь? Думаешь, я тебе поверю, что ты тверд? Теперь и не поверю, теперь и не поманю Парижем. Другого выберу, понятно? Тем более что он уже есть и очень многое нам сказал… Кто? Да скажу, чтобы валялся ты в ужасе, как я уйду: Иван Окладский[39]39
Окладский Иван Федорович (1859 – после 1929) – рабочий-слесарь, русский революционер, член организации «Народная воля», секретный сотрудник Департамента полиции. литературный критик, государственный служащий.
[Закрыть]!
Полковник подошел к двери и окликнул унтера. Тот быстро привел начальника тюрьмы.
– Книг не давать никаких, керосин в вечерние часы по строгой норме. Свидания запрещены, переписка тоже. Особо опасный политический преступник!
И Никольский вышел из камеры.
Закрывая засовы, унтер печально посмотрел на Александра.
Баранников остался один. Сел на железную кровать, закутался в одеяло. Мысль опять заработала…
Значит, пал Иван Окладский. Да, в нем угадывалась нерешительность, даже страх… Или это только теперь так кажется? А если это игра Никольского? Ловушка? Он же сказал, что я буду оклеветан. Теперь мне могут не верить товарищи, даже Михайлов… О Господи, сколько грязи, мерзости можно набросать в душу! Нет, Михайлов не поверит. Но ведь я поверил, что Окладский предатель. Не спешить, не метаться. Идет следствие, и мы обязаны будем увидеться друг с другом – хотя бы на суде.
Во время процесса всё встанет на свои места… На процессе им надо же будет ссылаться на чьи-то показания, и тогда станет ясно, кто предатель… А я показаний никаких не дам. Никаких! Не дам – и всё…
Окладский… Знает ли он о подкопе на Малой Садовой?
Не знает!
А уж о Николае Клеточникове – тем более…
Александр еще раз перебрал в уме всех членов организации, кто участвовал в работе на Малой Садовой.
Нет, Окладский не знает!
Уже хорошо. Уже можно бороться… А смерть? Ее можно одолеть?
Он представил себя в тот момент, когда палач накинул ему петлю на шею. Чуть отошел в сторону, ударил ногой по лавке…
Если петля накинута неверно, смерть наступает очень медленно. Многое зависит от силы падения тела. Он как-то прочел, что самый надежный способ повешения – ирландский: там приговоренного бросают с высоты трех-четырех саженей, и смерть наступает почти моментально от разрыва позвоночника.
Еще он читал об одном немецком профессоре, который изобрел форму повешения. На каждый фунт веса тела надо около дюйма веревки определенной толщины. Но здесь же профессор сделал оговорку: бывают аномалии в крепости связок позвоночника, так что и здесь, при строгом подсчете, возможны отклонения.
До чего педантичен рыцарь застенка…
Александр почувствовал, что покрылся потом. Он встал, растер тело и снова принялся ходить по камере из угла в угол.
Да, наши палачи – это не немецкие профессора. Декабристов повесили только со второго раза – в первый раз оборвались веревки… Не думать, не думать об этом!
Господи, ведь это только первый день в каземате! А сколько их будет всего? И если назначат не смертную казнь, а заключение на пятнадцать, двадцать лет?
Побег, конечно, побег!
И тут он вспомнил рассказы старших товарищей о том, что в тюрьме побеги снятся почти каждую ночь – и год, и два, и три. Сон превращается в постоянную пытку… Перед ним всё более и более открывалась черная, страшная пропасть, и он стоял на краю и собирал все силы, чтобы не полететь вниз.
Опять ему вспомнился Достоевский и давешние свои мысли о нем. Боже мой, да ведь он, кажется, собирался при встрече учить Федора Михайловича… Человека, который прошел каторгу! Нет, не учить, не надо казниться… Просто поделиться мыслями… «А есть чем делиться-то?» – тут же подумал он. Да, наверное, Никольский прав – он еще мальчишка, и не дано ему познать душу человечью, как Достоевскому, например. Да и кому дано, кроме людей особенных, отмеченных печатью таланта? А у Достоевского даже не талант, а что-то большее, высшее…
«Ну, ничего, – успокоил он себя, – вот если пройду и каземат, и каторгу, повзрослею, и тогда можно будет поговорить с Федором Михайловичем… Если доведется встретиться…»