Текст книги "Странствие Бальдасара"
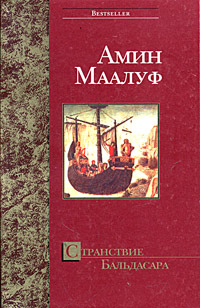
Автор книги: Амин Маалуф
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
Разгуливая вдоль набережной, мы болтали о том о сем, и Георг обратил мое внимание на женщин, которые расхаживали под ручку с мужчинами, смеялись с ними, а иногда клали голову им на плечо; а кроме того, все эти люди, мужчины и женщины, встречаясь друг с другом, начинали целовать друг друга в щеки – два, три, четыре раза подряд, причем иногда почти соприкасаясь губами; меня это не смущало, но должен отметить, что все же это – зрелище необычное. Никогда раньше – ни в Смирне, ни в Константинополе, ни в Лондоне, ни в Генуе – нельзя было увидеть мужчин и женщин, которые бы так свободно беседовали друг с другом на людях, так свободно держались и обнимали друг друга. А мой спутник подтвердил мне, что в своих многочисленных странствиях – от Испании до Голландии, от его родной Баварии до Польши и Московии – он никогда и нигде не наблюдал подобного поведения. Он, как и я, вовсе не осуждал их, но не мог не смотреть и не удивляться этому.
На рассвете, 20 сентября, в понедельник, мы заняли места в почтовом экипаже, соединяющем Кале с Парижем. Возможно, лучше бы мы наняли карету с кучером, как того хотел Георг; мы бы заплатили намного дороже, зато останавливались бы в лучших гостиницах, двигались бы быстрее, могли бы просыпаться, когда хотели, и вести всю дорогу откровенный разговор, как принято между порядочными людьми. Вместо этого с нами обращались как с жалкими голодранцами, кормили отбросами – везде, кроме Амьена, – укладывали по двое на одну кровать на влажные, бурые от грязи простыни и будили до зари; четыре долгих дня пришлось нам трястись в этой коляске, которая больше походила на телегу, запряженную быками, чем на дорожный дилижанс.
В карете одна напротив другой стояли две скамьи, которые были бы удобны, если сидеть на них по двое, а не так, как ехали мы. Стоит только попасться одному или двум полным пассажирам, и всю дорогу придется сидеть друг у друга на коленях. Нас же оказалось пятеро, и если двое из нас могли устроиться более или менее удобно, трое других мучились в тесноте. К тому же только один из нас был хрупкого сложения, тогда как у остальных здоровье било через край. Я сам и раньше-то всегда был здоровяком, а тут еще раздобрел на хмельном пиве Бесс. Георг еще дороднее меня, хотя высокий рост несколько скрадывает его полноту.
Что же до двух наших последних спутников, то мы тяготились ими не только из-за их тучности. Это были два священника, которые без умолку вели бесконечные споры – как только смолкал один из них, тут же вступал другой. Гул их голосов заполнял собой все пространство, воздух настолько сгустился от их криков, что нам нечем было дышать. Мы с Георгом, обычно всегда находившие удовольствие в беседе, теперь только обменивались раздраженными взглядами и изредка слабым шепотом. Хуже всего то, что эти слуги Господни не довольствовались тем, что досаждали нам своими речами, они все время брали нас в свидетели, и отнюдь не для того, чтобы пригласить высказать свое мнение, а так, словно бы оно уже было им известно, и, следовательно, нам вовсе не было нужды выражать его.
Некоторые люди не умеют разговаривать иначе. Я часто встречал таких в своем магазинчике, да и в других местах: они болтают без умолку, требуя, чтобы вы во всем с ними соглашались; если вы только попытаетесь высказать робкое замечание, они все равно останутся в убеждении, что оно лишь подтверждает их слова, и еще больше воодушевятся; чтобы заставить их выслушать противоположное мнение, надо сделаться резким и даже грубым.
Излюбленной темой наших священников были гугеноты. Вначале я не понимал, почему они спорят с таким воодушевлением, ведь оба они придерживались одного мнения, а они считали, что приверженцам Реформы нет места во Французском королевстве и надо изгнать их всех, чтобы эта страна обрела мир и благосклонность Господа.
Что с ними слишком хорошо обращаются, в чем скоро будут раскаиваться, потому что эти люди радуются несчастьям Франции, но что король все же не замедлит разобраться в их вероломстве… Все это произносилось одинаковым тоном, с теми же проклятиями, с теми же сравнениями между Лютером, Кальвином, Колиньи, Цвингли и разными зловредными гадами, змеями, скорпионами и червями, которых следует раздавить поскорее. Каждый раз, как только один из них высказывал свое суждение, другой торопился с одобрением и прибавлял что-то свое.
Понять причины подобных речей помог мне Георг. Во время одного из наших немых обменов взглядами он потихоньку сделал мне знак посмотреть на нашего пятого спутника. Этот человек задыхался. Его впалые щеки покраснели, лоб блестел от пота, глаза неотрывно блуждали по полу или же по ногам. Было совершенно ясно, что его задевали эти слова. Он был из «той самой породы», если использовать выражение наших попутчиков.
Что огорчило и разочаровало меня, так это то, что временами мой баварский друг улыбался жестоким словам, изливавшимся на несчастного гугенота. И в первую же ночь мы с ним серьезно поспорили из-за этого.
– Ничто, – сказал Георг, – ничто не заставит меня заступиться за тех, кто дважды сжег мой дом и послужил причиной смерти моей матери.
– Но этот человек здесь ни при чем. Взгляни на него! Он не опалил и крылышка мухи!
– Возможно, и поэтому я не упрекну его в этом. Но я также никогда не стану его защищать! И не говори мне о свободе и веротерпимости, я достаточно долго прожил в Англии, чтобы понять, что у меня, «паписта», как они говорят, не было ни свободы, ни уважения к моей вере. Всякий раз, как меня оскорбляли, мне приходилось натянуто улыбаться и молча продолжать свой путь, чувствуя себя трусом. А ты, пока ты жил там, разве не испытывал ты все время желание скрыть, что ты – «папист»? А разве никогда не случалось так, что при тебе ругали твою веру?
Он не произнес ни единого неверного слова. И клялся всеми богами, что желает свободы вероисповедания еще больше, чем я. Но добавил, что, по его разумению, свобода должна быть равно дарована как одним, так и другим; так как в порядке вещей, чтобы на терпимость отвечали терпимостью, а на ненависть – ненавистью.
Шел второй день пути, но травля нашего попутчика не прекратилась. И этим церковникам даже удалось втянуть в нее и меня – против моей воли! – когда один из них спросил мимоходом, не думаю ли я, что наш экипаж скорее рассчитан на четырех, а не на шестерых путников. Я поспешил согласиться, радуясь, что разговор свернул на что-то отличное от свары «папистов» с гугенотами. Но тот ухватился за мой ответ и принялся неуклюже перепевать на разные лады, что всем нам было бы удобнее, если бы мы ехали вчетвером, а не впятером.
– Кое-кто в этой стране – лишний, но эти люди этого не понимают.
Он изобразил нерешительность, а потом издевательски уточнил:
– Я сказал «в этой стране», да простит меня Господь, я имел в виду «в этом дилижансе». Надеюсь, это не оскорбит моего соседа…
На третий день наш кучер остановился в городке под названием Бретей и открыл дверцу. Гугенот поднялся и стал с извинениями пробираться к выходу.
– Уже нас покидаете? Вы разве не едете до Парижа? – язвительно осведомились оба священника.
– Увы, нет, – пробурчал тот, выходя из кареты и не удостаивая нас ни единым взглядом.
Он ненадолго замешкался сзади, чтобы забрать свои вещи, потом крикнул кучеру, что тот может трогать. Уже спускались сумерки, и кучер яростно нахлестывал лошадей, ему хотелось добраться до Бове до наступления ночи.
Я вдаюсь во все эти подробности, которым вовсе не место в моем дневнике, лишь потому, что мне нужно описать эпилог нашей тягостной поездки. Прибыв наконец в Бове, мы услыхали громкий крик. Оба наших священника только что обнаружили, что багаж – весь он принадлежал им – упал во время пути. Удерживавшая его веревка была перерезана, а в перестуке колес мы не обратили внимания на шум падения. Беспрерывно причитая, они попробовали уговорить кучера вернуться обратно и проехать по той же дороге, чтобы отыскать свои вещи, но он и слышать ничего не хотел.
На четвертый день в нашей коляске наконец воцарился мир. Оба болтуна ни единым словом не упрекнули гугенота, тогда как у них, кажется, впервые появились основания на него сердиться. Они даже не пытались обвинить его в пропаже, вероятно, потому, что не хотели сознаться, что последнее слово осталось за этим еретиком. Весь день они провели, листая требник и читая молитвы. Разве не так им следовало бы поступать с самого начала?
25 октября.
Сегодня я обещал себе рассказать о моем посещении Парижа, потом – о поездке в Лион, через Авиньон и Ниццу, о том, как доехал до Генуи и как снова оказался гостем у Манджиавакка, хотя в прошлый раз мы расстались с ним не совсем дружески. Но произошло событие, которое занимает сейчас все мои мысли, и не знаю, хватит ли у меня еще терпения возвращаться в прошлое.
Теперь, во всяком случае, я не стану говорить о прошлом – даже о ближайшем. Я напишу только о грядущей поездке.
Я опять увиделся с Доменико. Он пришел навестить своего заказчика, а так как Грегорио не было дома, за столом вместе с ним сидел я. Сначала мы перебирали наши общие воспоминания – ту январскую ночь, когда меня, дрожащего от холода и страха, принесли на борт его судна в завязанном мешке, а в итоге – привезли в Геную.
Снова Генуя. После унижений, пережитых мной на Хиосе, я ждал смерти, но вместо этого очутился в Генуе.
И после лондонского пожара – в Генуе. Всякий раз я вновь оказываюсь здесь, как в той флорентийской игре, в которой проигравшие всегда возвращаются на первую клетку…
Во время нашего разговора с Доменико я почувствовал, что капитан-контрабандист испытывает ко мне безграничное уважение, которое показалось мне чрезмерным. Причина была в том, что я рискнул жизнью ради любви к женщине, тогда как он сам и его люди тоже играли со смертью в каждом плавании, но делали это только ради добычи.
Он спросил, есть ли у меня какие-нибудь сведения о моей подруге, по-прежнему ли она пленница и не потерял ли я еще надежду однажды вновь ее увидеть. Я поклялся, что думаю о ней день и ночь, и где бы я ни был – в Генуе, в Лондоне, в Париже или на море, – я никогда не отказывался от мысли вырвать ее из рук ее гонителя.
– Как ты надеешься этого достичь?
Ответ вырвался у меня прежде, чем я успел подумать:
– Я снова поеду с тобой, ты высадишь меня на то же место, где когда-то подобрал, и я постараюсь поговорить с ней…
– Я снимаюсь с якоря через три дня. Если твои намерения не изменились, знай, что ты всегда желанный гость на моей посудине и я сделаю все, чтобы тебе помочь.
Так как я начал лепетать слова благодарности, он стал преуменьшать свои заслуги.
– В любом случае, если турки в один прекрасный день решат наложить на меня лапу, меня вздернут на кол. Из-за мастикса, который я краду у них целых двадцать лет, презирая все законы. Помогу я тебе или нет, это ничего не изменит, я не дождусь ни их милосердия, ни дополнительной кары. Им не удастся посадить меня на кол дважды.
Я словно опьянел от такой смелости и великодушия. Я поднялся, горячо пожал ему руку, обнял и расцеловал его как брата.
Мы как раз обнимались, когда вошел Грегорио.
– А, Доменико, ты здороваешься или уже прощаешься?
– Это – встреча старых друзей! – сказал калабриец.
И оба приятеля сразу же заговорили о своих делах – о флоринах, тюках, грузе, корабле, об угрозе шторма, о стоянках… А я в это время до того погрузился в собственные мечты, что уже ничего не слышал…
26 октября.
Сегодня я напился так, как за всю свою жизнь никогда не набирался, и только потому, что Грегорио, получив недавно от своего управителя шесть бочек прекрасного вина – со своих собственных виноградников с холмов Чинкветерры, – пожелал немедленно отведать его, а ему некого было пригласить на этот пир, кроме меня.
Когда оба мы уже достаточно захмелели, синьор Манджиавакка вытянул из меня обещание, которое он сам и высказал, но я поклялся его исполнить, положа руку на Евангелие: я поеду с Доменико на Хиос, но если мне не удастся вырвать Марту из рук ее мужа, я откажусь от этой затеи; потом я отправлюсь в Джибле, чтобы привести в порядок все дела, улажу все, что можно уладить, продам все, что можно продать, и оставлю свою торговлю племянникам; наконец, весной я вернусь сюда, чтобы обосноваться в Генуе и устроить пышную свадьбу с Джакоминетгой в церкви Сайта-Кроче, и я буду работать вместе с ним, ведь он станет – на этот раз по-настоящему – моим тестем.
Кажется, что все мое будущее расписано на месяцы вперед – весь остаток моей жизни. Мы с Грегорио уже подмахнули этот договор, но помимо наших подписей, понадобится еще и благословение Небес.
27 октября.
Смеясь, Грегорио откровенно признался, что подпоил меня, чтобы взять с меня это обещание. Мало того, утром ему удалось заставить меня подтвердить мои слова, после того как я уже протрезвел.
Протрезветь-то я протрезвел, но у меня до сих пор еще все как в тумане, и сейчас еще у меня кружится голова и бурчит в желудке.
Какого же дурака я свалял, ведь я собираюсь отплывать уже завтра!
Как можно садиться на корабль в таком виде? Меня уже качает, как при морской болезни! Я еле держусь на ногах, ступая по твердой земле!
А что, если Грегорио просто хотел помешать моему отъезду? От него всего можно ожидать, во всяком случае, меня бы это нисколько не удивило. Но тут у него ничего не выйдет. Я уеду. И повидаюсь с Мартой. И увижу своего ребенка.
Я люблю Геную, это правда. Но я могу любить ее издали, из-за моря, так же, как и раньше, как я всегда ее любил, а до меня – мои предки.
На море, воскресенье, 31 октября 1666 года.
Могучий северный ветер вынес наш корабль к Сардинии, тогда как мы направлялись в Калабрию. Этот корабль несет по волнам так же, как утлую лодку моей жизни…
При входе в бухту нашу посудину с силой швырнуло на берег, и мы опасались худшего. Но ныряльщики, прыгнувшие в воду, освещенную косыми утренними лучами, вернулись и уверили нас, что «Харибда» цела. Мы снова трогаемся в путь.
На море, 9 ноября.
Море все время волнуется, а я все время болен. Большинство старых моряков – тоже больны, если это может служить утешением.
Каждый вечер меня мутит, а в перерывах я молюсь, чтобы погода хоть ненадолго смилостивилась над нами, и вот я узнаю, что Доменико молит о прямо противоположном. Его молитвы, очевидно, звучат громче моих. Он объяснил мне причины своего поведения, и я попробую о них тут рассказать.
– Пока море словно с цепи сорвалось, – сказал он мне, – мы в безопасности. Потому что, даже если нас заметит береговая стража, они никогда не осмелятся броситься за нами в погоню. Поэтому-то я и люблю плавать зимой. Зимой у меня только один противник – море, а это – не тот враг, которого стоит бояться. Даже если море однажды отнимет у меня жизнь, это не такое уж большое несчастье, потому что оно избавит меня от казни на колу, которая ожидает меня, если я когда-нибудь попадусь. Смерть в море – это судьба мужчины, так же как и смерть в бою. А смерть на колу заставит тебя поносить ту, что когда-то произвела тебя на свет.
Его слова настолько примирили меня с волнами, что я пошел на палубу и, опершись о борт, любовался морем, подставив свое лицо влажным брызгам и ощущая на языке вкус соленых капель. Потому что это – вкус жизни, вкус пива из лондонской таверны и вкус женских губ.
Я дышу полной грудью, и ноги мои уже не дрожат.
На море, 17 ноября.
Последние дни я несколько раз уже раскрывал свой дневник, а потом закрывал опять. Из-за головокружения и слабости, мучающих меня еще с Генуи, а также из-за какого-то подобия лихорадки, которые мешают мне собраться с мыслями.
Еще я пытался снова открыть «Сотое Имя», полагая, что, может, на этот раз мне удастся проникнуть в тайну этой книги и она не станет меня отталкивать. Но мои глаза тотчас же заволокло тьмой, и я захлопнул ее, пообещав себе никогда больше не пытаться прочесть ее, если только она сама передо мной не раскроется!
После этого я лишь прогуливаюсь по палубе, болтаю с Доменико и его людьми, которые делятся со мной своими страхами и обучают, как ребенка, показывая мачты, реи и снасти.
Я ем вместе с ними, смеюсь их шуткам, даже если понимаю их только наполовину, а когда они пьют, я тоже притворяюсь пьяным – но я не пью. С тех пор как Грегорио напоил меня вином из своих бочек, я постоянно чувствую слабость, к горлу все время подступает тошнота, и мне кажется, что первый же глоток вина снова свалит меня с ног.
Тем более что его вино было чистым эликсиром, тогда как здешнее похоже на уксус, разбавленный соленой водой.
На море, 27 ноября.
Мы приближаемся к берегам Хиоса – ползком, как охотник, подстерегающий добычу. Паруса приспущены, мачта вывернута из основания и осторожно уложена на палубу, а матросы говорят так тихо, будто боятся, что их могут услыхать там, на острове.
Увы, погода стоит прекрасная. Со стороны Турции выплыло медно-красное солнце, и ветер стих. И только холодный воздух, такой же, как прошлой ночью, остался напоминанием о том, что мы уже на пороге зимы. Доменико решил не двигаться дальше, пока не наступит ночь.
Он объяснил мне, что собирается предпринять. Под прикрытием темноты двое его людей отправятся на остров в шлюпке, оба они греки, но родились в Сицилии, их зовут Янис и Деметриос. Пробравшись в Катаррактис, они свяжутся со своим местным поставщиком, который к тому времени должен будет уже собрать товар. Если пройдет все гладко – мастике уже подготовили и упаковали, а таможенников «убедили» закрыть на все глаза, и если там не пахнет ловушкой, – наши лазутчики сообщат об этом Доменико условным сигналом: в поддень на одном из холмов будет вывешен белый флаг. Тогда корабль сможет пристать к берегу, но только после наступления ночи и ненадолго; мы погрузим товар, расплатимся и удалимся с первыми лучами солнца. А если, к несчастью, белый флаг не покажется, мы останемся дрейфовать в открытом море, надеясь на возвращение наших греков. И если начнет разгораться день, а их все еще не будет видно, мы снимемся с якоря, молясь за их погибшие души. Обычно так все и происходит.
Но на этот раз из-за меня план немного изменится. Доменико предусмотрел эту перемену…
Нет, мне не следовало бы говорить об этом, не стоит даже думать об этом, пока не исполнятся мои надежды, лишь бы только мои друзья не пострадали, пытаясь мне помочь. Пока же я скрещиваю пальцы и плюю в море через плечо, как делает Доменико. И бормочу сквозь зубы, божась, как и он: «Клянусь предками!»
28 ноября.
Мне вспоминается иное воскресенье, когда я молился с таким же пылом.
Ночью мы спустили на море лодку с Янисом и Деметриосом, и весь экипаж провожал их глазами, пока они не растаяли в чернильной темноте. Но мы долго слышали плеск их весел, а ведь Доменико так заботился о тишине.
Поздней ночью, когда я уже лежал в постели, засверкали молнии: двенадцать вспышек подряд; кажется, гроза была гораздо севернее нас и, должно быть, далеко, потому что гром до нас так и не добрался.
Все, кто остался на борту, провели этот день в томительном ожидании. Утром мы ждали, когда поднимется белый флаг; потом, заметив его, ждали наступления ночи, чтобы можно было приблизиться к берегу. Я делил со всеми эту тревогу за наших товарищей, она была и моей, я не мог думать ни о чем другом, каждое мгновение было заполнено ею, но я не осмелюсь доверить свои мысли этим страницам.
Лишь бы только…
29 ноября.
Прошлой ночью наше судно ненадолго вошло в небольшую бухточку, возле Катаррактиса. Доменико уверял, что это совсем близко от того места, куда – почти десять месяцев назад – ему доставили меня в завязанном мешке. Той ночью я слышал вокруг какие-то звуки, но ничего не видел; тогда как сегодня я различал темные силуэты людей, которые появлялись и исчезали, жестикулировали и суетились на берегу и на палубе. И все те январские звуки, которые тогда были мне непонятны, сегодня обрели смысл. Вот сброшен на землю трап; вот привезли товар, а теперь его проверяют и взвешивают; вот поставщик – некий Салих, турок, а может, отступник грек – поднимается на борт, чтобы глотнуть вина и получить свою долю. Наверное, здесь мне надо напомнить, что Хиос – почти единственное место на свете, где есть мастике, но власти заставляют крестьян отдавать им весь урожай, дальнейший путь которого лежит в султанский гарем. Государство установило выгодную для себя цену и платит только тогда, когда ему заблагорассудится, так что крестьянам порой приходится годами ждать положенных денег, – из-за чего в период безденежья они вынуждены влезать в долги. Доменико покупает у них мастике вдвое, втрое, а то и в пять раз дороже официальной цены, и выдает им полную сумму в ту же минуту, как только получает свой товар. Если верить его словам, он гораздо больше содействует процветанию острова, чем правительство оттоманов! Надо ли добавлять, что этот дьявол-калабриец стал для властей врагом, которого необходимо найти, поймать и обезглавить? В то время как для крестьян этого острова, так же, как и для тех, кто обогатился на контрабанде, Доменико – благословение Господне и манна небесная; такую ночь, как сегодняшняя, они ожидают с большим нетерпением, чем Рождественскую ночь; но к этой радости равно примешан и страх: ведь стоит только контрабандисту или его сообщникам попасться с поличным, пропадет весь урожай и целые семьи окажутся обреченными на голод и нищету.
Вся эта суматоха длилась не так уж долго: два-три часа, вряд ли больше. А когда я увидел, как Салих обнимает Доменико на прощание, а потом спускается по трапу, я понял, что мы сейчас отчалим, и не смог удержаться от расспросов, осведомившись у одного из моряков, правда ли, что мы уже уходим. Он лаконично ответил, что Деметриос еще не вернулся и мы будем его ждать.
Почти сразу же я заметил на побережье свет от фонаря и приближавшихся к нам троих мужчин, шедших друг за другом. Первым шагал Деметриос; второго – того, который нес фонарь, и поэтому лицо его было лучше всего освещено, – я не знал; последним был муж Марты.
Доменико посоветовал мне не показываться на глаза и постараться не обнаруживать свое присутствие до тех пор, пока он меня не позовет. Я охотно обещал ему это, тем более что он устроил меня за переборкой, так что я не упустил ни единого слова из их разговора, который велся на смеси греческого и итальянского.
В качестве предисловия к тому, что я собираюсь сообщить, следовало бы упомянуть, что с первых же слов Сайафа стало очевидно, что он превосходно знаком с Доменико и относится к нему со страхом и уважением. Так же как деревенский кюре мог бы относиться к заезжему епископу. Возможно, мне не стоило бы прибегать к такому нечестивому сравнению; я просто хотел пояснить, что в этом таинственном мире царила жесточайшая дисциплина, которая была бы достойна самых почтенных учреждений. Когда какой-нибудь деревенский разбойник встречается с самым храбрым контрабандистом, он поостережется вести себя слишком вольно. А контрабандист поостережется обращаться с ним как с равным.
Нужный тон был задан с первых же слов, когда муж Марты, тщетно дожидавшийся, что хозяин судна объяснит, зачем его сюда привели, в конце концов заговорил сам; и голос его показался мне нерешительным:
– Твой человек, Деметриос, сказал, что у тебя есть груз тканей, кофе и перца и что ты готов уступить его за хорошую цену…
Доменико молчит. Вздох. Потом – так, как швыряют нищему стертую монету – падают слова:
– Если он так сказал, значит, так оно и есть!
Разговор тотчас обрывается, и наклоняться за оборванной нитью приходится Сайафу.
– Деметриос сказал, что сейчас я мог бы заплатить треть, а остальное отдать на Пасху.
Доменико, выждав немного:
– Если он так сказал, значит, так оно и есть!
Сайаф заторопился:
– Он сказал, что есть десять мешков кофе и два бочонка перца, я возьму все. Но что касается тканей, мне нужно сначала их посмотреть.
Доменико:
– Слишком темно. Приходи завтра, посмотришь при дневном свете!
Сайаф:
– Я не смогу вернуться завтра. Да и вам тоже ждать было бы опасно.
Доменико:
– Кто тебе говорит об ожидании или возвращении? Пойдешь с нами в открытое море, утром сможешь проверить товар. Пощупаешь, посчитаешь, попробуешь…
Мне не было видно Сайафа, я только еще более отчетливо уловил нотки страха в его дрожавшем голосе.
– Я не просил проверять товар. Я верю тебе. Я только думал посмотреть ткани, чтобы понять, сколько я смогу за них выручить. Но не стоит труда, я не хочу вас задерживать, вы, наверное, спешите отойти подальше от берега.
Доменико:
– Мы уже отошли от берега.
Сайаф:
– А как же вы собираетесь выгружать товар?
Доменико:
– Лучше подумай над тем, как мы выгрузим тебя!
– Да, а как?
– Я сам себя об этом спрашиваю!
– Я могу вернуться на маленькой лодке.
– Я в этом не очень уверен.
– Меня могут задержать здесь против моей воли?
– О нет! Об этом не может быть и речи. Но не может быть и речи о том, чтобы ты взял одну из моих лодок против моей воли. Тебе придется спросить меня, захочу ли я одолжить тебе одну из них.
– Хочешь ли ты одолжить мне одну из твоих лодок?
– Мне надо подумать, прежде чем я дам тебе ответ.
Тогда я услышал шум короткой стычки и догадался, что Сайаф попытался сбежать вместе со своим сбиром, а стоявшие вокруг матросы быстро их укротили.
В это мгновение муж Марты почти вызвал у меня жалость. Но это была мимолетная слабость.
– Зачем ты меня увозишь? Чего тебе от меня надо? – сказал он, собрав остатки своего жалкого умишка.
Доменико не ответил.
– Я твой гость, ты пригласил меня, а теперь увозишь, чтобы сделать пленником на своем корабле. Позор тебе!
Потом послышались проклятия на арабском. Калабриец по-прежнему ничего не отвечал. Потом он не спеша заговорил:
– Мы не сделали ничего плохого. Мы не сделали ничего большего, кроме того, что делает славный рыбак со своей удочкой. Он забрасывает крючок, и когда вытаскивает рыбину, его дело – решать, оставить ли ее себе или выбросить в море. Мы просто забросили нашу удочку, на которую клюнула жирная рыба.
– Это я – жирная рыба?
– Да, ты – жирная рыба. И я пока не знаю, оставить ли тебя на борту или выбросить в море. Слушай, я позволю тебе выбирать: что ты сам предпочитаешь?
Сайаф ничего не ответил – что он мог сказать, имея такой выбор? Столпившиеся вокруг моряки захохотали, но Доменико велел им замолчать.
– Я жду твоего ответа! Я оставляю тебя здесь или выбрасываю в море.
– Оставляешь здесь, на корабле, – пробормотал Сайаф.
Это был тон смирения, тон капитуляции. И Доменико, безошибочно распознав его, тотчас бросил:
– Превосходно! Тогда мы сможем спокойно побеседовать. Я повстречал одного генуэзца, рассказавшего мне о тебе странную историю. Будто бы ты насильно запер у себя в доме одну женщину и, кажется, ты ее бьешь и плохо обращаешься с ее ребенком.
– Эмбриако! Этот лжец! Этот скорпион! Он крутился возле Марты с той поры, как ей исполнилось одиннадцать лет! Он уже приходил ко мне с турецким офицером, и они могли убедиться, что я ее не притесняю. Впрочем, она моя жена, а все, что происходит под крышей моего дома, касается только меня!
В то же мгновение Доменико окликнул меня:
– Синьор Бальдасар!
Я вышел из своего укрытия и заметил, что Сайаф со своим сбиром сидят на палубе, прислонившись спиной к снастям. Они не были связаны, но их окружала добрая дюжина матросов, готовых смять их, как только они попытаются подняться. Муж Марты кинул на меня взгляд, в котором, как мне показалось, было больше ненависти, чем раскаяния.
– Марта – моя кузина, и когда я увиделся с ней в начале этого года, она сказала мне, что беременна. Если с ней и с ее ребенком все в порядке, тебе не причинят зла.
– Она – не твоя кузина, и с ней все в порядке.
– А с ее ребенком?
– Каким ребенком? У нее никогда не было ребенка! Ты уверен, что говоришь о моей жене?
– Он лжет, – сказал я.
Я хотел добавить что-то еще, но тут у меня закружилась голова и я ощутил какое-то помутнение рассудка, из-за чего мне пришлось опереться о ближайшую переборку. Вместо меня продолжил Доменико:
– ак мы узнаем, что ты не лгал?
Сайаф повернулся к своему сбиру, и он подтвердил его слова. Тогда калабриец постановил:
– Если вы оба сказали правду, завтра же будете дома и я вас больше не побеспокою. Но мы в этом не уверены. Так вот что я предлагаю. Ты, как тебя там?
– Ставро! – ответил прихвостень и посмотрел в мою сторону. Теперь я его узнал. Я видел его однажды мельком, когда приходил в дом мужа Марты с янычарами. Как раз ему-то тогда Сайаф и подал знак привести свою жену, пока я орал и выходил из себя. На этот раз я буду вести себя иначе.
– Слушай меня хорошенько, Ставро, – сказал Доменико, неожиданно гораздо менее спесивым тоном. – Сейчас ты отправишься за кузиной синьора Бальдасара. Как только она подтвердит слова своего мужа, они оба смогут вернуться обратно. Что до тебя, Ставро, если ты сделаешь все, как я сказал, можешь даже больше не подниматься на борт; ты вернешься сюда, на побережье, вместе с ней завтра вечером, а мы придем за вами на лодке; тогда ты сможешь возвратиться к себе и ничего больше не опасаться. Но если, к несчастью, тебя попутает дьявол и тебе стукнет в голову обмануть меня, знай, что шесть сотен семей на этом острове живут теми деньгами, которые плачу им я, и что мне обязаны самые влиятельные люди, облеченные властью. Так вот, если ты окажешься слишком болтлив или исчезнешь, не приведя сюда женщину, ты заплатишь за свое предательство. Удар настигнет тебя с той стороны, откуда ты меньше всего будешь его ждать.
– Я не обману тебя!
Когда лодку со Ставро и тремя матросами, которые должны были сопровождать его до берега, спустили на воду, я спросил Доменико, верит ли он, что этот человек исполнит его просьбу. Кажется, он ему поверил.
– Если он бесследно исчезнет, я ничего не смогу поделать. Но, думается мне, я его напугал. И, сдается мне, я не требую от него слишком большой жертвы. Значит, он скорее всего меня послушает. Поживем – увидим!
Сейчас мы снова вышли в открытое море, и мне кажется, что на острове нет никакого движения. И все же где-то там, за одной из этих белых стен, скрытая тенью высоких деревьев, Марта уже готовится выйти на берег. Знает ли она, что я здесь? Сказали ли ей, зачем ее ведут? Она одевается, прихорашивается, румянится, может, даже укладывает в узелок свои вещи. Что она чувствует: беспокойство, страх? Или она полна надежд? О ком она думает в эту минуту: о своем муже или обо мне? А ребенок, будет ли он с ней? Или она его потеряла? Может, его у нее забрали? Наконец-то я это узнаю. И смогу залечить ее раны. Скоро я все исправлю.
Надвигается ночь, а я продолжаю писать, не зажигая света. Наш корабль осторожно движется к острову, который пока еще далеко от нас. Доменико отрядил на самую верхушку мачты одного александрийского матроса по имени Рамадан: у него самые зоркие глаза во всей команде, и ему поручили оглядывать берег и отмечать любые подозрительные движения. Это по моей вине всем им приходится идти на неоправданный риск, но ни один из них не упрекнул меня ни взглядом, ни словом, ни разу не услышал я недовольного ропота. Бог мой, смогу ли я когда-нибудь оплатить им этот долг?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































