Текст книги "Роман с Полиной"
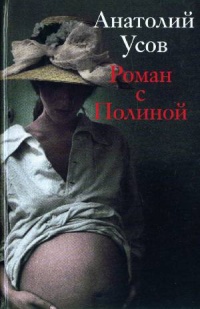
Автор книги: Анатолий Усов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
В первую зону я шел вприсядку. От железной дороги нас везли на машинах, но где-то за километр выпихнули из «воронков», посадили на корточки, руки за голову – так мы и двигались до самых ворот.
Кормить не стали, повели в баню, раздели догола, а была зима. Баня не топлена, воды нет. Два часа мы сидели и ждали на холодных лавках. Потом, когда все посинели, выдали робу: маленьким – большую, большую – маленьким, и не смей меняться. Через каждое слово, конечно, мат. Обращение: «мразь», «падла», «зэчара».
После бани повели в опер-хату. Дали лопаты и метлы – «идите убирайте плац». Один мужик мне сказал:
– Это проверка – будешь работать, блатные в семью не примут, защищать не будут, зато начальство запишет в «актив», станешь лакеем и стукачом.
Начальство я уже ненавидел, работать не стал.
Меня швырнули в ШИЗО. Надели наручники и прицепили за них к трубе – так, что я доставал пол только носками ног и был вытянут, как струна. Пришли двое в масках и стали лупить по почкам и печени.
Вдохнуть надежду в утомленных и поддержать стоящих на краю, думал я, теряя сознание… – это здорово поддерживало меня тогда.
Принесли еду – таз, в тазу вода и капустный лист. Неужели все это правда, думал я, конец ХХ века, Россия, какой Сталин заставляет их так относиться к людям? Дежурный взял с параши комок хлорки и, глядя в мои разноцветные глаза, бросил его в еду. Я психанул, взял тазик и выплеснул ему в прыщавую рожу.
Меня опять били.
«Жизнь хороша, когда ср… не спеша» – любил говорить мой закадычной дружок Юра Воронцов, такой же, как и я, молодой коронованный вор в законе, когда мы с ним после завтрака закуривали по сигарете «Мальборо» и усаживались на очка, чтобы потолковать за жизнь и вспомнить, как молоды мы были, как весело любили, как верили в себя. Было это в №-й зоне Северных лагерей. Где, если вы помните, замначом по воспитанию был полковник Эммануил Зародянский, ныне уже покойный.
На Ворону пытались повесить все убийства в Советской Гавани, где он когда-то жил, хоть он не совершил ни одного, что не мешало ему стать к тому времени, как мы встретились с ним, довольно суровым и жестким зэком. Я любил Ворону, потому что мой папа со своим отцом, моим дедом, которого я любил больше всего на свете, жил в 53-54-55-м годах в Совгавани, которая до революции называлась Императорской Гаванью, и видел там на дне Императорской бухты остатки славного фрегата «Паллада», на котором сто лет до этого знаменитый адмирал Евфимий Путятин и писатель Иван Гончаров, его вы все знаете по его великому роману «Обломов», ходили под парусами в Японию. Это был первый русский визит в Страну Восходящего Солнца.
Если вы будете правильными пацанами, как сейчас, не будете крысятничать и даже без цели, за так, обижать слабых, я расскажу вам, какая большая разница скрывается между нами и желтолицыми, я много об этом кумекал, когда развлекался с этой гулящей женщиной. Так я называю историю. Чье имя Клио.
– Какая у тебя странная фамилия – Осс, ты еврей или немец? – спросила меня Полина.
– Русский. Я абсолютно русский, – сказал я, целуя ее нежную немножко соленую шею.
– Врешь, – сказала она, отталкивая мое лицо от себя и заглядывая мне в глаза.
– Ей-богу, – я поцеловал ее крепенькие ручонки. Она ухватила меня пальцами за губу.
– А почему у тебя тогда фамилия такая – Осс, почти Босс, это чересчур по-немецки, – спросила она.
– Это абсолютно по-русски, – я ухватил ее палец зубами, она попыталась освободить, я сказал: – Не дам.
– Н у, отдай, – сказала она.
– Не отдам, – у ее пальца был странный вкус, будто она только что чистила апельсины.
– Ну и не отдавай, – искусственно зевнула она.
– Поцелуешь, отдам.
Она равнодушно поцеловала меня в переносицу.
– Еще, – попросил я.
– С тебя хватит. А то жирный будешь, – сказала она, ухватив у меня кусок кожи под подбородком и потянув вниз. – Жирный, ты когда будешь говорить правду?
– Всегда – по-другому я не умею…
– Уже врешь, – сказала она своим ангельским голосом.
– Вот б…, – шепотом сказал кто-то в дальнем углу, у параши.
– Цыц! – приказал я.
– Видишь ли, моя дорогая Алина, – сказал я своей любимой подруге, – когда отменяли крепостное право и всем давали фамилии, моя пра-распра-пра-прабабушка Саламонида, как на грех, была очень начитанной девушкой, потому что была подружкой своего помещика графа Урусова.
– Какая мерзость, – Алина брезгливо сморщила свой хорошенький носик, посередине носика у нее притаилась маленькая веснушка, я тут же уставился на ее волосы, да она была рыжевата.
– Какая прелесть, у тебя посередине носа маленькая веснушка, а волосы у тебя рыжие, но ты их зачем-то красишь, – сказал я в ее маленькое бледное ухо. – И в ухе тоже у тебя веснушка.
– Говори по делу, – сказала Алина. – Тебя никогда не учили – делу время, потехе час?
– Час еще не прошел, – сказал я.
– Час прошел, – сказала она.
Я посмотрел на часы. Час, действительно, миновал.
– Жизнь с тобой может пролететь незаметно. А что ты сказала, Алина?
– Я сказала, какая мерзость.
– Да, так ты сказала. Нет, Алина, не мерзость, они были юной красивой парой. Это не то, что «Неравный брак» Пукирева. Ты, наверное, читала, граф Урусов был пращуром Михалковых и Кончаловских…
– Ты опять съехал, ты, наверное, склеротик. Говори, почему ты – Осс?
– Видишь ли, она бредила революциями, справедливостью, как многие в те чистые давние времена, и читала «Овод», это была ее любимая книга, она очень хотела походить на Альваредоса. Или как там его, не помню… Н у, и придумала себе псевдоним Оса, чтобы жалить всех, как овод, и чтобы никто не говорил, что она слямзила у кого-то кликуху.
– Оса это не Осс, мой милый лжец, – Алина накрутила на пальчик конец моего правого уса и потащила, будто пытаясь его оторвать. А мне нравилось. Я был, как собака, как пес бездомный, который готов без устали лизать приласкавшую его ладонь, пусть даже она чуть-чуть пытает, ведь Полина первая и единственная, которую дико и страстно, пусть вот так, кривобоко, любил я. И которая тоже вот так, не очень по-настоящему, но все же может быть хоть чуть-чуть, да любила меня, безумного скитальца вечных дорог.
Там, в дальнем углу, у параши, кто-то тихонько заплакал.
– Тихо, – культурно попросил я, но еще кто-то зашмыгал носом.
– Оса могла остаться осой, – я взял ее слабенькую ручонку и прижал к груди, к тому месту, под которым у меня сильно ухало сердце. – Ты чувствуешь, как стучит мое сердце?
– По делу! – перебила Алина и двинула меня своей прекрасной, словно у Юдифи на известной картине, ногой. Она попала мне в самый пах, но я постарался не ныть.
– Вот б…, – прошептал опять кто-то.
– Убью на хер! – заорал я. – Услышу хоть слово, маму не пожалею!
Там заткнулись.
– …Писарь, – продолжал я, на секунду зажмурившись от тяжелой боли в паху, – который заполнял бумаги, был хоть и пьян, как всегда, не упустил возможность отомстить бабушке, в которую был безнадежно и безответно влюблен, как я в тебя…
Я ожидал, что Алина мне возразит, типа, «почему безнадежно, ты что, совсем съехал?» или «мы же трахаемся, и нам нормально». Или как-нибудь по-другому даст мне понять, что не согласна с этим предположением. Но Алина не возразила, и мне стало так горько, как будто кто-то, в чьей власти все, сказал мне: «Ты сейчас умрешь, потому что ты на земле никому не нужен». Она смотрела на меня прекрасными лазоревыми глазами и молчала, соглашаясь с тем, что я сказал о безнадежной и безответной любви. И еще улыбалась при этом своей прекрасной улыбкой Венеры Милосской.
– Да… – в углу, где лежали передовики лагерного производства, кто-то тяжело застонал.
Я не стал указывать им, я всегда уважал тружеников.
Я помолчал, ожидая, что может быть она и по-другому проявит себя. Но Алина не проявила, и я продолжил трепаться, делая вид, что ни о чем ее молча не спрашивал, и она ничего мне молча не отвечала, и рисуя из себя веселого и достаточно легкомысленного человека, которому все вокруг трын-трава.
– Тоже хитрый зараза, – сказал кто-то, не одобряя меня.
– Нет, пацаны, это все психология и нюансы… учитесь понимать женскую душу, слушайте, ждите, смотрите. И вы чего-то дождетесь. Алина моргнула, а глаза в сторону не отвела. Вы поняли, что это значит?
– Е… меня, а я тебя, – подсказал кто-то.
– Вообщем-то да… хоть конечно и грубо… Одним словом, у меня в душе снова возликовало, ведь она в отличие от той старенькой Саламониды мне отдалась и сейчас подтвердила это глазами, и в глазах ее что-то, кажется, изменилось…
– А писарь? – напомнили мне, потому что я долго молчал, в моей душе плакала и стонала моя память.
– Писарь?.. Писарь подумал, я тебе покажу «оса», дрянь ты паршивая. Он взял и записал в регистрации «Осс», а в конце поставил еще твердый знак и тут же приложил печать. Бабушка поплакала-поплакала, но печать стоит. Тогда это тоже было самым главным.
– Врешь ты все. Ты еще наплети, что она написала «Овод», – сказала тогда Алина.
– Да, «Овод» написала тоже она, у нее тогда был псевдоним Войнич.
– А тебе никогда не казалось, что человек врет, потому что он слаб?
– Мне и сейчас это кажется, – согласился я.
Она легла мне на грудь и уставилась в мои глаза. Тут произошло что-то странное, я поехал в нее, как на метро в тоннель. Или как в лифте. Я проехал ее всю и увидел изнутри ее пятки. Изнутри она была такой же хорошей, как и снаружи. Это меня здорово возбудило.
– Не горячись, – сказала она, ощутив это, – поезд ушел.
– Полина, я вижу изнутри твои пятки… у тебя…
– Так она Полина или Алина? – спросил кто-то из передовиков. – Я что-то не въеду.
– Тихо, Серега, – одернули его соседи, – не ломай кайф. Гони, салага.
– Еще раз соврешь, я нос тебе откручу, – продолжал я, изображая Полину. Она цепко ухватила меня за нос и сжала изо всех сил.
Мне было по-настоящему больно.
– У тебя шрам на правой стопе, – догундел я сквозь зажатый нос, – …будто ты наступила на что. Если нет, я врун. Если есть – все правда, и ты любишь меня, и выйдешь за меня замуж, и мы будем жить долго и счастливо, и умрем в один день в одном месте…
– Ты врун, – сказала она, – у меня нет никакого шрама, – и так крепко сдавила мой нос, что у меня появились слезы, и мне вдруг так захотелось все повторить, что я, братаны, потерял голову. Я снова вошел в нее, она отбивалась, царапалась, орала, как ненормальная, но я вошел. Я, пацаны, доставал ее до самых ее нежных пяток, до тех шрама и родинки, которые я увидел на них изнутри… которых не было на самом деле!
– Молодец, мужик! – заорали пацаны, освободили из штанов свои приборы и начали онанировать.
Мне стало дурно, я еле удержал рвоту во рту, подбежал к параше, столкнул с нее какого-то мудака и выблевал в нее все, что сегодня ел. До чего же мне стало мерзко, будто я подстелил мою дорогую девочку под этих вонючих гадов. Я не хотел дальше рассказывать, но «смотрящий» велел продолжать, чтобы «пацанам было красиво кончить».
– На х… козе баян, – возразил я «бугру». – Заяц трепаться не любит. Я всегда говорю только правду.
– Вали правду.
Да, что было потом?..
Заявился с работы ее пахан. Он оказался совершеннейшим алкоголиком. Он притащился с дружбанами и все матерился там, за стеной:
– Где, блин, педьмени, да где, блин, педьмени…
И пока он искал свои раздолбанные пельмени, а Полина лежала, повернувшись ко мне спиной, я понял ее насквозь. Понял, какими трудами стоило бедной девочке, у которой мама умерла от горя, когда доченьке было семь лет, не потеряться в жестоком мире, окончить педагогический университет, одеваться всегда в чистенькое, казаться богатенькой и веселой. А тут я, как Гаврила, со своей убогой елдой и поносной любовью! Дайте финарь, я зарежу себя!..
Правда, было у ее предка понятие, он никогда без спроса не входил в ее комнату и никого не пускал в нее.
Она проводила меня по общему коридору, по которому из общей кухни и общего туалета навстречу нам валили сотни людей. Одни несли кастрюли и сковороды. Другие – сиденья от унитазов. Демонстрируя этим основной смысл жизни и круговорот всего…
На улице мы чуть-чуть отдышались. Я набрался дерзости и сказал то, что было в ту минуту абсолютной истиной:
– Полина, я очень, очень и очень люблю тебя.
– Я тебя ненавижу, ты употребил меня, как дешевую шлюху, – сказала она.
Это было неправда, она не ненавидела меня. По тому, что я узнал про нее и что понял, такие люди не могут кого-нибудь ненавидеть. Она ненавидела только то, что я раскрыл ее тайну. Но это очень часто бывает самым главным моментом.
Она проводила меня до самого пешеходного перехода. Прощаясь, она сказала:
– Жаль, конечно, что ты не еврей и не немец, могли бы уехать с тобой в Германию или вообще во весь мир… ты все-таки не такой плохой, каким кажешься…
– Я и немец, и еврей, на трубе играю, на машинке строчу и на поле жну, – сказал я, – а мир вообще исстрадался без нас.
Но уже было поздно.
– Я так и знала. А ты так ничего и не понял, – Полина прижала палец к своим губам, а потом к моим, я снова ощутил одинокий запах очищенного апельсина. – Ты больше не увидишь меня. Прощай навсегда, на веки вечные…
– Вот б..! – взорвалась вся пересылка.
– Ша, пацаны, не б…, и вы увидите, это законная баба!.. А кто еще скажет про нее поганое слово – глаз на жопу натяну. И кончайте, суки, наконец, онанировать! Не воображайте, что вы трахаете ее…
Конечно, так нагло умные мужики на хате себя не ведут. Но разве я был когда-нибудь умным? Это счастье не для меня.
– Крутой, но не круче горы, – ответили пацаны и стали меня…
Отходив так, что я потерял сознание, они накачали меня в бессознанке водярой и сделали на груди наколку «Нет счастья в жизни».
Я не хотел терпеть такой коренной беспредел. И хотя в душе был всегда уверен, что его, счастья, в жизни все-таки нет, я уполз в сортир, едва только пришел в себя.
В сортире из толчков выметалась пурга. Жестяной абажур тусклой лампочки бился о потолок. За дощатыми стенами завывал ветер Арктики. Я, теряя сознание от боли и приходя в него от холода, выдавливал по свежей ране тушь и перекалывал «Н» на «Е», «E» на «С»… чтобы было «Есть Счастье в жизни»… Зачем я делал это тогда? – Наверное, потому, что всегда был упрямым, это, во-первых. И потом у, как это ни романтично звучит, мне иногда, если я вспоминал Полину, казалось: есть счастье в жизни – это любовь.
Вернувшись в сознание в какой-то третий или десятый раз, я увидел напротив себя, прямо у своего лица сидящего на толчке старика. Старик был такой худой, что его щеки касались друг друга внутри беззубого рта.
Снег выметался из-под тощей задницы старика густым белым облаком и тут же смешивался со струями темно-вишневой крови, которой ходил этот старик. Ему было больно, лицо страдало и покрывалось потом, из беззубого с синюшными губами рта шел тяжелый нутряной стон.
– Мужичок, кто тебя так уделал? – он хоть и старый, и ему пора давно отдавать концы, мне стало жалко его.
– Ты неправильно понял, зэка, – старик раздвинул ворот шикарной рубахи, на его ключицах синели две восьмиконечных звезды. – Я Жора Иркутский. А ты кто?
Я был, конечно, новый на зонах, но даже я знал, что Жора Иркутский смотрит за всеми лагерями на Севере.
– Я Толька Осс, статьи ….. … лет без пораженья. Извините, я думал…
– У тебя неправильные понятия о жизни. Первое, нельзя на зоне старшему задавать вопросы. Второе, нельзя никого жалеть. Третье, нельзя смотреть, кто чем серет… За нарушение каждого закона на зоне – кирдык.
Из-за спины кто-то схватил меня за подбородок жесткой заскорузлой рукой и так высоко задрал голову, оголив и выгнув дугой шею, что я испугался – вот думаю, и пришла гусиная смерть, сейчас полетят шейные позвонки и будет счастье, если я сразу умру. К шее, к тому месту, под которым пульсирует сонная артерия, он приставил заточку. От его рук пахло острым дерьмом, паршивым табаком и нутряным салом.
– Что касается сути вопроса, моей жопы никто не касался, чего искренне желаю твоей, – прогундел Жора Иркутский.
Я скосил глаза, чтобы видеть его лицо и чтобы понять, что надо такому большому уважаемому здесь человеку от такого ничтожного гнома, как я.
– Зачем портишь правильную маляву? – спросил старик, имея в виду наколку, что сделали мне.
Я попытался объяснить, почему. Мое объяснение в разумных глазах, конечно, казалось глупым.
– Счастья нет. Любви нет. Баба – не человек, – объяснил мне суть моих заблуждений Жора Иркутский. Из его истерзанной болезнью прямой кишки, наконец, вместе с кровью вывалилось немного дерьма, ему, видимо, полегчало, он вытер пот со лба поданным шестеркой вафельным полотенцем.
Стройный вихлястый парень принес парашу с теплой водой. Жора сел в нее голым задом. Другой шестерка принес жаровню типа той, над которой жарят шашлыки. В жаровне мерцали угли. Шестерка раздул их, набросал из мешочка сушеной травы, заклубился обильный дым. Шестерка водрузил на жаровню что-то типа большой воронки с сиденьем над горлышком. Первый шестерка отер Жоре тощие маслатые ягодицы махровым полотенчиком. Жора сел на сиденье над горлышком, втягивая дым больным задом. Шестерка накинул на Жору большой овчинный тулуп, в каких сидят над проволокой часовые, закинул одну полу на другую.
– Жора, его пришить, а то у меня уже рука затекла? – спросил хриплый голос того, кто выгнул мою шею дугой и держал упертую в нее заточку.
– Потерпи чуток, мы еще побазлаем, – Жора закурил «мальборо», предложил мне. Я никогда не курил, но решил попробовать перед смертью, что это такое.
Жоре стало совсем хорошо. Он протянул красивую длиннопалую руку, шестерка поставил в нее флакон с коньяком. Жора сделал хороший глоток и дал глотнуть мне. Коньяк мне понравился, я подумал, все равно пропадать и выпил все. Тот, кто держал меня за подбородок, застонал, должно быть, от горя и так сильно выгнул мою бедную шею, что там хрустнуло.
– Он убьет меня, – простонал я.
– Он знает свое дело, – довольно хмыкнул старик. – Ты резвый парень.
– Нет, – возразил я. – Это от комплексов, я боюсь показаться трусливым и поэтому всегда хамлю.
– Хрен с ним, с этим Фрейдом, мне он до фени, – старик посмотрел на белые пятна под ухоженными ногтями и посчитал пальцы, видимо, что-то загадывая. – Значит, ты тот самый парень, который уложил передовой отряд торговцев дурью?
Мое нутро похолодело и опустилось в ноги. Ноги задрожали и стали слабыми, я скосил глаза, чтобы увидеть чего он хочет. Его рот улыбался, из прищуренных страшных глаз шла непоколебимая сила. Мне стало понятно, почему именно он правит всеми северными лагерями.
– С чего ты взял, мне даже не шили такое? – независимо от меня ответил мой пьяный и дерзкий голос. Жесткая рука еще крепче сжала мой подбородок и еще круче выгнула мою нежную шею; знал бы я, как сложится жизнь, не в университет бы ходил, а в подвалах качался.
– Что тебе шили? – спросил голос Жоры Иркутского, теперь, как ни косили глаза, я не видел его.
– Что было, – ответил мой голос.
– А что было? – терпеливо спросил голос Жоры Иркутского.
– Что шили, – ответил я.
– Ты, сучий потрох, с кем колеса разводишь? – сказал за спиной этот паршивый хмырь и надавил заточкой сонную артерию на моей шее.
– Это не он говорит, это говорит его страх, – сказал голос Иркутского. – Отпусти его харю, а то я не вижу глаза, у меня есть вопрос.
Жесткая сильная рука отпустила мой подбородок, я оглянулся и посмотрел на него, да это был настоящий горилла. Он сделал грязными сильными пальцами «козу».
– Выбью, – сказал он.
Мне очень хотелось плюнуть в его жестокую морду, но я подумал, действительно, выбьет, что-то не хочется умирать слепым.
Жора Иркутский закурил новую сигарету и дал закурить этому диплодоку.
– Ты понял, почему братва засадила тебя на общую за угон, а не упекла на спец за покушение на своих достойных братанов? – мне он почему-то не предложил сигарет у, ну и хрен с ним, подумал я, а также все северные сиянья на свете. Навек закрылось мое сердце, не быть мне мужем и отцом.
– Я понял, – ответил я. Я смотрел в его жесткие непроницаемые глаза вышедшего на охоту зверя и мне, действительно, многое становилось понятным.
– Ты правильно понял. Ты будешь «петух на зоне». Будешь спать у параши. Жрать только объедки. Любой будет иметь твою задницу. Каждую минуту ты будешь жалеть, что мама родила тебя.
– Этого не будет, – упрямо ответил мой голос. – Я убью каждого, кто полезет ко мне.
– Убей его, он только один, – сказал Жора Иркутский, задумчиво кивнув на того, кто стоял за моей спиной.
Я собрался и со всей силой двинул громилу локтями в бока. Тот засмеялся и сдавил мою шею, обхватив ее левой рукой. Я обмяк и почти потерял сознание. Горилла освободил захват и дунул в мое лицо своим зловонным дыханием. От этой ужасной вони я тут же пришел в себя.
– А их будет много. Тебя придушат влажным полотенцем, ты расслабишься и обмякнешь. Твоя жопа станет влажной и нежной…
Я молчал, я думал, сейчас как следует соберусь, сгруппируюсь и обеими ногами так садану старика в его беззубую морду, что тот, кто сзади, тут же убьет меня и я умру не униженным. Навек закрылось мое солнце, не быть мне мужем и отцом – да, так пели зэки в те времена, когда на Сахалин ездил за туберкулезом молодой земский врач Антон Павлович Чехов. Только я успел чуть-чуть собраться, этот всесильный старик спросил меня:
– Николай Осс сорокового года рождения кто тебе?
– Отец…
С этой минуты мое положение круто переменилось, на хату я вошел смотрящим бугром. С другой хаты к нам перевели двух жилистых ловких парней. Парни спали по очереди. По очереди один из них был неотлучно при мне.
«Замочить» их никто не смел, это были доверенные люди самого могущественного человека в Арктике Жоры Иркутского. Я правил твердо и справедливо. Через полгода меня короновали «вором в законе» и накололи две роскошные звезды на моих ключицах. Мастера обмотанной ниткой иглы и пузыря с тушью подправили маляву на моей груди, закрыв орнаментом на тему «один день в России» получившиеся огрехи.
Теперь у меня красовался роскошный текст «есть счастье в жизни – это любовь» в окружении самых невероятных и вероятных способов этой самой любви, совершаемой 37-ю народностями России.
Еще через полгода меня перевели на другую зону. Там я стал смотрящим уже по зоне. Если перевести на военный язык, это скорее всего генерал. «Хозяин» советовался со мной через день, «кум» был на посылках.
Когда-то очень давно, когда отца посещало хорошее настроение и жизнь его не была столь паршивой, а работа была уважаемой и высокооплачиваемой – одним словом, когда мы были покойны и счастливы в своем застое, как жабы в болоте, отец рассказывал мне о своем детстве.
Оно было печальным. Отец рос длинным и близоруким. Его дразнили: «глиста», «дядя, достань воробушка», «фитиль». А тех, кто это делал, отец не видел. И ему казалось, что это делали все, что это весь мир отвергает его.
Он прятался от людей, ходил в школу окольными путями и не заметил, как ему исполнилось пятнадцать с половиной лет и он превратился в высокого, стройного, атлетически сложенного юношу с черными волосами, голубыми глазами, красивыми и мужественными чертами лица.
Как раз в это время его отцу, а моему любимому деду, наконец, здорово повезло: его перевели с большим повышением по службе в базовый район залива Святого Владимира.
Здесь было отлично. Никто не дразнил его, будто все сговорились удержать Колю от самоубийства, о котором он все чаще подумывал… В этом чудесном месте все искали дружить с ним, подходили знакомиться, расспрашивали, кто он такой, откуда прибыл, каким видом спорта занимается, чем интересуется в жизни, кем хочет стать.
Здесь в первое утро, когда он пошел в школу и перепрыгивал через канаву, папа встретил девушку, которая перепрыгивала через канаву навстречу ему. Они ударились друг о друга, потому что оба были близорукими и оба стеснялись носить очки. Они упали в канаву нос к носу и увидели, как они красивы.
Так случилось, что это была самая красивая и самая умная девочка базового района. Они познакомились и стали дружить. Мне всегда хотелось, чтобы папа, наконец, сказал: «Это была твоя мама». Но папа так и не сказал это.
Папа в этом месте всегда замолкал и молчал очень долго. Ему чудилось, как они, рослые девятиклассники, кричат на классном часе, обсуждая маршрут летнего похода по следам Арсеньева и Дерсу Узала. Ведь это был Дальний Восток, до Сихотэ-Алиня рукой подать, он начинался тут же за окнами, там, в тайге, цвел виноград и ревели тигры.
Здесь, в этом прекрасном, любимом богами месте, мой отец чуть не стал поэтом, он просыпался ночью в слезах; папа никогда не плакал от обиды и боли – он плакал от счастья, что в жизни все так хорошо и красиво складывается, и писал до рассвета стихи. Он похудел, в его дневнике появились тройки, мама устраивала ему скандалы, но папа ничего не мог с собой сделать.
…Однако в России счастье не бывает долгим. Всегда находится реформатор, который способен испортить все, что успело хоть как-то сложиться и кое-как притереться после усилий предыдущего реформатора. В тот момент им оказался некий Хрущев, маленький, лысый, крикливый, с большими претензиями и большим животом. Первым делом он сократил армию и флот, убрал из них поколение победителей, оставшихся в живых после той страшной мировой войны, которая у нас известна как Великая Отечественная. Отец моего отца, мой любимый дедушка, был в их прекрасном числе…
Там же в этом чудесном месте, где рос в тайге виноград, где медведи лакомились дикими грушами, а уссурийские тигры жрали пятнистых оленей, у папы был друг, ровесник и одноклассник Николай Головин.
Он тоже был в каком-то роде изгоем. Нет, он не был длинным и близоруким, с этим у него был полный порядок. Он был некий уникум, н у, к примеру, не видел никогда железной дороги, а также трамвая, троллейбуса, унитаза. Но это не самое главное, что отличало Головина от других, – здесь жило полно народу, который никогда не видел унитаза, водопровода и ни разу в жизни не садился в троллейбус, автобус или трамвай. А о том, как выглядит железная дорога, знал лишь теоретически.
Главная его особенность состояла в том, что Коля был «пиджаком», т. е. у него не было отца, служившего в Вооруженных Силах. Как не было, впрочем, и любого другого.
Причем он не был сиротой в общем понимании, просто не было в мире никогда ни одного человека, который бы вдруг откликнулся, скажи Коля «папа». Когда он был маленьким, он влезал на самое высокое дерево на вершине самой высокой сопки в округе и часами кричал: «папа! папа!» Однако папа не появился.
Колина мама тоже не была военной, как, к примеру, у Таранца, она работала вольнонаемной уборщицей в политическом управлении базового района.
Конечно, народ в этом месте жил добрый и чуткий, но с Колей никто особенно не дружил, хотя никто и не гнал его от себя. Это скорее всего происходило из-за того, что всемогущий в будущем Жора Иркутский никогда ни к кому не набивался в друзья. А вот с папой они почему-то сразу сдружились. Каждый из них обрел в лице тезки друга в первый, а может быть и в последний раз в жизни.
Потом Коля стал Жорой, так сильно подействовали на него те блага цивилизации, которые он увидел, когда базу здесь сократили и он с мамой вынужден был перебраться во вполне бандитский шахтерский поселок Сучан, где у мамы жили какие-то дальние родственники из нивхов. Наверное, он хотел, чтобы тот честный и благородный отрок Коля остался сам по себе и жил своей собственной честной жизнью в чьей-нибудь памяти.
«Кум» моего лагеря, где я сидел смотрящим, пригласил меня к себе в оперативную хату. Он разлил водку по двум маленковским[7]7
Тонкостенные стаканы емкостью около 250 мл, появившиеся в продаже и употреблении в 1953–1955 гг., когда председателем Совмина СССР был Г.М. Маленков, обвиненный потом Хрущевым во многих грехах, скорее всего не за эти стаканы, а может быть и за них тоже.
[Закрыть] стаканам, напахал сала большими ломтями, достал из сейфа банку с маринованными огурцами. Мы подняли стаканы и сдвинули разом.
– За все хорошее, Николаич. Ты правильно смотрел за плебсом, мне было удовольствие с тобой работать.
Я подумал, кум не прост, не по дури ляпнул о настоящем в прошедшем времени, мне сидеть еще восемь лет, под амнистию мои статьи не подпадают, значит, кум что-то задумал, значит, надо его опасаться. Но по нажитому долгим опытом правилу виду не показал, что о чем-то подумал, и ответил как надо, то есть никак:
– Будь здоров, Евгеньич.
Мы выпили еще по стакану. Потом оделись потеплее, вышли из хаты, сели в вездеход с уже разогретым мотором и насухо протертым ветровым стеклом и поехали за 70 км в поселок, где жили расконвоированные алмазодобытчики, чтобы, как сказал кум, проверить в настоящей больничке не балуется ли тубик, который я нажил в 93-м в Бутырке и который давно вылечил.
Я подумал, что-то ты врешь, что-то у тебя морда сегодня кирпича просит. Что-то не взял ты с собой водилу и конвойного с автоматом, хотя конвойного обязан взять, не хочешь, видно, посторонних глаз и свидетельских показаний. Значит, хочешь ты меня по дороге пришить. А так как по собственной прихоти людей с таким положением, как у меня, мочить никто не посмеет, значит, почему-то братки сдали меня. Видимо, героиновая наркомафия проплатила мою безвременную кончину.
Ну что же, подумал я, я многое уже испытал и многое успел увидеть. Наверное, на мою долю хватит. Я сразу же ощутил себя вернувшимся из полета. Как долго не было меня здесь. Все соскучились обо мне. Я красиво посадил аппарат на три точки и спустился в лифте на землю. Солнце светило как всегда ярко и сбоку. Тепло пахло хвоей и листьями. Встречать нас пришла, кажется, вся колония, и среди них стояла та, кто сильнее всех любила и ждала меня. Как давно я не переживал эту радость всеобщей любви. Как хочу навсегда вернуться в нее и узнать, наконец, что будет потом, после того, как меня встретили… Значит, пришло время, значит, пора, пусть опер сделает, что должен, я не буду мешать…
За воротами и колючкой, у магазина, в уазик подсел мужичок одних со мной лет такого же высокого роста и такого же посредственного телосложения. Он открыл кожаный «дипломат» и достал бутылку с водкой. Мы раздавили ее на троих. «Подельник», – подумал я про этого вольного мужика.
Евгеньич, в нарушение всех инструкций и правил, сам крутил баранку по завихряющейся поземкой дороге. А я думал на тему, когда буду уходить отсюда, кто за мной придет, какой ангел и куда он меня отправит? По всему выходило, что ангел черный и отправит, скорее всего, в ад. Мы распили еще один пузырек и закусили бутербродами с нельмой, которые прихватил вольняшка.
Евгеньич остановил машину. Я посмотрел на спидометр, мы отъехали от зоны 36 км. Я подумал, шестью шесть тридцать шесть, не попасть бы мне с этими шестерками куда-то похуже ада и попросил отъехать еще чуть-чуть.
– Самая пора немного отлить, – возразил Евгеньич. – Как ты считаешь, Юрок?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.




![Книга YE [VNUX] автора Марк Трахтенберг](/books_files/covers/thumbs_100/ye-vnux-264816.jpg)



































