Текст книги "Битва под Острой Брамой"
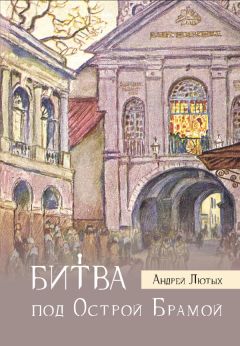
Автор книги: Андрей Лютых
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Глава 18
Древние традиции литвинов
– Что вы думаете делать дальше, поручик? Не опасно ли нам здесь оставаться? – спросил Княжнин у Гарновского, так как на военных советах в российской армии принято было выслушивать мнения, начиная с младших по чину.
Щеки поручика Гарновского по-прежнему расцвечивал румянец, только теперь его оттенок казалась не агрессивным, а, наоборот, добрым – бешеный сполох сменило ровное уютное тепло.
– У нас есть древняя традиция: разбив врага, воин литвин должен еще три дня и три ночи оставаться на поле боя, показывая, что он снова готов сразиться, – только тогда его победа считалась полной и безоговорочной, – с улыбкой сказал Гарновский. – Три дня торчать здесь нам с вами, конечно, не позволит служба. А вот никуда не уходить до утра – такое мы можем себе позволить.
– Ей-богу, красивая традиция! Хотя с точки зрения стратегии трехдневное бездействие вряд ли полезно: можно утратить все плоды победы. Но вы правы, поручик! Ужасно хочется есть. К черту фасоль! Корчмарь, что ты там говорил про гуся? Твоя Соломея еще не слопала его с перепугу? Неси! Все одно уж, разговелся. И ежели бы еще у тебя нашлась такая же зубровка, какую нам наливали в Варшаве на Пивной улице…
– Дозвольте уж я как человек, лучше знающий здешние шинки, выберу для нас напиток из имеющихся в корчме, – вмешался Гарновский.
На это капитан-поручик легко согласился. Настроение у него с каждой минутой делалось лучше и лучше, как у человека, получившего удовольствие от хорошо выполненной любимой работы. Покопавшись в собственной памяти, Княжнин решил, что последний раз схожий подъем он чувствовал еще в феврале, когда ему удался отменный парад-рипост против маэстро Лафоше. В таком настроении, да еще когда полный под самое горло графин уже водружен на стол, важно было не поддаться опасной эйфории. Поэтому первым делом были приняты меры предосторожности. Когда рядом с графином крамбамбули поставили гуся, Княжнин оторвал от него ножку, аппетитно капнувшую жиром на тут же подставленный широкий ломоть хлеба, и протянул этот съестной припас Андрюхе.
– Держи, герой! – сказал он мальчишке совершенно серьезно. – Ты уже немного поспал по дороге, так что придется тебе нынче еще послужить. Ступай во двор да гляди во все глаза и слушай: не едет ли сюда еще какая свора вроде тех, что мы уложили в клеть. Держи пистолет и, ежели что, пали в воздух – мы с поручиком тут же изготовимся к бою. Понял?
– Будьте покойны, барин, кушайте себе, – спокойно ответил Андрюха. Кажется, настоящий заряженный пистолет вдохновлял его в эту минуту даже больше, чем вкуснейшая гусиная нога.
– И вы знаете, поручик, я в самом деле сейчас буду чувствовать себя покойно, – признался Княжнин, когда Андрюха вышел из шинка и заступил на караул.
– Славный мальчишка. Не каждый опытный солдат так бесстрашно повел бы себя в настоящей схватке, – согласился Гарновский.
– У ребенка нет еще правильного чувства опасности. Я, конечно, не должен был подвергать его такому испытанию. Однако, слава богу, все обошлось. Конечно, не исключено, что Кадлубский приготовил еще засаду на моем пути в Вильно. Но ежели там меня ждут, то ждут теперь. Посему правильно будет последовать вашей славной литвинской традиции и спутать неприятелю карты. К столу, поручик!
Первым делом выпили за встречу.
– Я здесь из-за своей командировки в Шавли, а вас что привело в эту корчму? – спросил сразу немного размякший Гарновский.
Княжнин ответил с деланной строгостью:
– Сие великий секрет! Видите, я даже переоделся, дабы оставаться инкогнито…
Тут же с улыбкой инкогнито добавил:
– Да ведь все просто: меня отправил сюда полковник Кадлубский. А подлинную цель командировки я и сам только что узнал – остаться тут навсегда.
После второй чарки беседа потекла легко и приятно, после третьей любые темы перестали быть щекотливыми.
– Было весьма благородно с вашей стороны вступиться за честь пани Ядвиги, – сказал Княжнин. – Неповторимая женщина. Умная, непосредственная и красивая, конечно. Что-то выделяет ее среди всех прочих. И не только игра на виолончели, хотя это у нее получается божественно красиво.
– А то, что о ней говорят в связи с вашим генералом… Поверьте, она не заслуживает упрека.
Княжнин взглянул на Гарновского вопросительно, но молодой человек даже не понял, что мог сейчас показаться излишне осведомленным. Тем более собеседник сразу с ним согласился:
– Конечно же. Все это не более чем игра, понтирование… А причина, скорее всего, в складе характера пана Константина. Такой женщине, как пани Ядвига, должно быть, наскучили его вечная хандра и раздражительность.
За столетия, на протяжении которых существует традиция весело проводить время за столом, у больших и узких мужских компаний практически не поменялась очередность смены тем. За женщинами следовала политика. Потом при неизысканном качестве напитка и противоположности политических предпочтений собеседников могла следовать драка. Но, как известно, наши герои этим уже натешились. При этом на корчмаря произвели сильное впечатление. Поэтому крамбамбуля, которую выбрал Гарновский, была отменной, закуска – подобающей, а самое главное, оба пьющих умели благоразумно придержать лошадей, когда разговор подходил к опасному рубежу. Такому, например, как спор о том, случайно или неслучайно Костюшко с вооруженными косами крестьянами несколько дней назад побил российские войска под Рацлавицами.
Политика вклинилась в их разговор, когда Княжнин и Гарновский стали искать причину, из-за которой у пана Константина случается такое скверное расположение духа, что он может запросто разломать о чью-то голову дорогую виолончель. Тут мнения несколько разошлись. Гарновский говорил, что после того, как политики так жестоко надругались над их отечеством, такое же скверное состояние у всякого поляка и литвина.
– У всякого, да не всякого, – возразил Княжнин. – Что-то не замечал я неизбывной тоски в глазах и у вашего славного гетмана, и у вашего начальника полковника Ясинского, и у всех тех вечно пьяных шляхтичей, которых вдоволь довелось повидать. А у пана Константина душа болит, потому как совесть у него имеется, и она не совсем чиста.
Гарновский, выпив еще немного крамбамбули, продолжал стоять на своем:
– Даже вдовы не вечно же ходят в трауре. Вы, капитан-поручик, можете не замечать, но рана в сердце есть у каждого поляка. У одних она почти зарубцевалась, у других еще кровоточит. Одни лечат ее вином, другие занимают себя делом.
– Хорошо, коли есть такое дело, коим можно себя полностью занять, – грустно проговорил Княжнин, выделывая пальцами, вооруженными гусиной косточкой, все фехтовальные защиты одну за одной. Наконец, косточка полетела в тарелку. – Скажите, поручик, было ли у вас когда-нибудь желание плюнуть на все и оставить службу?
Все верно: следом за политикой, которую, слава богу, проскочили быстро, мужские компании обсуждают службу.
– Было, и еще какое! – признался Гарновский. – Два года назад, когда мы воевали с вами, готовы были умереть, но король решил, что вернее полагаться не на наше мужество, а на милость вашей надменной царицы, и велел нам сложить оружие. Многие тогда так и сделали – оставили службу. Как я завидовал тем, кто может позволить себе сделать подобный жест!
– А вы не могли?
– Наверное, мог. Но не сделал. Не хватило духу…
– Однако же вы не впадаете по этому поводу в меланхолию, как пан Константин. Вы сумели занять себя делом. Вы находите какие-то ценности, которые важнее политических разочарований. Как, положим, память о вашей рыцарской школе. Я ведь, признаюсь, ваш рыцарский перстень, который по-прежнему у вас на пальце, принял было за признак вашей принадлежности к заговору. Начитался всякой чертовщины, коей меня снабдили в Варшаве… Вот из-за того, друг мой, что меня, офицера, хотели заставить то заговоры разнюхивать, то вовсе любовные послания носить, мне и хотелось оставить службу.
Княжнин, высказывая наболевшее, кажется, не заметил, что то ли от упоминания о заговоре, то ли от того, что капитан-поручик назвал его другом, Гарновский вдруг покраснел еще гуще. Впрочем, это можно было просто списать на воздействие крамбамбули.
Прибежал Андрюха, доложил, что привезли доктора. Княжнин и следом за ним Гарновский легко поднялись из-за стола. Лекарь был старый, не слишком трезвый и не слишком опрятный, больше похожий на коновала. Княжнин допустил его обработать рану Гарновского только после того, как убедился, что старый еврей дело знает, зашивая раны, стежки кладет не слишком аккуратные, но быстрые и надежные, при этом внимания на стоны и крики пациентов не обращает, знай бормочет что-то себе под нос. А пулю из ноги егеря извлек вообще очень ловко, будто делал эту процедуру чаще, чем обрезание.
Егеря и ротмистра Дубицкого, пострадавших сильнее других, доктор предложил увезти с собой, чтобы полечить их еще дватри дня. Княжнин отпустил их с богом, а Дубицкому, как обещал, торжественно вернул его саблю. Прочим же, чтобы лучше спали, велел принести вина. Совершив акт милосердия, победители вернулись за стол, где им уже услужливо сменили тарелки.
– Тогда, в девяносто втором году, когда из-за предательства начальников[45]45
Главнокомандующий войсками ВКЛ в 1792 году – князь Людвиг Вюртембергский – с начала войны между Россией и Речью Посполитой бездействовал и через месяц был снят с поста по подозрению в содействии врагу.
[Закрыть] мы не смогли до конца исполнить свой долг, я был очень близок к тому, чтобы уйти в отставку вслед за генералом Костюшко и двумя сотнями других офицеров. Но, я уже говорил, мне не хватило духу, – сказал Гарновский, который, как выяснилось, отнюдь не потерял нить разговора. – Понимаете, военная служба для меня – все…
– Понимаю, сам человек служилый, – согласно кивнул Княжнин, но молодой человек вдруг строго замахал пальцем, показывая, что Княжнин ничего не понимает.
– Не только для меня, а для всего моего рода, – поспешил пояснить Гарновский. – Понимаете, в этом самом доме возле Субачских ворот, в котором мы имеем честь сдавать комнаты господам Саковичам, мои предки жили испокон веков. Но шляхетское достоинство нашему роду даровано не так давно, благодаря моему храброму прадеду, который отличился в 1655 году, защищая эти самые Субачские ворота, когда московские войска штурмовали Вильню.
– Я полагаю, что именно такое шляхетство, добытое в бою, действительно чего-то стоит. А то ведь нынче дворянство даруется именно что дворне – за альковную службу…
После того как Княжнин совершенно спокойно отнесся к тому, что предок виленца Гарновского совершал свои подвиги в войне против его московских предков, разговор стал совершенно доверительным.
– Вы знаете, почему ближние к нашему дому ворота называются Субачскими? – вдруг спросил Гарновский. Княжнин пожал плечами:
– Не думал об этом. Похоже, будто от слово собака…
– Верно. Еще с незапамятных времен в башне над воротами особое помещение отводилось городскому кату, по-вашему палачу. Он там всегда жил по праву наследства. У палача были подручные – подкацики. Еще их называли собачниками, потому что на них, кроме прочего, возлагалась обязанность отлавливать и истреблять бродячих собак. От них и пошло название улицы и ворот. К званию собачника горожане относились презрительно. Так вот, мой прадед, до того как получил шляхетскую грамоту, был собачником… Вы понимаете теперь, почему я не смог сделать красивый жест и потерять свое офицерское звание?
Княжнин посмотрел на Гарновского с уважением. Не многих он знал людей, которые не побоялись бы рассказать историю своего происхождения такой, какая есть. У других ведь предки – все сплошь римские нобили! Помолчав, Княжнин просто кивнул и так же молча налил, как бы показывая, что отнюдь не перестал считать собеседника равным себе, после того что узнал. Даже наоборот:
– Чем с более низкой ступени поднялся человек благодаря только собственному достоинству, тем, стало быть, выше это его достоинство, – заключил Княжнин, осушив очередной келих.
– А как всколыхнула всю Францию идея всеобщего равенства! – воодушевился, услышав это, Гарновский. Но тут разговор рисковал вновь вернуться в область политики. Революция, якобинцы – все это для боевого офицера, голова которого и без того пухла от масонско-индейской чертовщины, было уже чересчур. Поэтому Княжнин как старший по званию вернул беседу в область службы.
Самое значительное в военной службе – это, собственно, война. Повоевать довелось обоим. Но поскольку опыт Гарновского исчерпывался боевыми действиями против соотечественников Княжнина, а стало быть, здесь снова недалеко было до политики, то говорить стали о более отвлеченном – войне России против далекой Швеции. Впрочем, не такой и далекой. Оказывается, двести лет назад польским королем и великим князем литовским был избран шведский королевич Жигимонт. Гарновский, блеснувший неплохими познаниями в истории, привел несколько примеров, когда именно Швеция активно влияла на судьбу его отчизны. Гарновский и слушателем оказался хорошим. И Княжнин разговорился. Так, что незаметно догорели свечи и пришлось потребовать новые. Суровый финский климат, дурное снабжение и, ежели бы не грибы, даже голод, бестолковое командование, кровь… Всякая война – зло. К такому заключению к концу своего рассказа неожиданно для себя пришел Княжнин.
– За исключением той, когда обороняешь от внешнего врага свою Отчизну, – уточнил все еще сохранявший внимание Гарновский.
Княжнин погрозил ему пальцем:
– Снова вы, сударь, так и норовите представить меня злым завоевателем… Полно, полно, никаких обид. Пойдемте, проверим караулы.
Андрюха не спал и пистолета не выпускал из рук, но держался из последних сил, не сразу сообразил, кто к нему приближается.
Возможно, оттого, что походка у улыбающегося барина была уже не такой легкой. Получив позволение отдыхать, юный герой битвы на Мусе тут же заснул прямо в бричке, закутавшись в овчину. Княжнину и Гарновскому, заступившим на пост вместо него, бороться со сном не было нужды – оба пребывали в достаточно взбудораженном состоянии. Ведь согласно древней литвинской традиции их битва все еще продолжалась – они удерживали за собой поле боя. И, кажется, у врага не было шансов поставить под сомнение их победу. Дабы закрепить оную, взяли крамбамбули с собой на пост.
– Много же существует мерзких вещей, понуждающих добрых людей идти друг против друга или же супротив собственной совести, – проговорил Княжнин, которого потянуло философствовать. Посмотрев в звездное небо, а потом в немного наивное лицо Гарновского, оказавшегося таким милым молодым человеком, он закончил мысль хорошим:
– Однако же сойдемся на том, что нынче нам не в чем себя упрекнуть, и слава богу! Защитили честь прекрасной дамы, за себя постояли и сделали сие в самом деле недурно… Ей-богу, мне теперь хорошо и покойно, как давно не было!
В хозяйстве при корчме, конечно, имелись петухи. Но, словно не желая разделить участь только что съеденного гуся, они затаились и не нарушали своим базарным криком торжественную тишину. Даже когда в непроглядном небе на востоке со стороны далекой Москвы стали появляться первые белесые разводы. Приближалось утро.
Глава 19
Плие
Назидательную головную боль Княжнин, проснувшись, воспринял как должное. Разговелся прежде времени – изволь пострадать, полезно даже перед Страстной неделей. Как следует потянуться мешало лежавшее под ногами трофейное оружие.
– Что вы там говорили про отменное качество вашей крамбамбули? – поморщившись, сказал Дмитрий Сергеевич сидевшему рядом в коляске Гарновскому, который тоже, кажется, перестал дремать.
– А что? Вы снова можете в нем убедиться. Корчмарь дал нам в дорогу еще целый штоф.
– Так наливайте. До Вильно еще далеко.
– Вы отменно ориентируетесь. Будто всю жизнь прожили в этих краях.
– Просто у меня в голове имеется карта. И часы. Бьюсь об заклад, что сейчас два часа с четвертью пополудни.
– Верно! – удивился Гарновский, сверившись со своими часами.
– Стало быть, угадал. У меня с давешнего вечера счастливый день, удача во всем. Как бы ее не упустить.
И все же сил битва на Мусе (с последующим удержанием поля брани) отняла у победителей немало. Выпив по одной походной чарке (ни в коем случае не больше!) и так же попоходному закусив, Княжнин и Гарновский вновь погрузились в дрему, которой так способствовало мерное покачивание коляски.
Было уже темно, когда ее колеса загремели по булыжнику главной виленской улицы.
– Мне нужно доложить о своем прибытии полковнику Ясинскому. Да и о том, что случилось в корчме, он должен знать, – сказал Гарновский, последние несколько верст ехавший верхом рядом с экипажем Княжнина.
– Так ведь час теперь неурочный, не лучше ли нам отправиться куда-нибудь отужинать? – в ответ предложил тот, мысленно похвалив поручика за служебное рвение.
– Я знаю, где его найти. Полковник сейчас наверняка играет у Хилькевича, мы через минуту будем проезжать мимо.
– Знаю, это заведение через два дома от квартиры Косаковского, – неожиданно оживился Княжнин, у которого, как известно, в голове имелась карта. – А ведь это знак судьбы! Знаете, поручик, я пойду с вами.
– Хотите испытать судьбу еще и за зеленым сукном? – легко догадался Гарновский.
– Я делаю сие нечасто и предпочитаю коммерческие игры азартным, но нынче, чувствую, стоит попробовать. Нынче мой день! К тому же я бы хотел убедиться, что вас не станут наказывать за то, что ввязались в драку. Ежели что, заступлюсь, расскажу, как все было.
Гарновскому, кажется, идея Княжнина не очень понравилась, но перечить старшему он не посмел. Селифан, когда ему велели свернуть на Немецкую улицу, в отличие от молодого поручика недовольства скрывать не стал, полагая, что, пострадав вчера в бою, имеет на это право. Однако Княжнин успокоил своего кучера, сказав, что тот может его не дожидаться и ехать себе на квартиру вместе с почти полным штофом крамбамбули.
– А полковник Кадлубский не ходит играть к этому вашему Хилькевичу? – спросил Княжнин. – А то был бы удобный случай эффектно сдать ему наши трофеи.
– Не встречал. Там больше ваши офицеры забавляются, – пожав плечами, ответил Гарновский.
Игорный дом на Немецкой в афишах и зазывалах не нуждался. Фонарь над входом освещал до сих пор не снятую вывеску прежнего владельца дома, прусского коммерсанта, потерявшего интерес к делам в Литве, как только сюда пришли русские. Будто знал, что они и заполнят его комнаты, в которых со вкусом будут расставлены игорные столы и продолжатся денежные подсчеты, только запись будет вестись не в солидных гроссбухах, а прямо на этих столах – мелом на сукне.
Новому владельцу дома в самом деле не было нужды менять вывеску. Просто в лепнине над парадным входом с именем и фамилией хозяина торгового дома Hans Bacasinow ненароком осыпались некоторые буквы. Подсвеченная фонарями оставшаяся часть надписи «…сasino…», как пламя свечи мотыльков, влекла к себе вырвавшихся за границы империи российских офицеров. У них дома, конечно, тоже можно было и много выиграть или все проиграть. Однако как таковые игорные заведения, где выигрыши триумфальны, а проигрыши эпичны и красивы, как смерть на миру, были запрещены Уставом Благочиния. Оный лично был разработан императрицей, которой хватало собственного опыта, чтобы отличить игры «газартныя» от культурного времяпрепровождения за карточным столом.
Княжнин, не раз проводивший тщательную рекогносцировку вокруг резиденции гетмана, только теперь обратил внимание на каламбур над входом в этот дом и оценил остроумие его владельца.
Остроумия хозяину игорного дома Игнацию Хилькевичу действительно было не занимать. Он начал проявлять его еще будучи мальчишкой, когда подделал собственную метрику, чтобы поскорее получить наследство после смерти отца. Полученное состояние вскоре все было проиграно в карты, но при этом не пропало впустую. За одного битого двух небитых дают – можно сказать, отцовским наследством Игнаций оплатил дорогие уроки картежного мастерства и стал игроком самого высшего пошиба даже для своей авантюрной эпохи, когда шулерство не считалось большим грехом. Признание пришло быстро, и Хилькевич вскоре получил серьезный заказ от некоего каштеляна – обыграть его племянника, получившего большое наследство. Хилькевич заказ исполнил блестяще, но оговоренный заранее гонорар не получил. Вместо того чтобы отсыпать молодому профессионалу обещанных золотых дукатов, каштелян попытался отделаться от него мелкими подарками, вроде табакерки, часов и шпаги с золотым эфесом. Через пару дней Хилькевич, отправляясь к королевскому двору (дело было в Варшаве), заглянул к обманувшему его каштеляну. Ненароком он похвалился перед ним изящной гравировкой, появившейся на эфесе шпаги, висевшей теперь у него на боку: «Игнацию Хилькевичу от каштеляна N (имя было настоящее) за мужество, проявленное против NN (племянника каштеляна N)».
Ведь остроумно же? И прижимистый каштелян остроумие оценил, выплатил все, что был должен, – выкупил шпагу, пока Хилькевич не похвастался ею при дворе.
Этот кудрявый красавец гренадерского роста первым дружески поприветствовал Гарновского. Он выделялся здесь среди прочих полным отсутствием нервной озабоченности. Любопытство – да, было написано на его лице, и относилось оно, несомненно, к Княжнину, которого прежде никогда здесь не было. Княжнин с таким же любопытством осмотрелся вокруг и заметил двух или трех знакомых офицеров, которых встречал у Тучкова.
– Не желаете ронять здесь честь мундира, капитан? – с грустной улыбкой сказал один из них, артиллерийский поручик, обратив внимание на партикулярный синий фрак Княжни на. Кажется, поручик уже все проиграл и уже чуть-чуть остыл, а потому обратил на вновь пришедших внимание.
– Господин Княжнин, не одолжите ли вы мне… – начал было он, но тут же передумал, проявив завидную, наверное, только артиллеристам свойственную расчетливость, – впрочем, нет, не стоит, довольно на сегодня.
Тут же Княжнин поздоровался с полковником Ясинским, который, как и предполагал Гарновский, был здесь. Выслушав короткий доклад поручика, полковник нахмурился и увел Гарновского в другую комнату, чтобы расспросить его о случившемся подробнее и без посторонних ушей. Княжнин был оставлен на попечение хозяина заведения.
– Не желаете ли подрезать колоду? – гостеприимно предложил тот.
– Почему бы и нет? – ответил Княжнин, именно так и подумав.
С воодушевлением восприняв это решение нового клиента, Игнаций Хилькевич проводил его к столу, стоявшему в стороне от других в небольшом алькове, и предложил оказавшееся не слишком удобным кресло. Хозяин игорного дома взялся метать сам. Поскольку Княжнин согласился подрезать, стало быть, играть должны были в штос. Самая что ни на есть газартная, ни на каком расчете не основанная игра. Нужно только угадать карту, которая ляжет налево от банкомета – в соник – прежде, чем направо – в лоб. Почти как детское «в какой руке?». И Княжнину казалось, что сегодня он эту карту угадает.
Впрочем, нет – он был в этом уверен.
Он знал, что неуверенность ведет к проигрышу.
Вероятно, этот стол предназначался для «элитной» игры, потому что тут же за спиной у Княжнина собралось несколько зрителей, главным образом из числа тех, кому самому играть было уже не на что. Лишь один из них, грузный майор квартирмейстерской службы, которого Княжнин видел впервые, уселся рядом с ним, чтобы тоже понтировать. Однако все это совершенно не заботило и не отвлекало Княжнина, он уже был сосредоточен, как перед фехтовальным поединком, и готов был уловить в движениях банкомета любой намек на жульничество. Но Хилькевич абсолютно никаких поводов заподозрить себя в чем-то не давал, был совершенно спокоен, улыбался и, видя серьезное отношение Княжнина к игре, не приставал к нему с избитыми шутками, какими почти всегда потчует понтеров тот, кто держит банк.
Впрочем, понятное дело: ежели он и знает шулерские штучки, то для них еще не пришло время. Начиналось все весьма пристойно. Хилькевич предложил Княжнину выбрать для игры любую колоду из целой стопки.
– Возьмите первую, – сказал он не думая и обернулся на майора, чтобы получить и его согласие. Тот, сопя, кивнул. Княжнину почему-то показалось, что играть майор собирается на казенные. Такие же, как у банкомета, колоды карт получили оба понтера, чтобы выбрать одну – от двойки до туза, – на которую поставить. Это следовало сделать в буквальном смысле: положить карту на стол, а на нее деньги.
– Никого из нас не разорит начальный куш в сто злотых? – небрежно поинтересовался Хилькевич.
«Однако. Ведь это пятнадцать рублей серебром – мое жалование за половину месяца… Так ведь оно мне выдано, спасибо варшавскому казначею!» – подумал Княжнин. При этом он полагал, что сохраняет совершенно невозмутимый вид. Однако Хилькевич легко угадал его решимость играть и попытался спровоцировать:
– Желаете увеличить куш?
– Зачем же? Ваш монастырь, ваш и устав, – не поддался Княжнин, а майор справа от него лишь сильнее засопел.
По тому, какими привычными движениями Хилькевич распечатал и перетасовал колоду – штос, – чувствовалось, что пальцы его умеют обращаться с картами, хоть своим умением владелец заведения и не бравирует. Княжнин тоже распечатал свою колоду, не глядя вытащил случайную карту. «Десятка!» – загадал он. Взглянул на карту и не удержался от улыбки. «Стало быть, есть нынче чутье!» – подумал Дмитрий Сергеевич со сладким замиранием сердца. Он и поставил сто злотых на десятку, которой прежде «подрезал» колоду Хилькевича, разделив ее на две неровные части.
Этим, собственно, началась игра. Как полагается, поменяв половинки колоды местами, Хилькевич перевернул штос. Первая же карта, лежавшая сверху, была пиковая десятка. Это означало, что выиграл банкомет. В соник открылась семерка, но это уже не имело значения, и для майора тоже, тот поставил на даму.
– Я проиграл, – спокойно признал Княжнин, открывая свою карту.
– В первой же метке? В самом деле! – Хилькевич сделал большие глаза, которые на самом деле внимательно изучали Княжнина и не обнаруживали в нем ни подозрительности, ни даже досады.
Княжнин не притворялся. У него была многократно подтвержденная примета: ежели первая же раздача карт приводила к легкому выигрышу, то дальше, как правило, все оборачивалось очень дурно. Поэтому теперь ему почти не жаль было пятнадцати целковых. Выразительно взглянув на Хилькевича, дескать, «рано радуешься!», он загнул угол у своей десятки[46]46
Загибание угла карты означало удвоение ставки понтером, загибание второго угла – увеличение ставки в четыре раза.
[Закрыть], а потом и еще один, так что из карты получился домик, или стрела – флешь – направленная в сторону банкомета. Тот наконец уловил досаду в глазах проигравшего, однако эта досада вызвана была только тем, что Княжнину, загибая углы, приходилось сдерживать дрожь в руках.
– Так вы игрок, сударь! – не удержался, подзадорил Хилькевич, нетерпеливо сгибая и выпрямляя холеные гибкие пальцы, которые будто бы сами по себе рвались в игру, предвкушая нечто интересное. Новая ставка Княжнина – четыреста злотых – была принята, две первые отыгранные карты сброшены прочь. В открывшейся новой паре десятки не было, и в следующей тоже. После того как Хилькевич открыл седьмую и восьмую карты, не сдержал восторженного вопля пухлый квартирмейстер: его дама взяла.
– То-то же, капитан, в Польше нужно ставить на дам, верно вам говорю! – хлопнув Княжнина по плечу, сказал он так поучительно, будто к какому-то недоумку обращался. В ответ Княжнин просто взглянул на майора, но так, что тот немедленно заткнулся. Потом, составив выигранные монеты столбиком, тоже загнул угол своей карты.
Следующая открывшаяся карта опять была дама, стало быть, теперь выиграл банкомет.
– Польские дамы очень ветрены и непостоянны, пан майор, по крайней мере, так говорят! – сказал Хилькевич, сгребая к себе все деньги квартирмейстера и подмигивая Княжнину, который, по его мнению, тоже должен был порадоваться проигрышу майора, позволившего себе панибратски хлопать его по плечу.
При иных обстоятельствах Княжнин, может быть, и позлорадствовал бы, но теперь он не обращал внимания на то, как сердито сопит майор, выстраивая новые столбики из монет, извлекаемых откуда-то из пояса, будто прямо из вместительного пуза. Теперь Княжнин превратился в глаза, глаза, неотрывно глядящие на штос, лежавший перед Хилькевичем, будто силой взгляда можно было заставить следующую десятку лечь налево от банкомета.
«Валет… десятка! Нет, проклятие! Одного алого бубнового ромбика не хватает – девятка»…
«Дама… туз… Боже, где же десятки в этой колоде? Должны же быть еще бубновая, трефовая и червовая. Что это с майором? Ах да, ведь его дама снова бита».
Чертыхаясь и провожая бегающим взглядом свои серебряные рубли, квартирмейстер встал из-за стола. Княжнин остался понтировать один.
– Не угодно ли шампанского? А то вы как-то слишком уж напряжены, – заметил Хилькевич.
– Сперва угодно десятку в соник, а шампанское после, – ответил Княжнин, не желая отвлекаться и терять силу, которую, как ему казалось, он обрел: мыслями заставлять лечь на стол нужную карту.
– Извольте, – улыбнулся шутке Княжнина Хилькевич и открыл две следующие карты. – Человек, шампанского!
Десять бубновых ромбиков в сонике банкомет сосчитал раньше выигравшего четыреста злотых Княжнина.
«Да, все же нынче мой день!» – думал тот, осушая бокал и с трудом заставляя себя делать это не слишком быстро. В штосе оставались еще две десятки. «Повторить ставку!» – подсказывал внутренний голос. Веселый игристый напиток нашептывал тоже самое.
Какие-то отчаянные жесты делал Княжнину Андрюха.
«Переживает, как бы барин не проигрался. И не боится, что я за такую дерзость могу осерчать. Совсем герой. Ничего, Андрюха, сейчас добудем и на пряники, и на апельцыны…» – подумал Княжнин, сдвинув для острастки брови и отвернувшись от денщика. Чертовски неудобное кресло мешало сосредоточиться и продолжить делать мысленные пассы, обращенные к колоде.
Хилькевич метал долго. Наконец, трефовая десятка, как и бубновая, легла налево – Княжнин выиграл.
В зале произошло оживление. Хилькевич подвинул Княжнину еще четыре сотни злотых. Теперь он выигрывал уже больше ста рублей, при том что его годовое жалование составляло примерно триста шестьдесят. Только ведь жалования этого никогда не хватало на достойную лейб-гвардейца жизнь. Оттого и размолвки случались с Лизой, как тогда, когда он уезжал в Варшаву… Покончить с этим унизительным состоянием одним разом! Ежели судьба после нескольких тягостных черных недель наконец повернула Фортуну к нему лицом, нельзя упускать такой случай!
Хилькевич снова безошибочно угадал решимость понтера продолжать игру. Сбросив со стола на пол отыгранную колоду, он одной рукой ловко выгнул следующую так, что та распечаталась сама, уронив на пол тонкую упаковку, как страждущая любви женщина роняет пеньюар. Такую же новую колоду[47]47
Производство игральных карт в пору увлечения высшего общества игрой в штос (фараон) было одной из самых доходных отраслей тогдашней «легкой промышленности».
[Закрыть] Хилькевич предложил Княжнину, и тот распечатал ее столь же ловко, пожалуй, у него оберточная бумага разорвалась даже с более громким хлопком.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































