Текст книги "Битва под Острой Брамой"
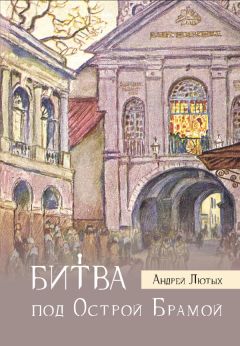
Автор книги: Андрей Лютых
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Глава 7
Снова ссылка
Прошло три дня. Княжнин был готов к тому, что Игельстром потребует его к себе для отчета. Так и произошло.
– Что же, капитан-поручик, сыскал ты сочинителя пасквиля, как я тебе велел? – спросил Игельстром, восседая за письменным столом, будто на троне. Тон его казался насмешливым.
– Не сыскал, ваше превосходительство, – ответил Княжнин, готовый к худшему.
– Отчего же? Рвения не достало?
Княжнин опустил голову. Теперь уж все одно.
– Я полагал нужным употребить рвение для целей, предписанных мне изначально и не менее важных для государства, нежели поиски автора глупой записки.
– И что же такого содеял ты государственной важности?
– Просто подготовил соображения касательно безопасности нашего посольства и наших войск здесь, в Польше. Они могут быть любопытны, потому как оценка сего предмета сделана свежим взглядом, я ведь только несколько дней в Варшаве.
– И уж знаешь все лучше меня, посланника.
– Конечно, нет. Просто я мог обратить внимание на предметы, для вас уже слишком привычные.
– Ну, говори, только не долго.
– Я полагаю, что вооруженное восстание в Варшаве, скорее всего, произойдет, и весьма скоро. Поляки оскорблены своим поражением, на дух нас не переносят и настроены разделаться с нами при первом удобном случае, об этом всюду говорят едва ли не в открытую. Ходят также слухи, дескать, восстанию тут же помогут французы, а турки и шведы снова объявят России войну. Поводом может стать начатое сокращение войска Речи Посполитой. Оставшиеся без жалования военные, умеющие сражаться, станут первыми, кто подхватит клич резать москалей. Кадровые польские части, даже те, что сокращению не подлежат, несомненно, перейдут на их сторону.
– Врешь. Такое могло быть при их прежнем начальнике гетмане Ржевуском, и я сам принял меры к тому, чтобы его заменить. Теперешний гетман Ожаровский каждый день клянется мне в верности подчиненного ему коронного войска союзному трактату.
– Если сей Ожаровский привык получать пенсион из российской казны, так он поклянется в чем угодно, лишь бы вы продолжали платить. Я полагаю, что полякам верить нужно с большой осторожностью и заранее принять меры. В открытом бою им против нашего войска, конечно, не устоять, сколько бы обывателей ни присоединилось к революции. Но городские улицы – позиция для нас проигрышная. Нам негде развернуть строй, а пули мы можем получать со всех сторон – из окон, с крыш, из-за угла. К тому же войска наши разбросаны по всей Варшаве и будет трудно быстро собрать их в одно место. Расположение посольства на случай внезапного выступления против нас так же невыгодно. Неприятель может незаметно для нас накопить значительные силы в прилегающих улицах, а потом быстро атаковать. Думаю, для вашего превосходительства было бы нетрудно настоять, чтобы для посольства отвели другой дворец. Более всего подходит Уяздовский. Он расположен на возвышенности, представляет собой подобие замка или крепости, вокруг большие парки, то есть открытая территория с некоторыми постройками, в которых можно разместить до двух полков пехоты и обязательно артиллерийскую роту. На такую позицию, случись революция, неприятелю покушаться будет бессмысленно. Дворец сей близ Лазенок, на окраине Варшавы, туда легко подтянуть части, расквартированные за городом, либо, наоборот, оттуда предпринять марш. И еще полагаю необходимым под любым предлогом взять под свой контроль варшавский арсенал, выпроводив оттуда польские части, ибо оружие, собранное там, рано или поздно будет обращено против нас.
– Излагая свой план, Княжнин увлекся. Он поначалу не замечал, что тот, к кому обращены его слова, их просто не воспринимает, потом понял это, однако посчитал своим долгом договорить до конца. Наконец Игельстром перебил его:
– Так не лучше ли мне вовсе спрятаться в Петропавловской крепости? Все сие глупость! У нас есть союзный трактат с Речью Посполитой.
– Вы же знаете, что поляки заключили его против своей воли.
– Глупость! Помещики из областей, не отошедших по трактату к России, сами просятся под покровительство нашей государыни! У меня столько добровольных шпионов, что не может быть и речи о внезапной революции. Отыскался еще стратег! Я не нуждаюсь в твоих рассуждениях! Я полагал, что ты прислан ко мне соглядатаем, что ты человек графа Зубова, и только потому терпел тебя. Но, получив давеча от графа письмо, понял, что обманывался на твой счет. Так кто же написал про меня пасквиль, господин Княжнин?
– Я провел дознание. Сочинителя найти не удалось.
– А вот мне удалось, – Игельстром победно посмотрел на Княжнина, как всегда в такие напряженные моменты идеально скрывавшего свои эмоции. – Ты и есть сочинитель, капитанпоручик!
Говоря это, Игельстром вспыхнул, даже не усидел в кресле, принялся расхаживать по кабинету.
– Ты ведь участвовал в шведской кампании и с той поры почитаешь себя обойденным наградами, затаил обиду! А мне ли не известно, как складно умеешь ты сочинять рифмы? Потому и не сыскал ты злоумышленника, что искать нужно было самого себя!
– Воля ваша, только не делал я этого, совсем другим был занят.
– Ты с первого дня смеешь во всем мне перечить! – вскипел Игельстром, но, выпустив пар, вернулся за стол, на котором лежали какие-то бумаги.
– Так кто же тогда, коли не ты? – спросил он гораздо мягче, даже вкрадчиво.
– Не знаю, – стоял на своем Княжнин.
– Эх, упечь бы тебя так, чтобы твоя Колывань тебе раем небесным казалась! Да, видишь, заступники у тебя нашлись, сказывают, ты меня чуть ли не от смерти уберег. Хотя я сужу – ты токмо собственный недосмотр исправлял.
Княжнин молчал. «Неужто графиня Залуская заступилась? – подумал он. – Вряд ли генерал прислушался бы к комунибудь еще».
– Так вот, терпеть тебя подле себя я более не желаю. Отправляйся с глаз моих в Вильно. Только что получил донесение верного человека. Он свидетельствует, что там (в Вильно, а не в Варшаве!) составилось тайное общество заговорщиков, того и гляди, как ты сказал, кинут клич резать москалей. А прежде москалей станут резать своих, тех, кто нам верен и кого они считают предателями, по-здешнему – здрадниками. Первый из таковых, конечно, литовский гетман Шимон Косаковский. Вот и будет тебе дело: мы покажем, что своих в обиду не дадим, – сам российский посланник отправляет своего лучшего офицера, дабы помог обезопасить нашего лучшего союзника.
– Я должен буду подчиняться литовскому гетману?
– Этот гетман уже выслужил чин российского генерал-лейтенанта. Но ты поступишь под начало генерала Арсеньева, командира нашей дивизии в Вильно. С предписанием держать тебя подле Косаковского. А главное тебе предписание – дознаться про тайное общество в Литве. Только судя по тому, как ты мой давешний приказ исполнил, – сие тебе не по уму. Ну а коли, паче чаяния, что-то узнаешь – напишешь мне донесение. Самого тебя в Варшаве я видеть не желаю.
Княжнин, так же не испытывавший большого желания продолжать разговор с этим напомаженным разрумянившимся генералом, готов был уже уйти, но Игельстром задержал его:
– По дороге исполнишь еще одно дело. В Вильно поедешь через Новогрудок. Там найдешь князя Михаила Огинского. Сей магнат значится подскарбием[7]7
Должностное лицо в ВКЛ, по своим обязанностям сродни министру экономики и финансов.
[Закрыть] литовским, однако строит нам козью морду и под всякими предлогами избегает службы. То ему понадобилось путешествовать в Вену, теперь вот уехал в Новогрудок на контракты[8]8
Контрактами в Польше и Литве называли собрания шляхты в определенные периоды года для заключения договоров, оформление сделок, касающихся купли и продажи земель, ипотек, займов, выплат и т. п.
[Закрыть]. Сильно озабочен получением доходов со своих имений в Белоруссии.
Здесь Игельстром несколько смягчился. Казалось, Княжнин уже не вызывает в нем такого сильного раздражения. Наверное, только из-за того, что теперь оно было адресовано литовскому магнату.
– Так вот, нужно Огинскому намекнуть, что ежели он в ближайшее время не прибудет в Варшаву для участия в заседаниях постоянного совета, дабы заниматься сокращением армии, то недолго на все его имения снова наложить секвестр. Намекнуть, конечно, деликатно. Для того тебя и посылаю, дабы самолюбию князя потрафить – дескать, не простой курьер к нему послан, а капитан российской лейб-гвардии. К князю Огинскому мною приставлен, якобы для его безопасности, поручик. Выслушаешь его отчет: с кем князь встречается, какие при нем ведутся речи. Нельзя исключить, что наш ясновельможный пан связан с заговорщиками.
Говоря это, Игельстром взял со стола лист бумаги, с обеих сторон сверху донизу исписанный убористым почерком пофранцузски. Оказывается, документ предназначался Княжнину.
– Еще для пользы дела даю тебе весьма занимательную бумагу, – сказад Игельстром. – У Виленского тайного сообщества составлено тайное ж наставление для его прозелитов. И я оное заполучил. Вот, велел переписать для тебя. Зная сие наставление, ты сможешь понять, кто прозелит, а кто нет. Все, теперь ступай.
Княжнин, поклонившись, вышел. Приказ снова был, как в сказке про Ивана-дурака, только на сей раз он уходил с легким сердцем: возвращаться обратно уже нет нужды.
В вестибюле Княжнина дожидался Протазанов, зашел, будто бы проверить своих караульных. По тому, как спокойно встретил его тревожный взгляд Княжнин, понял, что тот и теперь его не выдал.
– Дмитрий Сергеевич, я навсегда у вас в долгу! – сказал он тихо.
– Полно, поручик. Ведь мы друзья. И я сему обстоятельству рад. Даже жаль расставаться.
– Вы уезжаете?
– В Вильно. Меня выдворяют из Варшавы столь же поспешно, как выдворяли из Петербурга. Только здесь меня ничего не удерживает. Полагаю, посланнику в Варшаве ничего не угрожает: ежели и существует заговор, то заговорщики сами должны оберегать Игельстрома, поскольку он именно тот, при ком их дело может кончиться успехом.
– Поужинаем на прощание в том шинке на Пивной улице?
– Почему бы и нет? Только, чур, в карты с поляками не играть и помнить про пост!
Отъезд в Новогрудок был запланирован на следующее утро. Оставшееся до ужина время Княжнин потратил на изучение документа, добытого виленским агентом Игельстрома. Княжнин теперь вспомнил, что за полчаса до того, как его вызвали в кабинет посланника, оттуда вышел какой-то еврей. Еще раньше Игельстром вызывал секретаря, очевидно, для того, чтобы сделать копию документа, которая теперь лежала перед Княжниным. Очень возможно, что человек, покинувший Игельстрома, был или его шпионом в Вильно, или связным. Княжнин пытался припомнить его ничем не примечательную внешность, но безуспешно – пока все евреи для него выглядели на одно лицо.
Чтение оказалось не из легких. Поначалу Княжнин решил, что Игельстром по ошибке или специально для того, чтобы над ним поиздеваться, вручил ему не ту бумагу. Это был какой-то катехизис, заповеди, в которые должны веровать некие индийцы или брамины:
«…Правда выше и светлее всего. Ее нельзя увидеть смертным глазом даже в день великой радости, печали и славы. Беда дерзкой душе, пожелавшей проникнуть сквозь время к ее таинствам…
…Великий папа один наивысший и бессмертный. Ему одному ведомы дороги правды. Берегись, смертный, гадать о его величии…
…Равенство. Беда слепцу, который сам не знает пути, а хочет руководить теми, кто его строил. Великий папа разлил море и лужи на одном уровне. Беда тому, кто захотел бы воспротивиться его приказам…
…Любовь есть мать света… Люби врага своего, покажи ему дорогу мудрости. Папа ему без тебя день определил…
…Справедливость жаждет терпимости в чужом доме. Пусть золотая монета всегда будет при твоем теле, чтобы иметь чем заплатить за невинный вред. Определи себе монету для взаимности, ибо так поступают справедливые»…
И далее в том же духе. Какая-то масонская чепуха. Возможно, ее специально подсунули Игельстрому, чтобы озадачить его поисками некоего «бессмертного великого папы» вместо реального руководителя заговора, которого можно просто арестовать.
Тем не менее Княжнин терпеливо прочел документ до конца, потом еще раз. Очень кстати пришлась филижанка кофе, которую принес сын пани Гражины Збышек. Хозяйка уже знала о предстоящем отъезде Княжнина и очень об этом сожалела.
Подумав, Княжнин нашел в тексте небольшие вкрапления каких-то практических вещей, из-за которых документ все же можно было считать тайным наставлением. После десяти мудростей некоего индийского философа шли еще тринадцать правил, принятых его последователями – «братьями».
Главное, что требовалось от братьев, – строгое сохранение тайны. Не задавай лишних вопросов, плыви по течению, за тебя подумает тот, кто надо, но будь готов – когда потребуется действовать, подчиняйся беспрекословно. А за упоминание всуе «великого папы» (особенно за вопросы, где тот скрывается) вообще полагалась смерть. Весьма сурово! Также сказано, что индеец только тогда может считаться настоящим, когда сам привлечет в союз нескольких последователей. Описан и способ привлечения прозелитов. Заметь в обществе сочувствующего с отважной душой, поговори о притеснении таких, как он, неким злым гением, потом дай ему прочесть сие наставление – и он твой. Сомнительно. Вот Княжнин прочел, и что? Привычные христи анские заповеди для него как были, так и остались более ясными и ценными.
Впрочем, все это пока больше философия. А вот то, что вновь привлеченные прозелиты должны знать только четверых своих собратьев и именоваться в своем кругу только цифрами от 1 до 5, – сие уже конспирация. Но дальше эта конспирация превращается в какую-то детскую игру. Из того непонятного пункта про золотую монету было придумано вот такое конкретное предписание: брат никогда не может тронуться с места, не имея при себе какой-нибудь золотой штучки. А «если же в толпе ищешь брата, то достань золотую штуку, а другой, пожелавший с кемлибо познаться, должен достать свою. Оба молчат и тешатся пониманием». А натешившись пониманием, можно друг друга поприветствовать. Для этого один вытягивает мизинец правой руки, а второй пожимает его двумя пальцами – большим и мизинцем. Да вот еще: кроме золотой монеты или безделушки, за которую, ежели она не ворованная, нет никакого основания тащить человека на дознание, каждый брамин должен иметь при себе эти самые статьи великого философа, переписанные собственной рукой. Как «лекарство от яда для его души». Получается, Игельстром не так уж и издевался, когда говорил, что, имея это наставление, Княжнин легко сможет понять, кто есть прозелит? Правда, в наставлении сделано строгое внушение: ради праздного любопытства братьев не искать и знаков не подавать.
Нет, все же это бред. Бред расплодившихся, будто плесень, масонов, желающих устроить мир по закону какого-нибудь «светлого разума», но никак не устав конспиративной организации, готовящейся изгнать из Литвы русскую армию. Настораживал только один пункт: «8. Индийцы оружия из любви никогда не употребляют, но каждый брат всегда должен иметь наготове хорошо обеспеченное оружие, ибо не знает, когда будет повергнут». Впрочем, и здесь ничего удивительного: эти самые прозелиты, как бы они ни были завернуты на индийской философии, небось, понимают, что одной силой убеждения против полков Ее Императорского Величества не повоюешь.
Тут Княжнину стало себя жалко. Он любит военную службу. Он знает, как употребить силу оружия. А брошен туда, где вместо честной звонкой шпаги пускают в ход хитрость, лесть, интриги. Теперь вот его употребляют в качестве пугала для некоего пана Огинского, не желающего являться пред ясными очами господина Игельстрома. Что ж, Княжнин этого Огинского хорошо понимает. «Ладно, на то он и Великий пост, чтобы страдать, – успокаивал себя он. – Дожить до Пасхи, а там, бог даст, все наладится».
Убрав в надежное место изрядно утомившую его секретную бумагу, Княжнин разложил на столе карту. Чтобы заехать в Новогрудок «по пути» в Вильно, предстоит сделать изрядный крюк. Нужно успеть завершить путешествие до того, как на реках начнется ледоход.
Глава 8
Полонез Огинского
Отыскать в небольшом Новогрудке особняк, в котором остановился подскарбий Великого княжества Литовского Михал Клеофас Огинский, оказалось делом несложным. Высокий сановник не заставил себя ждать – сам вышел в прихожую, как только ему доложили о визите Княжнина.
Для человека, занимающего достаточно значимый пост в государстве, Огинский, которому не было еще тридцати, казался слишком молодым и легковесным. Великий скарбник представлялся Княжнину неким седоусым стариком в толстой шубе, с тяжелой связкой ключей на поясе. Вместе с тем Михал Клеофас получил свою важную должность не просто по знатности рода, а как человек, который лучше других будет с ней справляться – за ним уже успела закрепиться репутация человека, умеющего вести хозяйственные дела. Что как-то не очень вязалось с внешним обликом Огинского, похожего, скорее, на модного поэта, сочиняющего изысканные сентиментальные стихи.
То, что Игельстром велел обставить деликатными намеками, Княжнин выложил по-военному четко, уместив в две или три вежливые фразы. Кажется, прямота русского офицера понравилась литовскому князю, и между только что познакомившимися людьми даже установилось какое-то доброжелательное взаимопонимание. Княжнин уже не в первый раз замечал, как сближает общая неприязнь к господину Игельстрому. Огинский объяснил, что да, он, конечно, приедет в Варшаву, но прежде ему нужно уладить свои дела здесь – речь идет о сорока тысячах талеров дохода. Затем подскарбию придется отправиться в Вильно уже для прояснения ситуации с состоянием финансов Литвы, в управление которыми слишком настойчиво пытается вмешиваться гетман Косаковский. Только после этого он сможет обсуждать с королем те вопросы, которые отчего-то интересуют еще и российского посланника. Княжнин не стал отвечать на эту колкость, дескать, оттого Игельстром лезет в дела короля, что тот у него по уши в долгах, – просто принял объяснения Огинского к сведению, показав, что они его абсолютно устраивают, и он будет рад при случае встретиться с паном подскарбием в Вильно.
Раз так, Огинский предложил Княжнину остаться у него отобедать и послушать музыку. Из гостиной уже доносилось беглое цоканье клавесина.
Княжнин не отказался. И не только потому что у него оставалось еще одно неприятное дело – нужно ведь было встретиться с приставленным к Огинскому соглядатаем. Просто ему было на удивление приятно в обществе этого магната, нобиля, род которого происходил от Рюрика.
Первый, кого увидел Княжнин, пройдя в гостиную, был поручик Васин – тот, кто и был ему нужен. И Княжнин сразу понял, что никакой надобности в их встрече нет, ничего достойного внимания поручик ему не сообщит: он превратился при состоятельном Огинском в раскормленного домашнего кота, давно не ловящего мышей. Сидит, старательно употребляет ликер, с трудом сообразил, что нужно подняться и поприветствовать старшего по званию. Компанию поручику составлял добродушный шляхтич лет сорока, налегавший на аперитив, как на ключевую водицу в жаркую погоду. Багровый цвет лица и мешки под глазами говорили о том, что это его привычное занятие. Было немного непонятно, зачем эти двое здесь, в музыкальной гостиной. Разве что для создания местного колорита – один напоминает о том, кто теперь здесь подлинный хозяин, другой олицетворяет тутошнего сармата: красный жупан почти до пола, широченный кушак, весьма уместный для обладателя такого вместительного живота, короткая прическа горшком, длинные обращенные вниз усы, будто специально предназначенные для того, чтобы по ним стекало не попавшее в рот вино.
– Мацей Рымша, – цокая в такт клавесину, назвался шляхтич, когда Огинский, войдя вслед за Княжниным в гостиную, представил его.
– Помещик Белыницкого повета, или, по-вашему, уезда. Я ведь теперь, как и вы, подданный царицы Екатерины![9]9
Оставшаяся после первого раздела Речи Посполитой часть Минского воеводства отошла к России по второму разделу 1793 года.
[Закрыть] Вот уехали с паном Саковичем подальше от новых властей, а их, как погляжу я, и тут хватает! – хрипловатым баском добавил пан Рымша и добродушно расхохотался, готовый, казалось, тут же обняться с Княжниным, только тот не был бы лучшим фехтовальщиком Преображенского полка, если б не умел держать дистанцию. Еще один «сармат», пан Сакович, приветствовал Княжнина гораздо более сдержанно, если не сказать холодно. Это был высокий мужчина лет тридцати, с широким лбом и узким подбородком, отчего у Княжнина возникла ассоциация с детской поделкой, когда голову человечка делают из молодой еловой шишки. Возможно, некоторая строгость во взгляде пана Константина Саковича, представившегося поветовым судьей, была связана с его родом занятий. Пан Константин тут же представил свою очаровательную жену – пани Ядвигу.
Вот ее глаза – огромные, голубые – смотрели открыто и весело. Княжнин даже вздрогнул, только однажды он испытывал схожее чувство, встретившись с чьим-то взглядом, – когда впервые увидел Лизу. Будто кто-то, владея клинком в тысячу раз быстрее тебя, уже вовсю кромсает тебя на лоскуты, как какой-то мягкий бисквит, а ты и рад. «Полно, этот взгляд предназначен не тебе, а пану Огинскому, который у тебя за спиной», – сказал себе Княжнин. Но супруга пана Саковича в самом деле была очаровательна: светловолосая, стройная, легкая. Княжнин не сразу поверил, когда узнал, что у нее уже двое сыновей. Ее ноздри были тонкими и чувственными, а широкие губы выразительны именно целиком – без всяких бантиков посередине и складочек в уголках.
– Она для меня просто ангел небесный… – подтвердил Княжнину верность его первого впечатления чувствительный Рымша.
Впечатление было таким ярким, что всех остальных панов, а их было в гостиной еще около десятка, Княжнин просто не запомнил. Чтобы из лоскутов вновь собраться в единое целое, нужно было на что-то переключиться, например, просто послушать музыку, устроившись где-нибудь в уголке.
Молодая дама, ни разу не сбившаяся, исполняя рондо из семи или даже девяти частей, под аплодисменты уступила место за клавесином Огинскому. Да, ведь про него говорили, что он сочиняет музыку, и у него это неплохо получается. Вот откуда в нем все это «поэтическое». Огинский был интересен Княжнину еще и тем, что он никогда не слышал, чтобы о литовском подскарбии говорили, будто он пользуется своим положением для собственной корысти. В Петербурге таких сановников просто нет.
Огинский исполнял собственные сочинения: немного чопорный вальс, потом бойкую мазурку, в которой эмоции от мажора к минору и обратно выплеснулись уже гораздо более открыто. Музыка и в самом деле была недурна и вполне достойна звучать в самых знаменитых театрах. Но хороша она была прежде всего каким-то своеобразием, как показалось не очень в этом искушенному Княжнину – подчеркнуто польским. «Если бы господину Огинскому еще такого импресарио, как у маэстро Чезаре, тот мог бы сделать ему громкое имя», – подумал Княжнин.
Впрочем, он тут же убедился, что музыка Огинского и без того здесь достаточно хорошо известна.
– Пан Огинский, будьте ласковы, сыграйте «полонез смерти»! – наперебой с аплодисментами попросили сразу несколько голосов, когда стихли звуки мазурки.
– Не знаю, кто придумал такое название. Просто полонез фа мажор, – смутившись сказал Огинский. – Уже который год, начиная с того случая, как в английских газетах написали, будто бы я утонул в Ла-Манше, обо мне распускают самые невероятные слухи. Будто бы я сочинял этот полонез чуть ли не с дулом пистолета у виска, а потом немедленно застрелился из-за неразделенной любви. Поражаюсь, как немного нужно черной нелепицы, чтобы сделаться интересным для общества!
– Просим великодушно, пан Огинский! – не унимались слушатели.
– Пан Огинский, позвольте сыграть этот полонез вместе с вами! Нам удалось переписать ноты, и я разучила ваш полонез на виолончели…
– Это говорила пани Ядвига! Она действительно держала в руке виолончель со смычком, и это было так восхитительно, так необычно для дамы, как если бы госпожа Сакович вышла перед публикой с рапирой и предложила Княжнину пофехтовать. В этой женщине, безусловно, была изюминка. Виолончель – это изюминка!
– Как неожиданно! Я просто польщен, – сказал Огинский, поднявшись из-за клавесина и придвигая стул для пани Ядвиги. – Надеюсь, господа слушатели отнесутся к нам снисходительно, мы ведь не репетировали…
Последняя оговорка оказалась излишней. Не снисходительность пришлось проявлять слушателям, а сдерживать восторг. Автору полонеза, хоть и всегда считавшему себя всего-навсего музыкантом-любителем, хватило мастерства, чтобы сыграть «с листа» в этом импровизированном дуэте. С первых же нот он почувствовал, что этой виолончели можно дать возможность солировать, и с радостью уступил ей это право, тонко помогая вести мелодию и включая форте только в моменты клавишных проигрышей, когда опускала смычок и брала паузу пани Ядвига.
Но даже когда замолкала ее виолончель, пани Ядвига продолжала играть – музыке следовали ее напряженные губы, ее широко раскрытые глаза, с восторгом глядевшие на автора. Потом взгляды исполнителей встречались, будто делая условный сигнал, – и вновь вкрадчивым низким тоном звучала виолончель. Наблюдать за пани Ядвигой было еще приятнее, чем слушать ее игру. Как чувственно она придерживает коленями утопающий в складках ее синего платья инструмент, как ловко пробегают по грифу ее красивые тонкие пальцы, и потом – это настойчивое раскачивание струны, заставляющее ее петь уже на издыхании… И этот смычок, то двигающийся плавно, в полной гармонии со струной, то отскакивающий от нее, извлекая характерные для полонеза стаккато, отрывистые, будто кивки гонорливых шлях тичей, – этот бойкий смычок привел Княжнина к мысли о том, как много общего у игры на виолончели с фехтованием, которое тоже своего рода музыка.
Она чувствует музыку, захвачена ей, и все ее эмоции отражаются на лице, как у пятилетнего ребенка. Видно, как она волнуется, хочет, чтобы у нее все получилось хорошо, но на лице нет скованности и страха неудачи – только сосредоточенность, трогательная старательность и захватывающая дух веселая увлеченность. А в каком искреннем выражении печали сдвинулись ее брови при переходе к минорной части, без которой жутковатое название полонеза было бы вовсе неуместным.
Все это продолжалось каких-то три или четыре минуты. Потом добрых полминуты продолжалась пауза, во время которой, казалось, никто не дышал – будто «полонез смерти» действительно всех убил наповал. Потом раздались крики «браво!» и аплодисменты, и автор полонеза Огинский, поцеловав руку одновременно смущенной и сияющей от счастья пани Ядвиге, аплодировал громче всех.
– Ангел, ангел небесный! – заливался слезами подвыпивший Рымша.
Во время обеда Княжнин оказался рядом с четой Саковичей. Он, конечно, не упустил возможности сделать комплимент пани Ядвиге по поводу ее вдохновенной игры на виолончели.
– А вы в Новагародке проездом? – поблагодарив и немного смутившись, спросила пани Ядвига.
– Да, я еду в Вильно. Получил туда назначение, – подтвердил Княжнин.
– Как славно! Мы тоже завтра отправляемся в Вильню! – искренне обрадовалась виолончелистка, будто нашла красивое созвучие. – Кастусь, ты ведь уладил все свои дела? Мой муж привозил для пана Огинского какие-то документы, касающиеся снятия секвестра с его имений, – пояснила пани Ядвига, когда пан Константин утвердительно кивнул. – Значит, теперь едем дальше. Решили вырваться из своей глуши в столицу. Едемте с нами! Будет веселее. Мы едем большим поездом: мы с детьми, с нами пан Рымша – тот еще весельчак. За три часа до своего отправления высылаем вперед две повозки со всем необходимым и слугами, так что нас всегда будут встречать с готовым обедом, ужином и ночлегом. Кастусь, что же ты?
– Конечно, поедемте с нами, – подтвердил приглашение пан Константин, и при этом не показалось, что ему это неприятно.
– Ежели для вас это не слишком обременительно, почему бы и нет? – вдруг неожиданно для себя согласился Княжнин. Пожалуй, двигаться таким образом придется гораздо медленнее. Но на этот раз Дмитрий Сергеевич не очень торопился к новому месту службы. В пути можно будет поговорить о политике с паном Саковичем. Судья, даже при некоторой его желчности, казался интересным собеседником, и Княжнин надеялся, что тот поможет получше разобраться в здешних довольно путанных настроениях.
Только это. Ведь в самом деле глупо было рассчитывать, что по дороге пани Ядвига будет играть им на виолончели.
В том, что настроения здесь, в Литве, на самом деле легко закипают, Княжнин убедился очень скоро. Началось с того, что сразу после обеда к нему прицепился один из гостей Огинского, представившийся членом Постоянной рады[10]10
Постоянная рада – высший правительственный орган Речи Посполитой, созданный по настоянию Екатерины II в 1775 году для закрепления российского влияния на страну после первого раздела. Был упразднен четырехлетним сеймом в 1789 году и восстановлен победившей Тарговицкой конфедерацией в апреле 1793 г. В состав Постоянной рады входил и Михал Клеофас Огинский, вынужденный принять должность в правительстве, чтобы добиться снятия секвестра со своих имений.
[Закрыть] Речи Посполитой Михалом Лопатом. Он говорил, как он рад знакомству с господином Княжниным, в особенности учитывая то обстоятельство, что капитан-поручик состоит при самом бароне Игельстроме. Это весьма важно, потому что у пана Лопата есть для российского посланника сведения, требующие принятия безотлагательных мер. И несмотря на то, что свои сведения пан Лопат называл конфиденциальными, он тут же выложил Княжнину их суть: здешний Новогрудский подстолий на сеймике склонял шляхту к конфедерации против России, и конфедерацию сию вознамериваются провозгласить здесь во время начавшихся контрактов.
В антироссийских злоумышлениях уличены и другие шляхтичи, коих список паном Лопатом составлен. Теперь, благодаря близости господина Княжнина к посланнику, тот узнает важные обстоятельства без проволочек и быстро сделает распоряжения. Тут и список, свернутый в трубочку, в руках у пана Лопата появился. Понизив голос, член Постоянной рады добавил, что неплохо было бы еще раньше, прямо сегодня, господину Княжнину того новогрудского подстолия взять под стражу.
Княжнин, еще находившийся под впечатлением от прекрасной музыки и приятной беседы, с нескрываемым презрением посмотрел на лопатообразное лицо пана Лопата, «правительственного мужа», пресмыкавшегося перед обычным обер-офицером иностранной державы. Он даже не стал говорить ему, что генерала Игельстрома в ближайшее время не увидит.
– Знаете ли, пан Лопат, вы ошиблись, я не получаю и не передаю доносы. Я гвардейский, а не полицейский офицер. Я вообще не люблю доносителей. Потрудитесь сами. Ничем не могу быть вам полезен.
Этого оказалось достаточно, чтобы пан Лопат, покраснев, спрятал свой свиток и больше не приставал к Княжнину, вообще демонстративно избегая смотреть в его сторону. Однако история на этом не закончилась.
После обеда Княжнин задержался на некоторое время, чтобы условиться с Саковичами о деталях завтрашнего отъезда в Вильно. Михал Лопат с обиженным видом покинул дом Огинского раньше.
Уже начинало темнеть, и ручейки талой воды почти остановились, когда Княжнин вышел на улицу. Маленький уютный городок. Новагародак, так называют его Саковичи, делая в слове два ударения. Даже не верится, что прежде здесь была столица княжества. Городок маленький, зато корчмы чуть ли не на каждом шагу, не так-то просто не перепутать и найти именно ту, в которой Княжнин со своими слугами остановился. Впрочем, ориентир хорошо виден даже в сумерках. С любого места в городке. Это напоминавшие о его величественном и смутном прошлом полуразрушенные, но еще осанистые замковые башни на холме.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































