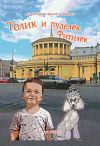Текст книги "Прогулки с Пушкиным"
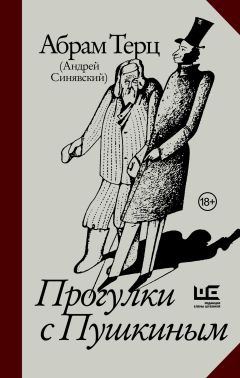
Автор книги: Андрей Синявский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
В то же время черты ее достаточно размыты. В противность другим персонажам, она лишена четких контуров и ярких, самобытных признаков. Бледная. Бессловесная. Никакого лица. Бесприданница. А тут еще убили родителей. Что с нее взять? Сирота. Так и подписывается: “…Не имею на земле ни родни, ни покровителей… Остаюсь вам покорная бедная сирота”. Периодические разлуки с возлюбленным сообщают ее очертаниям еще большую воздушность. Ее образ уплывает от нас и тает, словно она переселяется на другой конец света. “Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное”. Еще бы! Женский образ, подернутый неизъяснимой дымкой… Знакомая картина. “Придешь ли, дева красоты! Слезу пролить над ранней урной…” Такая уж непременно придет… Но вряд ли Пушкин раздумывал о капитанской дочке, когда ехал на Черную речку стреляться. Ему было не до того…
Аналогии с пушкинской вечной невестой все-таки напрашиваются. По свидетельству наиболее тонких и доброжелательных очевидцев, даже в последние годы жизни, омраченные клеветой и безденежьем, Пушкин не допускал о жене ни единой дурной мысли. Не то чтобы во всем она была безупречна. Нам надлежит помнить о Наталии Николаевне не где-нибудь в магазине тканей, а в сознании и восприятии Пушкина, который открывался в письме, что любит ее душу более ее лица, а для лица не находит на свете никаких сравнений. Не без его содействия, должно быть, ее прозвали Психеей. Да она и была Психеей – душою души Пушкина. Она-то своим дыханием и окрашивает атмосферу “Капитанской дочки”, смыкаясь не с лицом героини, не с обликом, а с ее душой.
Там же оставлен росчерк, который возможно принять за вензель Пушкина, за его “ex libris”: “На другой день, когда сидел я за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать?» – сказал мне Швабрин…”
И вирши Гринева, и его перо, и шпага посвящаются в том эпизоде капитанской дочке. Виньетка заготовлена: крест-накрест перо и шпага. Легко представить ее в ином составе и контексте. Отложил перо и взял пистолет… Близилось время подвести черту.
5
Когда пишешь по-настоящему, не сознавая, что происходит, не понимая, как, зачем и о чем ты пишешь, случается, на твои письмена ложится легкая тень легенды. О том легенда, как некий странник заснул однажды на берегу, осененный волхвами, на какие-то полчаса, а когда проснулся, оказалось, прошло 300 лет…
Речь идет о классиках. О долговременности текстов. Классики спят, но пока мы читаем с неподдельным интересом, их книги живут, видоизменяются и, бывает, набирают влиятельность. Мы даже не помним, еще не установлено, был ли такой писатель Шекспир или не было никакого Шекспира. А Гамлет все еще спорит. И нам невдомек, когда он моложе и красноречивее, сейчас или при Шекспире. Значит, Шекспир время от времени все же просыпается. И, посмотрев одним глазом на сочиненного им Гамлета, говорит: валяй дальше!.. Вся жизнь потеряна и проиграна, всю жизнь проворонил Шекспир, но ему повезло: заснул волшебным сном и проснется, даст Бог, еще через 300 лет после нас. Для того чтобы улыбнуться: заснул!..
Законна классическая традиция, но законно и нарушение традиции. А то, чего доброго, заснет и не проснется. Или явится к нам в застывшем виде из холодильника. Требуется, если настала пора, ее отогреть. Разбудить.
Терпеть не могу некрологи и поздравительные статьи ко дню рождения уже покойного автора. “Многоуважаемый шкаф!” А шкаф между тем тоже хочет любить и мыслить, если бы был писателем. И шкаф еще вам покажет!
Для того и предусмотрены в науке отрасли работ: “история литературы”, “литературная критика”. Обе кормятся и живут при литературе. И звучит престижно: “литературы”, “литературная”… Как бы вышли замуж. Но если так, говорю, то извольте быть на равных. Да! на равных с той самой литературой, про которую вы пишете. Ну, как Пушкин – в смысле смелости. Не бойтесь рисковать! Так нет: жмутся, мнутся: опасно! Предпочитают служить приживалками. Могильщиками. Выйти, если повезет, в сторожа на кладбище…
Но ведь “история литературы” и “литературная критика” – умозаключаю – не в том состоит, чтобы повесить бирки и кого-то из писателей повысить или понизить в должности. Над мертвой и давно не колыхающейся литературой построить и поставить похоронное бюро? С цветами. С оркестрами. В толпах поклонников и с венками на катафалках. А после кремации милый прах распределить по ячейкам, по ящичкам в огромном мировом колумбарии?..
Представляю себя ночью на кладбище, на пространных Елисейских Полях истории всеобщей словесности – легкой тенью. Что бы я там делал? Оплакивал? Да их уже сто лет оплакивают. Нет, я бегал бы от памятника к памятнику и шептал бы на ушко. Каждому отдельно: – Проснись! Пришла твоя пора!..
……………………………………………………….
Посвистывая тросточкой, Пушкин переступил границу.
6
К общечеловеческому сожалению, после жизни от человека чаще всего остаются одни пустые анекдоты. Так уж устроена наша бедная память, цепкая на одно занимательное, неожиданное или смешное. На какую-нибудь ерунду.
…Но дней минувших анекдоты
От Ромула до наших дней
Хранил он в памяти своей.
Задерживаются в ней случайные и вроде бы никому не нужные кристаллические песчинки, странности и капризы судьбы, забавные шутки, бирюльки, чудачества и химеры природы, ложащиеся в будто заранее подставленную лузу. Внезапные всегда уклонения от нормы, исключения из правил, нарушения приличной и прилипчивой действительности, предполагающие, если нет выхода, непринужденный и остроумный ответ: да так, к слову пришлось! (Из пушкинских записей 1835–36 гг.: “Потемкин, встречаясь с Шешковским, обыкновенно говаривал ему: «Что, Степан Иванович, каково кнутобойничаешь?» На что Шешковский отвечал всегда с низким поклоном: «Помаленьку, ваша светлость!»”)
Неравнодушный к этой материи, Пушкин был готов и “Капитанскую дочку” зачислить в ту же рубрику: “Анекдот, служащий основанием повести, нами издаваемой, известен в Оренбургском краю” (набросок предисловия). И впрямь, разве не анекдот предложенная нам диковинная история про то, как боевой офицер при всех регалиях, совместно с огнеопасной невестой, выпутался из сетей пугачевщины, ни разу не погрешив против долга и совести? Скажут (и говорили – на суде Гриневу): “– В жизни так не бывает! Ничего похожего!..” Но не станем придираться. Реализм так реализм. Роман так роман. Построенный, однако, помимо подозрительной фабулы, на двусмысленных и скользящих словах, деталях, эпизодах анекдотического свойства, по которым повествование несется, как на коньках.
Взять хотя бы законы и уставы армейской службы, преподанные Зуриным, к которым поначалу Гринев пытается себя приучать с таким усердием и прилежанием, что служба, споткнувшись, уползает под биллиард на четырех лапах: “без пуншу что и служба!” Пушкин, ясное дело, никакую службу и в грош не ставил, почитая гнусной обузой, и, чтобы занять себя, в камер-юнкерском костюмчике, скрючившись, лакал мороженое, а душу отводил на подопытном кролике – Гриневе, показывая, как надобно держать вахту…
Досталось и начальству: “От песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотворство, как дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее”.
Прав был честный Иван Кузмич: стихотворство и служба несовместимые вещи. И это чувствовал Пушкин, бесясь на привязи. Но, к великому сожалению, это же, подобно Ивану Кузмичу, прекрасно сознавали и царь Николай, и граф Бенкендорф, тогда же писавший о Пушкине царю: “…Лучше, чтобы он был на службе, нежели предоставлен самому себе”.
Боже мой! быть предоставленным самому себе – единственное, что мечталось и требовалось Пушкину. Что же до “горьких пьяниц”, то на эту тему у него в столе был припасен очередной анекдот:
“Херасков очень уважал Кострова и предпочитал его талант своему собственному. Это приносит большую честь и его сердцу и его вкусу. Костров несколько времени жил у Хераскова, который не давал ему напиваться. Это наскучило Кострову. Он однажды пропал. Его бросились искать по всей Москве и не нашли. Вдруг Херасков получает от него письмо из Казани. Костров благодарил его за все его милости, но, писал поэт, воля для меня всего дороже” (“Table-talk”, 1835–36).
О чем это? О ком?.. Сказано: “писал поэт”. И для Пушкина уже не важно, большой поэт или маленький, Пушкин или Костров. “Комоэнс с нищими постелю разделяет; Костров на чердаке безвестно умирает…” (“К другу стихотворцу”, 1814). Писал поэт, для которого воля – всего дороже.
На свете счастья нет, но есть покой и воля…
Посвистывая тросточкой, Пушкин перешел дорогу…
7
В продолжение анекдотической службы займемся анекдотической крепостью. Она не менее комедия. “Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» – спросил я у своего ямщика. «Недалече, – отвечал он. – Вон уж видна». Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными”.
Пока Гринев вертит головой во все стороны, пытаясь разглядеть отсутствующую крепость, в виде подлинника вставляется подмена одного ряда слов другим рядом (вместо бастионов забор) и начинается маскарад неузнавания ожидаемой панорамы, за счет чего та детально изображается. Нам могут возразить, что Белогорская крепость была именно такой, какой обрисовал ее Пушкин. Вполне возможно. Но само описание крепости сделано по анекдоту: “Разве это цирк?..” Как это свойственно анекдотам, исходной точкой и основанием картины служит слово, слово-герой, подчас с нулевым знаком, вызывающее удивление и разочарование рассказчика. “«Где же крепость?» – спросил я с удивлением. «Да вот она», – отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали”.
Реальность до глупости не совпадает с названием и назначением предмета, и различия многократно обыгрываются. Так, единственное орудие крепости, взнузданное мальчишками и начиненное всякой дрянью – “тряпички, камушки, щепки, бабки”, – почтительно титулуется пушкой. То же и крепостной гарнизон, составленный из инвалидов с косичками, и бравые его командиры: одноглазый, что всемерно подчеркивается, старичок-поручик Иван Игнатьич, помогающий комендантше сушить грибы и перематывать нитки (“держи-ка руки прямее”), и капитан Иван Кузмич, “в колпаке и в китайском халате”, двадцать лет обучающий детушек воинскому артикулу, а те все еще не усвоили, “которая сторона правая, которая левая”. Вдобавок, в крепости над командирами верховодит баба. При всем уважении, которое возбуждает у нас здравомыслящая Василиса Егоровна, ей предоставлено право раззвонить по деревне весть государственной важности о приближении Самозванца: доверила военную тайну одной лишь сплетнице-попадье, “и то потому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями”. Короче, опять анекдот. И так на каждом шагу.
Отнесись мы серьезно к прилежащему тут абсурду, и не миновать Пушкину, по нынешним временам, обвинений в дискредитации армии, в умалении силы и славы русского оружия и в очернении действительности. Однако подобный вздор никому не приходит в голову. Пушкинский смех, в данном случае, начисто лишен осудительности.
Правда, к концу романа веселый авторский нрав несколько выдыхается. То ли фабула принимает более крутой для героя оборот. То ли “Капитанская дочка”, в бесконечных переездах и треволнениях Гринева, Пушкину поднадоела, и он досказывает ее легкой скороговоркой. Но и тут потеха – в самых притом неуместных эпизодах. Генерал, выясняется, в виду пугачевской осады Оренбурга укутывает яблони теплой соломой и обдумывает печальную новость о гибели капитана Миронова и его бедной жены: “…Добрая была дама и какая мастерица грибы солить!” И добавляет, должно быть, в утешение Гриневу: “А что Маша, капитанская дочка?…Ай, ай, ай!.. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться”. “…Лучше ей быть покамест женою Швабрина… а когда его расстреляем, тогда, бог даст, сыщутся ей и женишки. Миленькие вдовушки в девках не сидят…”
Что ни фраза – то цирковой номер. Преподносится он по извечной сюжетной схеме любого анекдота, в котором героем было и остается – слово:
– Разве это цирк? Это бардак, а не цирк. Вот у моего дяди в Одессе был бардак, так это же – цирк!
Разве это лошади? Это не лошади, а бляди. Вот у моего дяди в Одессе были бляди, так это же – лошади!
Разве это клоун? Это хуй, а не клоун. Вот у моего дяди в Одессе был хуй, так это ж – клоун!
8
Дрочить литературную сволочь непечатным словом не моя печаль. Ну, случалось, кидал собакам серую поминальную кость – так и вцепятся, так и вгрызутся. Развлекает. Ими, получается, можно управлять. Рулить на расстоянии. С пол-оборота заводятся. Кроме подброшенной кости ничего не помнят. Дальше одной фразы не приучены читать. Как по команде воют скопом на солнце, и скандируют непристойное слово, и ахают, и ужасаются вокруг Пушкина. Даже как-то неудобно цитировать себя в их вульгарном пересказе. Будто радуются шансу, предатели, обругать Пушкина.
Но меня занимают сейчас иные мечты и звуки. Тем паче, что, кажется, Маше удалось-таки на самолете перевалить границу, и меня начинают печатать в Ленинграде. Никогда и не снилось вампиру попасть на родимое пепелище. Естественно задуматься о странностях любви, о Пушкине, о природе искусства. Черная речка и капитанская дочка – достойный повод.
Поговорим о вампирах. Вероятно, всякий уважающий себя писатель по своей натуре вампир. Не пугайтесь! Он же вампир только в переносном, только в иносказательном смысле. Как и все иносказательно в этой перевернутой жизни. Он действует в призрачном мире, выдавая его за реальный, и, бывает, не обманывается. Ведь пока о ком-нибудь пишешь что-нибудь художественное, то вместо него вроде бы и немного живешь, питаясь чужой, вымышленной, разумеется, кровью. А если в запасе у автора десятки личин-персонажей, не считая неодушевленных вещей, которые под борзым пером тоже, случается, обретают голос? Ну, как игра в куклы. В папы-мамы. В дочки-матери. В сестрицу Аленушку и братца Иванушку… Воображаемые дамы в воображаемых коттеджах пьют воображаемый чай из воображаемого самовара. Да так аппетитно пьют, что в доме дым коромыслом и не разбери-поймешь, кто тут у них в гостях, и не сам ли то Пугачев справляет свадьбу? А книга, путешествуя по читательским каналам, набирает ярость, влиятельность. Ее от нас уже не оторвать: присосалась. Напилась ума и достатка у свежих, молодых поколений и раздает налево-направо чувствительные поцелуи-укусы, множа сонмы вампиров, готовых ринуться в ночь…
Но посмотрите, как жалок писатель в суровом дневном свете. Начав пробавляться немного загробной должностью и выдуманной ролью, в полусне, не приходя в сознание, он еле ноги волочит. Оперирует уже не руками, не ногами, а периодами речи и чуть что безответственно уныривает в сюжет. Пренебрегая радостями правильного домашнего бытия, что само по себе уже нелестно, он делает несчастными себя и окружающих. Привычка самонадеянно реять в запретных измерениях сказывается губительно на писательской биографии. Она становится неровной, вымороченной, фантастичной, хоть садись и пиши с нее какой-нибудь новый роман о капитанской дочке.
Пушкин тяготел к фантастическому исходу. Его биография – ствол, зацветающий легендами. Всякий раз – наново.
…Мне все неймется взять новый рубеж прозы. Для этого – для начала – следует разучиться писать. Будто у тебя за спиной никого и ничего не стояло. Одна бушующая ругань…
Тебя станут уговаривать: “Оглянись! Ты сейчас провалишься! Посмотри, каким ты был молодцом когда-то, тридцать лет назад! Вчера! Позавчера! Вернись! Продолжи! Тебе стоит лишь обернуться! Оглянись!..”
Не оглядывайся! не оглядывайся! Иди не оглядываясь. Помни, это бесы кричат в каждой сказке. Только и могут, только и молят об одном: “Оглянись! Подожди! Оглянись!..”
Не обращай внимания. Оглянуться – остаться с ними. Застыть. Обратиться в камень. Будешь сам-друг вопить, как заправский попугай: “Оглянись! Повторись!.. Останься с нами!..”
Не оглядывайся! Становись всякий раз за верстак, будто ничего не умеешь. Не помнишь. Не знаешь. Как если бы ты был новичком. Будь слабым, безродным, беспомощным, безымянным. Только не оглядывайся!
Как пушкинский Терентий из села Горюхина, я меняю почерк. Попеременно пишу то правой, то левой рукой. А то и ногой. Авось не узнают. Пробую взять новый барьер прозы. Нет покоя. Все через пень-колоду. И в жизни – пробка. Не достают руки отослать письмо, погасить налоги, зайти в банк и починить зубы. Откладываю на завтра, извиняясь мысленно перед друзьями, что ничего достойного не успел совершить на земле. Назавтра та же история. Живу в постоянном трансе. Опять кому-то письма не написал, не позвонил по телефону, не оплатил счет за прошлый месяц, за позапрошлый год, и если будет так продолжаться, я останусь на бобах. Вот уж действительно вампир!.. И все-таки почему-то упорно, не взирая на угрызения совести, ничего не делаю.
А ведь знал заранее, все равно не дадут мне писать. Только сперва запрет пройдет под видом “советской власти” и “марксистско-ленинского мировоззрения”, а потом под фундаментальным знаком, навсегда, национального Ренессанса. Как в гроб заколачивают: “Русофоб! – кричат. – Русофоб! Пушкина не удостоил почтением!..”
Я только спрашиваю себя: ну а Пушкину, ты думаешь, было лучше? Естественно, его приветствовали. Но легко ли было ему читать после смерти мнение Фаддея Булгарина? Сверху, с неба, виднее, что сказал Фаддей, в сокрушении сердца, через несколько дней после дуэли: “Жаль поэта – и великая, а человек был дрянной. Корчил Байрона, а пропал как заяц. Жена его, право, не виновата. Ты знал фигуру Пушкина: можно ли было любить, особенно пьяного!”
Пушкин – пьяный? Вранье. Просто он немного рассейничал последнее время. Размышлял о брате Иванушке, которого сжили со света. Дудка-тростинка выросла на могиле зарезанного. Вечная эмблема искусства, поющего над загубленной жизнью: “За красные ягодки, за червонные чоботки…”
– Что вы сочиняете нынче, Александр Сергеевич? – допытывались не в меру любознательные дамы. – Признайтесь! Скоро ли нас одарите чем-нибудь замечательным?..
А Пушкин думал с тоской:
– Скоро ли это кончится?
У него в столе вместо дудки лежала “Капитанская дочка”.
9
В правдивой дудочке-дочке Пушкина смутно звучит, а временами внятно дает знать о себе голос русской народной сказки. Прислушайтесь:
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит…
“Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее”.
По троекратному приказанию (как и подобает в сказке) “Пугачев толкнул дверь ногою; замок отскочил; дверь отворилась, и мы вошли.
Я взглянул и обмер. На полу, в крестьянском оборванном платье сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба…
“Выходи, красная девица; дарую тебе волю. Я государь”…
…Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств…”
При виде Пугачева красная девица впадает в каталепсический сон, на манер сказочной Людмилы: “…Зрит колдуна перед очами. Раздался девы жалкий стон, падет без чувств – и дивный сон объял несчастную крылами…” Затем, вместе с Гриневым пройдя очистительный курс (ритуальное хождение через огонь – в пропущенной главе), превращается – в царевну. Недаром в поисках Маши так далеко заехал наш царевич, еще ничего не понимающий Гринев: “Куда это меня завело?…На границу киргиз-кайсацких степей!..”
Богоподобная царевна
Киргиз-Кайсацкия орды!..
Но всему свое место.
Пока красная девица валяется на кровати без памяти или сидит взаперти в темнице (“в светлице”), возле ее обители складывается альянс, хорошо знакомый сказке. В роли зверей-помощников мелькают девка Палашка (шустрая, вездесущая кошка – не зря Иван Кузмич замыкал Палашку в чулан) и ее полюбовник, казацкий урядник Максимыч (вороватый пес), разносящий вести и письма на дальние дистанции. Но волк, разумеется, это сам Пугачев.
Пугачев – оборотень. Он появляется внезапно из “мутного кружения метели”, в предварение мужицкого бунта, и в первый момент, как оборотень, не поддается четкой фиксации. Точнее сказать, в нем совмещается несколько зрительных образов, создавая перед глазами притягательную загадку. Фигура материализуется из ночного сумрака и снежного вихря, и образ Пугачева, знаменуя дальнейшие метаморфозы в романе, с самого начала вращается: “Вдруг увидел я что-то черное…”; “…Что там чернеется?”; “…Воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк, или человек”.
Колорит напоминает несколько атмосферу пушкинских “Бесов” (1830 г., Болдино), к которым восходит и тягостный сердцу пейзаж перед началом мятежа: “Однажды вечером (это было в начале октября 1771 года) сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря на тучи, бегущие мимо луны”.
Мчатся тучи, вьются тучи…
………………………………
Сил нам нет кружиться доле;
Колокольчик вдруг умолк;
Кони стали… “Что там в поле?” —
“Кто их знает? пень иль волк?”
Волк, согласно традиции, самое разлюбезное и родное по естеству воплощение оборотня, да и многие волки на самом деле – оборотни. Между тем Пугачев при ближайшем знакомстве оказывается простым мужиком, чье лицо не лишено даже некоторой приятности (а что вы хотите от оборотня?). В его трактовке Пушкин отталкивается от байронова Лары (письмо И.И.Дмитриеву, 26 апреля 1835 г.) и других разновидностей романтического демонизма в изображении разбойников, включая, должно быть, и собственного заколодившего вдруг “Дубровского”. И все же в человеческом облике и в повадках Пугачева проскакивает временами что-то волчье (верхнее чутье, сметливость и расторопность на неведомых дорожках в степи, полномочия Вожатого, Вожака, Вождя в дикой стае, кровожадность, воющее одиночество). Через весь роман, по лучшим стандартам, проносится огненный, волчий взгляд Пугачева.
Вот уж он далече скачет;
Лишь глаза во мгле горят…
Но главный факт, устанавливающий – на острие иглы! – оборотничество Пугачева, принадлежит истории. Это уже, так сказать, объективный исторический факт, и мог ли тут Пушкин остаться равнодушным? Как было упустить вполне правдоподобный, разработанный урок обращения неизвестного бродяги в царя, восколебавший половину России?! Раньше времени, видать, мыши кота хоронили, как означено на лубочной картинке в доме капитана Миронова. Ироническая эта картинка, имевшая на примете зловредного Петра I, перекидывается в “Капитанской дочке” на Петра III. Дескать, не почил в бозе самодержавный государь, а восстал в диком образе Пугачева на страх всем екатерининским мышам.
В секретных заметках к “Истории Пугачевского бунта”, предназначенных императору Николаю Павловичу, Пушкин не без тайной усмешки фраппировал царя такими, например, изысканиями в архивах: “Пугачев был уже пятый самозванец, принявший на себя имя императора Петра III. Не только в простом народе, но и высшем сословии существовало мнение, что будто государь жив и находится в заключении. Сам великий князь Павел Петрович долго верил или желал верить сему слуху. По восшествии на престол первый вопрос государя графу Гудовичу был: жив ли мой отец?”
Не выдержал и погрозил-таки Императору пальцем убиенного бабушкой дедушки и убиенного сыном отца. Цепь переворотов и насильственных смертей плелась возле трона. А вы еще спрашиваете: отчего произошла революция в России? Не сочувствуя революции, Пушкин влекся к Пугачеву. Уж больно интересной и поучительной показалась ему история, что сама ложилась под ноги и становилась художеством. От “Истории Пугачевского бунта”, удостоверенной всеми какие ни на есть документами, отделилась ни на что не похожая, своенравная “Капитанская дочка”…
Автор протер глаза. Выполнив долг историка, он словно забыл о нем и наново, будто впервые видит, вгляделся в Пугачева. И не узнал. Злодей продолжал свирепствовать, но возбуждал симпатию. Чудо, преподанное языком черни, пленяло. Автор замер перед странной игрой действительности в искусство. Волшебная дудочка, как выяснилось, пылилась у него под носом. Смысл и стимул творчества ему открылись. Он встретил Оборотня.
Уже в ответе на критику “Истории Пугачевского бунта” (1836) Пушкин отметает пошлые, по его выражению, назидательные сентенции, которыми его оппонент бесстрашно награждал Пугачева, и приводит разящий пример подобной нравоучительной пошлости: “Если верить философам, что человек состоит из двух стихий, добра и зла: то Емелька Пугачев бесспорно принадлежал к редким явлениям, к извергам, вне закона природы рожденным; ибо в естестве его не было ни малейшей искры добра, того благого начала, той духовной части, которые разумное творение от бессмысленного животного отличают. История сего злодея может изумить порочного и вселить отвращение даже в самых разбойниках и убийцах. Она вместе с тем доказывает, как низко может падать человек и какою адскою злобою может быть преисполнено его сердце”.
Нет, Пушкин не имел охоты мазать Пугачева дегтем: тот и так был черен. А по мере обдумывания и продвижения романа разбойник ему явно нравился. Впрочем, и раньше поэту не давала жить слишком тугая мораль, и он уверял, смеясь, что “можно описывать разбойников и убийц, даже не имея целию объяснить, сколь непохвально это ремесло”: “Поэзия – вымысел, – говорил Пушкин, – и ничего с прозаической истинной жизни общего не имеет” (Об Альфреде Мюссе, 1830). В этом смысле “Капитанская дочка”, будучи прозой, принадлежит безусловно поэзии, и отсюда ее пути далеко расходятся с “прозаической истиной жизни”, воссозданной в пугачевской “Истории”, пускай то и другое одна чистая правда.
Пушкинская азбука, однако, не спасает нас от вопросов. Остаются неразрешимой загадкой преданность Пугачева и дивное его покровительство Гриневу и капитанской дочке, чьих родителей разбойник предварительно убил. Можно, конечно, наметить десятки объяснений поведению последнего, но все они покажутся нам недостаточными, коль скоро его милости барину и противнику не имеют вообще логических обоснований. Скажем, сам Пугачев мотивирует свою доброту ответным чувством признательности за поднесенный своевременно стакан вина и заячий тулуп, благо неугомонный Савельич не дает нам уснуть, обращая тулупчик в рефрен драматического сюжета. Попутно Пугачев словно вступает в спор с нравоучительным критиком “Истории Пугачевского бунта”, не нашедшим в его естестве “и малейшей искры добра”: “Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья”.
Возможно, Гринев покорил сердце злодея бестрепетной своей прямотой, искренностью и умением апеллировать к обыкновенному здравому смыслу, доступному мужику, предлагая тому поминутно войти в положение его, Гринева, перелезть в шкуру (мундир) дворянина и офицера. “Рассуди, могу ли я признать в тебе государя?”; “Сам знаешь, не моя воля…”; “На что это будет похоже, если я от службы откажусь…”; “Сам как ты думаешь…”; “Сам ты рассуди, можно ли было при твоих людях…” Такова манера Гринева объясняться с Пугачевым. Вероятно, не подозревая о том, он возвышает мужика и разбойника до своего уровня, интеллектуального и нравственного, а тому это лестно. Он его не уговаривает, не упрашивает. Он просто рассуждает, держась на равных, и в результате загоняет собеседника в тупик. Тому ничего не остается, как сказать, что он сам все прекрасно понимает.
Пушкин обладал уникальным талантом разговаривать на равных с любым персонажем, к какому бы сословию тот ни принадлежал – хоть с генералом, хоть с цыганом, – и в рассудительных беседах (в шедеврах) проникать в итоге в сердце и мозг подопечного, а затем уже управлять (продолжая держаться на равных) его следствием и дознанием. Гринев лишь в слабой степени разделяет эту редкую отзывчивость автора.
Но все это, так сказать, вспомогательные веревки, за которые дергает Пушкин, заставляя Пугачева плясать под свою дудку. В принципе – никаких мотивов (ну так бы и сидел в своем Нижнем Тагиле). При всей вопиющей ясности душевных сочленений, Пугачев – непостижим. Лучше всех сказала о нем Цветаева: “…Как если бы волк вдруг стал сам давать тебе лапу…” Одно слово – оборотень. Отсюда невразумительность, сказочная невероятность связанных с ним у Гринева определений. За ним, за бесом, стоит Божий промысел. “Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств…”; “Странная мысль пришла мне в голову…”; “Чудные обстоятельства соединили нас…”; “Как тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу… Ты мой благодетель… А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души…”
Это надо же! Слушай, Маша: будем каждый день молиться за того, кто убил твоего отца и мать. И Савельич присоединяется: “Дай Бог тебе сто лет здравствовать… Век за тебя буду Бога молить…”
В каждой счастливой мысли важен эффект случайности. Но самая, наверное, иррациональная точка в сюжете, это когда после гибели Машиных родителей Гринев с Пугачевым впервые встречаются тет-а-тет и, взглянув друг на друга, ни с того ни с сего вдруг прыскают со смеху… Признаться, в этот миг у меня мороз пробежал по коже, и я подумал, что, может быть, не так уж неправы были станичные старики и старухи, пока Пушкин у них гостил и выпытывал про Пугачева, усмотревшие вместо ногтей у него на пальцах когти. “Пушкин много тому смеялся”, – вспоминает Даль. Что поделаешь? Художник.
10
Слава Богу, Пушкин – не праведник. И не проповедник. Посреди моралистов – Державина, Кантемира, Ломоносова, с одной стороны, с другой – Некрасова, позднее Гоголя, Толстого, Горького, Солженицына… Скажешь “Пушкин”, и мы улыбаемся. Ренессанс. Италия. Утро. Его имя возвестило заранее всю его литературную деятельность. Он выстрелил из пушки поутру (ср. пушка будила нас на заре в Арзруме) и сделался родным пушным зверем для нас, русских, воздушным пухом, пускай все дни и стреляет.
Умеет, естественно, писать и на строгие религиозные темы: “Отцы-пустынники и жены непорочны…” Но нет этого нахмуренного чела, этих собранных в куриную попку или опущенных книзу скорбной ижицей пророческих уст. Чернышевский. Добролюбов (пародия на “Добротолюбие”). Даже эстет Брюсов рядом с Пушкиным тяжеловесен и готов, как мораль, пропагандировать имморализм. О, крапивное семя, возобладавшее в российской словесности, забывшее о развлекательных жанрах, о светскости, которую с легким сердцем нам подарил Пушкин!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.