Текст книги "Ради радости"
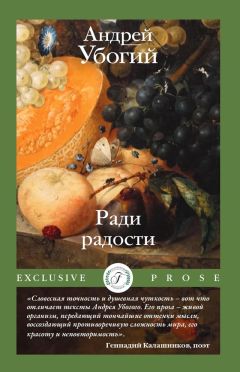
Автор книги: Андрей Убогий
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
А последнее поминальное блюдо – кисель. Смысл его, как я думаю, утешение. Всё же помины – грустное дело, даже если уходит старик; а уж когда смерть берёт молодых, у всех поминающих души болят, а сердца обливаются кровью. И чашка сладкого, вязкого киселя действует, словно повязка на рану: саднящая боль хоть немного, да притихает.
Кстати, припомнилось, что английское слово comfort, которое в ранних средневековых переводах Писания означало ни много ни мало «нисхождение Духа Святого», со временем стало употребляться как «утешение». Так что можно считать, что кисель, утешающий нас на поминах, есть хоть и слабое и отдалённое, но дуновение Духа, который собой овевает весь видимый мир и «дышит, где хочет».
Но не забудем: на поминах долго рассиживаться не принято. Допьём же кисель, ещё раз поклонимся хозяйке-вдове, приобнимем осиротевших детей, что враз посерьёзнели и повзрослели, да и пойдём жить себе дальше до тех самых пор, пока поминать не начнут и нас с вами.
ПРИМУС. Оказывается, я живу на свете так долго, что многие вещи, среди которых я рос, теперь можно встретить только в музее. Это и грампластинки, и плёночные магнитофоны, и ламповые телевизоры, и арифмометры – кто сейчас знает, что это такое? – и перьевые ручки с чернильницами, и деревянные лыжи с ременными креплениями и палками из коленчатого бамбука. Да что там, я застал ещё керосиновые лампы «летучая мышь» и земляные полы в курских хатах, крытых картофельною ботвой! А если держаться кухонной темы, то я современник примусов и керогазов. Вот поди растолкуй молодёжи, что это за звери и в чём их различие, хоть это различие полвека назад было столь очевидным, что не нуждалось ни в каких разъяснениях.
Например, примус. Соответствуя громкому имени («примус», кто помнит латынь, значит «первый»), это устройство действительно громко гудело в отличие от почти безголосого керогаза. Когда мы приезжали гостить к моей бабушке по отцу, Марии Павловне Панюковой (в посёлке Тим её называли короче: Марь Пална), примус на её крохотной кухонке пел-гудел чуть не круглые сутки. Раньше, чем начинали орать соседские петухи и ворковать голуби на улицах Тима, начинал гудеть бабушкин примус, под его тугой посвист мы нередко и просыпались. Так и вижу: бабушка подвигает поршнем насоса, потом, напряжённо поморщась, поднесёт спичку к горелке, и вспыхнет тугое, гудящее пламя, которое, кажется, хочет порвать на клочки самое же себя.
Стряпня на кухне Марь Палны шла с утра и до позднего вечера; руки бабушки, а порой даже щёки были то припорошены белой мукой, то блестели серебром чешуи (каких карасей, нами же пойманных, она нам нажаривала!), то краснели от фарша котлет – тех незабвенных котлет, вкуснее которых мне ничего, никогда и нигде не доводилось пробовать. А лапша, янтарные блёстки которой как будто светились? А кисло-сладкие блинчики, тонко-ажурные, словно брабантские кружева? А вареники с вишней, от алого сока которых густая сметана, накрывшая их, приобретала цвет нежно-розового заката?
Несравненное кулинарное мастерство моей бабушки было признано всеми в посёлке. Доходило до эпизодов комических. Так, тимские пьяницы как-то проникли в погреб Марь Палны, чтобы похитить полдюжины банок компотов – вишнёвых, грушевых и яблочных, – готовить которые бабушка также была мастерица. Она, помню, рассказывала об этой краже хоть, конечно, и с возмущением, но в то же время и с тайною гордостью, как о высшем признании своего кулинарного мастерства.
Секрет же – точнее, один из секретов – её кулинарных успехов был в том, что Марь Пална относилась с доверием и уважением к рецептуре, то есть готовила блюда именно так, в той самой пропорции и очерёдности всех компонентов, как это было предписано в книгах, журналах или, скажем, на листках отрывного настенного календаря. Она всё выполняла с буквально аптекарской точностью, не допуская никакой отсебятины, и результат выходил потрясающе вкусным.
Слова «с аптекарской точностью» – не просто речевая фигура. Бабушка всю жизнь работала провизором поселковой аптеки, то есть человеком, составляющим лекарственные смеси. Поэтому и привычка к аптекарской педантичности – согласитесь, диковинная для русского человека, – и уверенность в том, что мир в целом устроен разумно и правильно, это жило в бабушке неистребимо.
Вот и бабушкин примус (к которому нам давно пора возвратиться) – он тоже доказывал всей своею эстетикой и технической статью, всем разумным удобством устройства, что всё можно сделать правильно, аккуратно и точно и что беда лишь в нашем собственном безрассудстве и разгильдяйстве. В этом смысле примус нам демонстрировал целое мировоззрение: веру в технику и в прогресс, в порядочность и в порядок – веру, в конце концов, в «человека разумного».
Жаль, что ныне от этой веры, уютной и старомодной, почти не осталось следов. Вот разве что примус напоминает о ней, точнее, не сам даже примус, а моё детское о нём воспоминание. Как-то очень отрадно представить себе блеск латунных боков, тугой ход поршня-насоса, сипение керосина, распыляемого форсункой, и, наконец, тот волнующий посвист, с которым под днищем кастрюли дрожало упругое синее пламя. Этот свист замолкал, только если форсунка примуса засорялась, и тогда бабушка звала на подмогу внука. Чтобы прочистить форсунку, требовались мои молодые глаза, это и было моим скромным вкладом в тимские пиры. Имелся особый предмет – «прочищалка» – жестяная пластинка с тонким, припаянным к ней стальным волоском. Этим волоском и надо было попасть в засорившееся отверстие, чтобы наш примус опять загудел и вновь закипела кастрюля с борщом или зашкворчала сковорода с картофельными оладьями.
Где ж ты теперь, наш тимской примус? Неужели ты жив только в памяти да вот на этих страницах, где я пытаюсь тебя воскресить? Но слава Богу уже и за то, что всё это было: и гудение примуса в утренних сумерках, и бабушка в тёмно-вишнёвом халате, и стук её скалки о стол, припорошенный белой мукой, и упоительный запах оладий, и весь тот глубокий уют тимской кухни, который, как нам казалось тогда, будет вечен, который и впрямь, может быть, сохраняется где-то вне времени, вне суеты перемен. Почему, в конце концов, кто-то решил, что рай – это какие-то там непременные кущи с амброзией, арфами и фимиамом? Рай – это место, исполненное любви; а мало кто был настолько же полон любовью, как бабушка Мария Павловна, без устали хлопотавшая ради нас в тесном сумраке кухни, под нежный и чуть шепелявый свист примуса…
РАПАНЫ. При слове «рапаны» я вспоминаю Абхазию, пляжи Гульрипша и то, как мы с дочкою Дашей ныряли, отдирая рапанов со свай полуразрушенного причала. В свои девять лет Даша плавала очень даже неплохо; но ныряла она всё же там, где было помельче и где волна не так шлёпала о бетонные сваи. Море было прозрачным и тёплым; вдалеке, через залив, виднелись портовые краны Сухума; по пустынному пляжу бродили коровы и удивлённо смотрели на то, как мы с Дашей ныряем.
Если как следует раздышаться, можно было нырнуть метров на пять-шесть – туда, где уже было сумрачно и жутковато и гроздья крупных рапанов лепились на сваях диковинными наростами. Царапая руки, я торопился их отодрать, но это было непросто: рапаны хрустели, в висках туго бухала кровь, море выталкивало обратно наверх, и за один нырок удавалось добыть не более двух костяных завитушек размером примерно с кулак.
Но вскоре мы всё же насобирали десятка три этих дальневосточных моллюсков, которые, как известно, доплыли до Чёрного моря на днищах судов. Отдыхая, посидели на пляже, где галька была перемешана с гильзами – недавно в этих местах шла война, – и побрели к дому, где жили в то лето.
По пути не раз останавливались, чтобы поесть ежевики и слив в одичавших садах, рядом с брошенными домами, в пустые оконные дыры которых тянулись лианы, и откуда порой вылетали потревоженные нами сойки или удоды. Это тоже были следы миновавшей войны, как и те одичавшие табунки лошадей – долгогривых, пугливых и чутких, – которые время от времени выбегали с гор к морю, а потом снова скрывались в лесистых распадках. Порою дорогу нам перебегали поджарые бурые свиньи, похожие на небольшие торпеды, которые деловито рылись в пыли, а потом с шумом и топотом исчезали в густом ежевичнике.
Почему-то представилось вдруг, что абхазы, так отважно сражавшиеся за собственную свободу, завоевали её так много, что избыток свободы теперь доставался природе: одичавшим садам и лианам, свиньям и лошадям. Всё росло, размножалось, резвилось здесь вольно, в наивной беспечности, словно в раю. О том же, что в этом избытке свободы таилась ещё и опасность, как-то не думалось посреди этой всей субтропической неги, да ещё в ожидании обеда с вином и рапанами.
Чистить рапанов мы сели в пацхе – так называется летняя кухня абхазов. Это был деревянный навес, в центре которого, над очагом, висел на цепи закопчённый котёл, в котором хозяева изредка готовили лобио или мамалыгу. Ещё тут были стол, пара лавок, посуда – всё очень грубое, крепкое и настоящее. Примерно в таких же вот пацхах абхазы готовили пищу и сто лет назад: ни войны, ни революции, ни прогресс не изменили простого уклада их жизни.
Спокойно почистить рапанов нам, впрочем, не дали: очень скоро мы оказались окружены голенастыми, наглыми петушками-подростками. Они гордо вышагивали вокруг, били куцыми крыльями, хрипло сипели и пытались выхватить раковины чуть ли не из наших рук.
– Не цыплята – орлы! – смеялись мы с Дашей.
От них досталось даже соседской собачке, маленькой и кривоногой, которая сунулась было к нам в пацху, но тут же была атакована петушками и, поджав хвост, улепетнула опять за калитку. Интересно, что профили этих цыплят-петушков были чисто абхазскими: горбоносые, гордые. Похоже, здесь даже цыплята перенимали воинственный и независимый нрав местных жителей.
С рапанами мы всё же справились – они уже шкворчали на сковородке, в оливковом масле, среди колец лука, – и пришло время накрывать стол к обеду. Как раз подошла жена Лена, нарезала помидоры и хлеб, а я разлил по кружкам красное вино «Изабелла», которое в Абхазии, называют «чёрным». Пахнущее земляникой, оно было сладким, густым, как и природа субтропиков, которая нас окружала. И я даже не знаю, что больше хмелило: густое ли, тёмное это вино или роскошь всех этих пальм и лиан, эвкалиптов и зарослей лавра, мимоз и инжирных деревьев, вся эта яркость цветов и густые, томительно-сладкие запахи юга?
Скоро посередине стола появилась сковорода мясистых рапанов, напоминающих видом и вкусом те куриные желудки, которые у нас называют «пупками». Только рапаны, не в обиду «пупкам», были вкуснее: упругая пряность их мяса делала эти моллюски прекрасной закуской к вину.
Обед шёл своим чередом, мы болтали о том о сём, как вдруг над пляжем Гульрипша застрекотали зелёные патрульные вертолёты. Они летели в наклон, низко, быстро и хищно, и от их стрекотания прохватывало ознобом. Сразу стало понятно, что вся эта роскошь и нега, которая нас окружала, всего лишь оболочка, под которой таилась жестокая, грубая истина жизни. И я вдруг неосознанно заторопился, стал быстрее жевать, торопливее пить из кружки вино, потому что кто знает, что может случиться уже через час или два.
РЫБНЫЕ РЯДЫ. Даже в музеях не бывает так интересно, как на живом, полном шума, движения, запахов рынке. А изо всех мест на рынке интереснее всего рыбные ряды. Трудно даже и объяснить, почему это так, почему ни одежда, ни обувь, ни груды багрового мяса, ни разноцветные россыпи фруктов, ни даже лотки остро пахнущих пряностей не привлекают так, как ряды, где представлены дары моря: все эти рыбы, кальмары, креветки и осьминоги? Один только запах копчёной скумбрии, мойвы или салаки уже заставляет забыть все дела и зачарованно бродить по рыбным рядам, не уставая дивиться фантазии жизни, которая не поленилась придумать такое разнообразие всевозможных существ.
Вот мёрзлой поленницей, голова к голове, лежат рыбы морские: минтай, хек, треска. Они и впрямь, словно дрова: они нас согревали-спасали в те трудные, полуголодные зимы девяностых годов, когда наших зарплат только лишь на минтай и хватало. Вот пучат глаза, топорщат жабры и плавники красные, словно ошпаренные, морские окуни, такие колючие с виду, что к ним страшно и подступаться. Вот ломти сёмги, красно-мясистые, с мраморными прожилками жира. А вот полные лотки мелочи – тюльки, салаки, хамсы, – которая льётся с ковшей продавцов, словно расплавленное серебро.
А вот раскинулось и пресноводное наше богатство. Тут и карпы, лобастые, словно быки, и пятнистые длинные щуки – вот бы, думаешь, поймать такую на блесну! – и серебристые жерехи с мощным хвостом, чьи удары ты столько раз слышал, сплавляясь на лодке, и оливковые лини, и судак – до чего ж он хорош в заливном! – и, конечно, лещи, широченные, словно подносы. А налимы, лежащие склизкими чёрными кольцами? А сомы, чьи усатые пасти, кажется, и на прилавке готовы глотать всё, что им подвернется?
Но в рыбных рядах можно встретить и прочих-иных обитателей вод. Не диво теперь и кальмары, и мидии, и осьминоги; бывает, что даже омара увидишь на крошеве льда – омара, чьи клешни, усы и суставы коленчатых ног напоминают чудовищ из фантастических фильмов. И вообще, когда ходишь по рыбным рядам, сам себе кажешься зрителем фильма об иных, запредельно-далёких мирах. В обычной-то жизни где встретишь все эти щупальца, клешни, присоски, глаза на усах-стебельках, эти жабры и плавники, эти страшные пасти? До чего ж всемогущ и загадочен тот поток жизни, который выносит на наши глаза всё это разнообразие биологических форм!
После прогулки по рыбным рядам во мне всегда прибавляется жизненных сил. Кажется, что искупался в бодрящей и свежей реке, в том самом потоке, который несёт вместе с рыбами, раками и осьминогами нас с вами тоже. С одной стороны, сознаёшь, что ты, как живой организм, являешься только ничтожной частицей на этом жизненном карнавале, но, с другой стороны, понимаешь, что ты, со своим удивлением перед всем этим пиршеством жизненных форм, – ты всё же являешь собою нечто иное и единичное. Таких, как вот именно ты, никогда прежде не было, нет и не будет; не будет такого же точно, как твой, изумлённого взгляда, не будет тех именно мыслей, какие сейчас ты пытаешься выразить словом, не будет того, что есть именно ты – такой странный, нескладно-растерянный, но даже и в этой нескладности неповторимый. И вдруг начинаешь… ну, может, ещё не вполне сознавать, а только предчувствовать истину единичного, прозревать ту бытийную глубину индивидуального существования, которая может питаться лишь самым глубоким источником жизни – свободной и радостной волей Отца, сотворившего весь этот мир…
РЮМКА ВОДКИ. Отчего-то из всех выпитых в жизни рюмок с особою благодарностью вспоминается одна, даже не столько сама эта рюмка, холодная и запотевшая, сколько тот мартовский день, когда она была выпита.
Этот день был настолько хорош, так огромен и ярок, что словно сам уже не вмещал того блеска, теплыни, трамвайного звона, капели, воробьиного гвалта и белизны облаков на синеющем небе, из которых сам же и состоял. И уж тем более не помещался в нём я, медицинский студент, одиноко бредущий по мартовским лужам Смоленска.
Приходилось ли вам ощущать, что вы лишние на сияющем празднике жизни? Когда окружающий мир так прекрасен, так полон собою самим, что вам, одинокому путнику, в нём не находится места? Поэтому вместе с блаженной истомой от созерцанья весны я ощущал и тоску одиночества. Я сознавал, до чего же ничтожен и слаб по сравнению со всем этим блеском, с полуденным звоном капели, со всей ярой силой весеннего дня.
Я брёл вниз по длинной, к Днепру опускавшейся улице, изгибы которой поворачивали меня к солнцу то левой, то правой щекой. И я таял на нём, таял вместе с крышами и водостоками, с грудами грязного снега обочь тротуара, с разомлевшими мартовскими котами на карнизах и подоконниках, вместе с пьяными от весны воробьями, которые так ошалело, забыв всё на свете, плескались в сверкающих лужах, что брызги летели мне на ботинки. Мы все – я, коты, воробьи – словно чуть повредились рассудком от солнца и блеска, от брызг вездесущей капели. И мне уже, помнится, было физически трудно выдерживать натиск весны.
Поэтому вывеска «Рюмочной», которую я вдруг увидел, показалась заманчива, как предложение о передышке. И я с облегчением сбежал по ступенькам в подвал, где было безлюдно и тихо и где наконец-то глаза могли отдохнуть в полумраке.
Буфетчица, величавая, как изваяние, скучала за стойкой. Перед ней мерцал влажный поднос перевёрнутых рюмок. Стоять перед стойкою молча было неловко, и я попросил налить рюмку водки. Полные белые руки буфетчицы мягко задвигались, запотевший графин приподнялся и наклонился, едва слышно булькнуло, и вот предо мною стояла всклень налитая рюмка, такая холодная, что было трудно держать её в пальцах. Осторожно, боясь расплескать, я поднёс рюмку к губам и, выдохнув, бросил в себя обжигающий лёд.
– Закусочку, парень, не позабудь – загудел грудной голос буфетчицы, и она пододвинула мне ломтик хлеба с селёдкой.
Я жевал и мычал, благодарно кивая, и чувствовал, как во мне распускается словно горячий цветок. В груди потеплело, глаза повлажнели так, что и мокрые рюмки на стойке, и крупные серьги буфетчицы стали переливаться радужным блеском и весь подвал «Рюмочной» начал казаться волшебной пещерой из сказки.
И когда, расплатившись, я выбрался снова наверх, к ослепительно-синему небу и солнцу, мне было легче выдерживать натиск весеннего дня. Не только снаружи, но и внутри меня теперь что-то сверкало и жгло, и я вдруг ощутил равновесие между собой и сияющим миром вокруг. Я только что словно бы причастился ему, и он больше не отторгал меня, как недавно, а принимал за вполне своего.
Я догадался: всё дело в солнце! Ведь глоток водки, который я выпил и который теперь грел меня изнутри, это был, в сущности, солнечный сгусток. Когда-то луч солнца коснулся земли, оживил её всходы, затем, пройдя ряд превращений, стал пшеничным зерном, а затем в перегонных кубах спиртзавода превратился в тот самый глоток обжигающей водки, который теперь, став частицей меня, позволял себя чувствовать родственным этому яркому миру. Солнце, можно сказать, отразилось во мне, и незримая нить задрожала меж нами…
Улица продолжала нести меня вниз, но теперь это был словно некий блаженный полёт. Впереди, над домами и крышами, сияли золотом соборные купола. На их блеск было трудно смотреть, а вокруг куполов и крестов носилась, шумя, голубиная стая. Белые голуби то вдруг чернели, почти пропадали из глаз – огонь куполов словно их испепелял, – а потом, снова ярко белея, неслись по пронзительно-синему небу. На какое-то время я вдруг перестал понимать, где же я нахожусь – на земле иль на небе? – и мне уж мерещилось, что я тоже лечу вместе с птицами в их трепещущей стае и глаза мои слепит то золото, то синева…
САМОЛЁТНЫЕ ЗАВТРАКИ. Каждый, кому приходилось летать, получал от стюардесс коробку, наполненную подобиями еды. Не считать же всамделишной пищей эти пакетики масла, брусочки желе, эти коробочки с безвкусными овощами да ломтики мяса иль рыбы, запечатанные в фольгу? Как в детском наборе «Юный доктор» или «Юный портной» пластмассовые ножницы или стетоскопы очень мало похожи на настоящие, так и при раздаче еды в самолете чудится что-то игрушечное, словно пассажиры решили, как дети в песочнице, поиграть в завтрак или обед.
Про вкус самолётной еды писать нечего – его просто-напросто нет. Но зато всякий раз, когда мне предлагают эти наборы, я вспоминаю калужский Музей космонавтики, где нам, школьникам, показывали еду космонавтов. Эта витрина поражала нас куда больше, чем прочие экспонаты музея. На тюбиках, напоминающих тюбики зубной пасты, было написано «борщ», «бифштекс» или «суп с фрикадельками». Как мы восхищённо толпились перед этой витриной и каждый мечтал: эх, вот бы попробовать то, что едят на орбите! Тогда, в детстве, сделать этого не удалось, и разочарование синтетической пищей пришло много позже. Ведь еда в самолетах, должно быть, похожа на то, что едят космонавты: от пищи в ней только название, да унылые цифры калорий.
Но тут наша тема – критика самолётной еды – вдруг поворачивается совершенно иной стороной.
Что, в конце концов, остаётся от всякой, пусть самой вкусной, еды? Лишь название, слово, идея – то, что Платон называл словом «эйдос». (Про физиологическое завершение любого из наших пиров писать как-то даже неловко. Мы же с вами, надеюсь, не сводимся к пищеварительной трубке, что начинается ртом и кончается задним проходом?) Так вот, еда самолёта, которую с настоящей едой роднит, в сущности, только название, ближе к чистой идее еды, чем какой-нибудь сочный бифштекс или стейк из лосося. И мы в самолёте, рассеянно глядя в иллюминатор, за которым, слепя и сверкая, расстилаются кипенно-белые облака, мы поедаем не столько бифштекс, сколько «идею бифштекса». Но где же ещё и общаться с платоновским миром идей, как не за облаками, не там, где земная реальность бледнеет, становясь уже то ли воспоминанием, то ли бесплотным призраком? Конечно, чем ближе к небу, тем холоднее, как говаривал барон Дельвиг, но зато в той небесной прохладе, где мы с вами летим, тлен и порча изменчивой жизни не так разрушают и мысли, и память, как это было бы на покинутой нами земле.
В конце концов, даже и эти страницы воспоминаний о пирах моей жизни: что это, как не попытка подняться туда, где уже существует не просто еда (вещь, как известно, весьма скоро портящаяся), но присутствует «эйдос» еды, живёт то, что питает не только тела, столь же тленные, как и то, что они поедают, но сохраняется то, что питает и радует души?
САЛАТЫ. По салатам можно изучать историю и собственной жизни, и целой страны. Так, в аскетически-строгие послевоенные годы салаты были не в ходу. Какой там салат, скажи спасибо, если в столовке предложат суп да гуляш, а на третье компот или чай. Я уж не говорю про старинный, традиционный уклад: ни в крестьянском, ни в городском мещанском быту о салатах не было и помина. «Щи да каша – пища наша»; а смесью травы и каких-то варёных кусочков могли питаться, разве что, поросята.
Но времена изменились, и на столах появились салаты. Первый салат, что я вспоминаю, это был винегрет, который нас заставляли есть в детском саду. И нам он, помню, тогда не нравился. Что за радость, думал я, роясь в тарелке, жевать эти пресные кубики свёклы с морковью, да ещё перемешанные с солёными огурцами? Всё это было холодным, осклизлым, вечно падало с вилки на стол и тебе на штаны; в итоге большая часть винегрета, которым нас, деток, пытались кормить, оказывалась в помойном ведре, которое поварихи детсада уносили своим поросятам.
Но вообще винегрет о ту пору – то есть в шестидесятые – семидесятые годы прошлого века – буквально завоевал всю страну. В стекляшках и забегаловках, в заводских или привокзальных столовых – всюду можно было увидеть тарелки с красневшею горкой вареной моркови и свёклы; и стоило это всё удовольствие, если не ошибаюсь, всего шесть копеек.
Со временем я полюбил винегрет за его простоту и доступность, за красный праздничный цвет (не за это ли самое винегрет так любила и вся страна, ведь тогда её символом было именно красное знамя?); да и вкус винегрета мне нравился больше и больше. Облитый подсолнечным маслом, да с ломтиком жирной селёдки, да с краюхою свежего чёрного хлеба – признайтесь, что лучшей закуски тогда было трудно сыскать.
К тому же потом я узнал, как этот простецкий салат может быть превращен в кулинарный шедевр. Ведь знаменитая «сельдь под шубой», которая и до сих пор соблазняет самых капризных гурманов, это, по сути, тот же винегрет, но доведённый до совершенства. Составляющие те же самые – лук, свёкла, картофель, морковь, – но они не перемешаны, как в простом винегрете, а выложены послойно, так, что этот салат напоминает слоёный пирог. А так, винегрет он и есть винегрет, с непременною спутницей-сельдью и с розовым соком, который сверкает янтарными блёстками масла.
Но пора перейти и к другому салату, который стал, можно сказать, гастрономическим символом детства и целой эпохи. Все главные события жизни, от Нового года до дня рождения, были связаны именно с ним; и не раз доводилось мне слышать, что без него, дескать, и праздник не праздник.
Речь конечно же об «оливье». В нём главным ингредиентом (ну и словечко!) был дефицит. То есть не просто какой-либо из редких продуктов, необходимых для приготовленья салата, а дефицитом в те годы был и майонез, и зелёный горошек, и вареная «докторская» колбаса, но важен был дефицит как явление. Важно было осознавать, что перед тобою не просто еда, а нечто особое, редкое – то, что ты долго разыскивал, мотаясь по магазинам и выстаивая в очередях. «Оливье» был доступен не всем, не всегда; им гордились как неким «умением жить», так, возможно, пещерный охотник гордился умением заманить в западню мамонта или носорога.
И вот именно «дефицитностью», ощущением прикосновения к некой мечте нам и дорог был этот главный советский салат, получивший (откуда – не знаю) французское имя. А вкус его был, откровенно сказать, никакой. Так, какая-то вялая смесь из яйца, колбасы и варёной картошки с морковью, с почти что безвкусным зелёным горошком. Если б не майонез (тоже та ещё редкость!), это пресное месиво вообще нельзя было б есть.
А когда та, былая, уютно-застойная жизнь вдруг сломалась, когда понятие дефицита вернулось из гущи обыденной жизни на страницы экономических сводок, точнее сказать, в разряд дефицита попало иное: деньги, время, здоровье, покой, – то куда-то исчез и салат «оливье». Нет, он, конечно, мелькает ещё кое-где в застольях пенсионеров, которые с нежностью вспоминают эпоху застоя; но теперешний, переживший себя самого «оливье» так же мало похож на тот легендарный салат времён всеобщего дефицита, социального равенства и братства народов, как потускневшие лица нынешних пенсионеров мало похожи на вдохновенные лица плакатов семидесятых годов.
Что же жизнь предложила взамен «оливье»? Роясь в памяти, столь же путаной, как и жизнь в девяностые годы прошлого века, извлекаю оттуда салат под названием «Крабовый». Он стал популярным с лёгкой руки одного певца, показавшего этот салат в своей кулинарной программе, и «Крабовый» быстро, как шлягер, завоевал всю страну. В течение целого десятилетия не было, пожалуй, застолья, где бы не подавался этот салат, состоявший из кукурузы и сладкого мяса трески, сдобренных всё тем же майонезом. «Крабовый» был салатом обманным и сладким, как лживое обещание, ибо от крабов в нём был только запах. Самого же предмета, который был должен его издавать – в нашем случае крабов, – там не было вовсе. Что ж, таков вообще принцип современного виртуального мира: видишь картинку или чувствуешь запах, а за этой картинкой иль запахом лишь пустота.
Но не будем уж слишком ругать тот салат, под приторный вкус которого страна жила многие годы. Сейчас-то, конечно, мало кого заставишь жевать эту сладкую кукурузно-тресковую смесь, но тогда он казался и вкусен, и сытен, и незазорным считалось поставить перед гостями салатник и предложить:
– Ну что, может, под водочку «Крабовый»?
Перемены, как это ни странно, приносят не только плохое. Вот и с салатами так: лет, наверное, десять назад я впервые попробовал то, что уже не хочу променять на иное. Когда я увидел, как крупно нарезаны красные помидоры и жёлтые перцы, как ярко чернеют маслины, белеют мягкие кубики брынзы и кольца лука, как всё это щедро полито оливковым маслом, я сразу почувствовал: вот оно, настоящее!
Да, салат «Греческий» я полюбил с первого взгляда. Я услышал в нём как бы голос далекой, но ещё не вполне позабывшей нас родины. Это как встретить где-нибудь в скудных северных наших местах афинский фронтон или копию греческой статуи, то есть вспомнить, откуда мы родом. Ведь наша культура, наука, религия – всё пришло к нам из солнечной Греции. Вот и этот салат, такой с виду яркий и праздничный и такой вместе с тем благородно простой, он доносит до нас отголосок античного зноя, пёстрый шум многолюдной агоры, шелест бледных олив на афинских холмах и протяжные, мерные вздохи Эгейской волны, что как будто читает нам долгие строки Гомера…
СAMOBAP. Когда из гудящей самоварной трубы летят искры и даже порой вырывается пламя, самовар представляется словно ракетой, залетевшей издалека и ещё сохранившей горячую дрожь реактивного двигателя. Не поэтому ли самовар, хоть и служит символом традиционного быта, так авангардно-космичен: его полусферы, изгибы и грани, вся его сложная архитектура создана словно не тульскими мастеровыми, а фантастами-футуристами. Вообще, будь моя воля, я бы выполнил первый искусственный спутник Земли в виде именно самовара, пусть бы символ России носился себе по орбите. Впрочем, и тот, что запущен полвека назад – шар с усами-антеннами, – тоже чем-то напоминает кругленький самоварчик.
Поразительно, как много всего соединено в самоваре. Это и печь, и паровая машина – вон, как заварочный чайник звенит и подскакивает на самоварной конфорке, – и резервуар для горячей воды… да и просто красавец. Как сияют его полусферы и грани, и как всё, что есть в комнате и на столе, спешит отразиться в надутых щеках самовара!
Самоваров на свете великое разнообразие. От совсем крошечных, на стакан кипятка, до огромных, высотой почти в человеческий рост. Таков, если видели, самовар в тульском вокзальном буфете: сколько вмещает он вёдер воды, трудно даже представить. Бывая проездом в Туле, я всегда захожу к нему поздороваться и радуюсь, когда моё отражение расплывается по его серебристому животу.
А формы? Тут и шары, и цилиндры, и усечённые конусы, и гибриды всех этих фигур, да ещё обрамлённые, как кружевами, затейливою металлическою лепниной. И узорные ручки, и крышки, и краники, и массивные лапы, на которых стоит самовар, и конфорка под чайник, и ещё Бог знает что, превращающее самовар из кипятильной машины в бокастую, щеголеватую, разрядившуюся купчиху.
А пестрота самоварных расцветок? Порой он горит такими цветами-узорами, что с ним не сравнятся ни палехские шкатулки, ни жостовские расписные подносы, кажется, все цветы мира собраны в пышный букет самовара. И я чувствую: мне не хватает ни слов, ни сравнений, чтоб спеть самовару ту песню, которую он заслужил. Это тот самый случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочитать; самовар нужно именно чувствовать всем, чем можно: глазами, ушами, ноздрями, ладонями, – чтобы в душу вошло ощущение праздника, имя которому «самовар».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































