Текст книги "Дом, дорога, река"
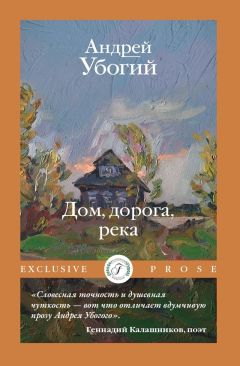
Автор книги: Андрей Убогий
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
VII
Но самые яркие воспоминания, связанные с Луи, – это воспоминания о походах.
Байдарки в нашей семье существовали, сколько я себя помню. Бывало, отец со своим другом юности Юрой собирались в очередной сплав, раскидывали по полу спальники, рюкзаки, надувные матрацы и банки с тушёнкой, а я, семи-, восьмилетний, смотрел на всё это с мучительной завистью. Потому что второй заветной мечтой моего детства, кроме мечты о собаке, была мечта о байдарочном путешествии.
А уж совмещение двух заветных желаний – путешествие вместе с собакой – являлось апофеозом семейного счастья. Правда, я не уверен, что Луи, особенно в начале походов, разделял наши восторги. Да, он произошёл от неприхотливой «собаки кучера», но, ведя жизнь в комфорте, вдали от конюшен, карет и почтовых дорог, он, конечно, изнежился и избаловался.
Вдруг после тёплой квартиры и мягкой подстилки он оказывался под дождями и ветром, в зыбко качавшейся лодке, в окружении туч комаров и мошки, а по ночам – в окружении тех, позабытых им звуков и запахов дикого леса, которые заставляли пса то и дело вздрагивать и просыпаться в тамбуре палатки.
А уж на то, как он поначалу боялся садиться в байдарку, смотреть без смеха было нельзя. Он пятился и упирался всеми четырьмя лапами, а его лохматая морда выражала ужас и недоумение: да как можно променять твёрдую землю на зыбкое колыхание лодки? Приходилось и тащить его за ошейник, и шлёпать по заду веслом, и в конце концов на руках заносить в лодку растопырившего лапы и выворачивающегося Луи.
Но так было только в самом начале. Стоило нам как-то раз сделать вид, что мы оставляем Луи одного – лодка отчалила и легко заскользила вдоль влажной полоски песка, истолчённой лапами трясогузок и куликов, – как пёс заметался по берегу, оглашая окрестность рыдающим лаем. В этих рыданиях слышалось: «Куда ж вы, родные? Как же я буду без вас в этом диком лесу, среди диких зверей, в этой бесчеловечной природе? Вспомните то, что вы сами читали вслух, уютными зимними вечерами, пока я дремал на подстилке: вы, люди, в ответе за тех, кого приручили!»
Урок оказался доходчив. Теперь, стоило нам начать загружать байдарку перед отплытием – класть палатку в корму, а котелки с мисками в нос и сооружать сиденья из набитых тряпьём гермоупаковок, – как Луи неотвязно крутился у лодки, ожидая момента, когда можно будет (иногда самым первым!) прыгнуть в неё и улечься на дне между стрингеров. Можно сказать, что он из «собаки кучера» превратился в «собаку байдарочника» и прекрасно справлялся с этой новою ролью.
О, как он гордо и важно сидел меж гребцов, озирая скользящие мимо обрывы и пляжи! Если мы проходили мимо чьей-либо стоянки и Луи видел на берегу людей, над гладью реки разносился его басовитый, густой и торжественный лай. Люди на берегу все, как один, оборачивались и с уваженьем смотрели на нашу лодку.
Возможно, им даже хотелось отдать нам честь, как делают моряки, когда мимо проходит корабль адмирала. А Луи в такт гребкам чуть качал седой бородой – ну, настоящий морской волк! – и только что не выкрикивал: «Ставь бом-брамсели, якорь вам в глотку!»
Он настолько освоился в лодке, что начал ходить по бортам, и это конечно же вызывало критический крен судна и возмущение всего экипажа. Но должен же сторожевой пёс обходить вверенную его попечению территорию? А, поскольку наш мир сузился до размеров трёхместной байдарки «Таймень», Луи и пытался обходить этот мир дозором. Очень скоро он доходился до того, что соскользнул в воду, а место было, что называется, «стрёмное», и мне пришлось хватать его за бороду, чтобы удержать на быстрине возле борта и затем кое-как втащить обратно. После этого случая адмиральская спесь с Луи несколько сбилась, и он большую часть времени лежал и дремал на дне лодки.
Когда мы причаливали на стоянку, Луи первым прыгал на сушу и, задрав лапу, метил несколько ближних кустов, обозначая наше присутствие и законное право на место. Пока ставили лагерь, пёс свободно обследовал берег (он вообще жил без поводка), но благоразумно не отходил далеко: кто его знает, что кроется в этой сомнительной дикой природе? Инстинкт зверя и привычка к существованию рядом с людьми сложно смешивались и боролись в душе собаки, иногда это приводило к комическим результатам. Так, я однажды увидел, как пёс что-то почуял сквозь толщу земли и стал яростно рыть яму под корнями сосны. Песок, камни, шишки и рыжая хвоя летели во все стороны; Луи запалённо хрипел, а его перепачканная и оскаленная морда могла бы сделать заикой того, кто внезапно увидит это страшилище.
И вот, в результате неистовых землеройных работ наш Луи откопал крысиное гнездо: на дне осыпавшейся ямы копошилось шесть серо-розовых и очень противных крысят. Казалось бы, вот он, твой ужин, до которого ты с таким пылом дорылся! Стоит несколько раз щёлкнуть зубами (а они, как вы помните, у Луи были словно «на вырост»), как от крысят ничего не останется. Но Луи – это надо же! – оторопел. Он недоумённо смотрел то на крысят, то на меня, словно спрашивая: «Ну, и что мне со всем этим делать? Ведь я привык есть из миски, да чтобы первый кусок мне давала с ладони хозяйка, но что-то я сомневаюсь, что она поднесёт мне на ладони крысёнка…»
Я в этом тоже не был уверен и поэтому даже не стал звать Лену. Кончилось тем, что Луи чуть присыпал крысят песком с хвоей – он делал это брезгливо, задними лапами, – и потрусил к разгоравшемуся костру, надеясь на порцию гречки с тушёнкой.
Там, у костра, он обычно и проводил вечера, пока мы готовили ужин и ели, разговаривали и слушали песни (иногда в нашей компании оказывалась гитара) и пока ночь сгущалась вокруг огня, бросавшего блики на ветви сосен и мокрые днища перевёрнутых лодок. До того, чтобы бегать вокруг, охраняя наш лагерь, Луи не снисходил: он считал, что достаточно время от времени приподнимать горячую от огня голову и коротко взлаивать, чтобы ночной лес и ночная река знали о нашем существовании. Но даже с таким нерадивым сторожем было спокойнее: всё же слух и чутьё у Луи были много лучше наших, и он непременно обозначил бы своим грозным лаем чьё-либо приближение из темноты.
Вообще, наши походы с Луи обретали ту полноту, какой в них не было прежде. Пёс становился посредником между нами и дикой природой, был переводчиком, знавшим – хотя и нетвёрдо – два языка: язык человеческих жестов и слов и язык тех таинственных шорохов, шелестов, вздохов, на каком говорила природа. И мы видели, как с каждым днём (а особенно с каждою ночью) Луи становился всё ближе к природе, с которой когда-то расстались его отдалённые предки, и эта природа была всё понятней ему. Он уж не вздрагивал, как вначале, от каждого звука иль тени, а с жадным, взволнованным интересом внюхивался и вслушивался в тот мир, что звал возвратиться в его первобытные дебри.
Даже внешне Луи становился другим: он мужал с каждым днём, проведённым в походе. Его грозный голос звучал всё реже (к чему напрягать связки и лёгкие по пустякам?), движения делались точными и скупыми (суетятся лишь те, кто в себе не уверен), а шерсть, омытая и дождями, и росами, и купаньем в реке, лоснилась, как дорогие шелка.
И теперь он всё больше любил созерцание. Видимо, те часы, что он проводил в качавшейся лодке, в окружении сложно и непрерывно текущей воды, приоткрыли какие-то новые двери в сознании пса, и он всё чаще предавался тому, что мы, люди, зовём медитацией.
Луи выбирал непременно красивое место – где-нибудь на мостках или над живописным обрывом, – садился мордой к реке и застывал как недвижное серое изваяние. Он мог сидеть так часами, особенно если мы делали днёвку и никуда не спешили. Вот что интересно, он думал, что чувствовал, что постигал, пока воды реки текли перед ним, пока солнце плыло по небосклону, и пока день взбирался от утра к полудню, а потом начинал незаметно соскальзывать к вечеру? Смысл китайского слова «чань» (или «дзен», как его произносят японцы) был, конечно, Луи неведом; но то, в чём пёс существовал эти часы, было именно созерцанием. Луи так сливался со всем окружающим – с рекою и берегом, соснами и облаками, – что сам становился неотъемлемой частью всего. Он был, с одной стороны, почти незаметен; а с другой – мы уже не представляли пейзаж нашей стоянки без этого серого столбика над обрывом, неподвижно следящего за неудержимо текущей водой.
Созерцательности в натуре Луи было столько, что мы порой обращались к нему на китайско-даосский манер: «дядюшка Лу». А один из напитков, как-то удачно составленных нами во время обломного ливня, загнавшего нас в палатку, – его компонентами были спирт, бальзам «Рижский» и речная вода – мы так и назвали: «Грёзы дядюшки Лу».
Возвращение к природе, которое происходило с Луи в походах, было одновременно и его возвращением к себе самому. Так, настоящим триумфом Луи стало одно ясное и морозное утро, когда в нём пробудился инстинкт пастуха.
Это было в верховьях Угры. Тот май случился на редкость холодным: за ночь полог палатки так заледенел, что его приходилось с хрустом надламывать, выбираясь наружу. Зато утро было сияющим: сверкала под солнцем река и сверкал иней на приречном лугу, на котором поодаль от нашего лагеря паслось два десятка коров. Пастухов было двое, и они уже спозаранку достали бутылку: как иначе согреешься в зябкое утро? А коровы словно почувствовали, что пастухам не до них, и разбрелись, кто куда: одни с треском проламывались сквозь ивняк у воды, а другие шумно вздыхали средь сосен недальнего леса. И вот наш Луи (который прежде коров и в глаза-то не видел) вылез из тамбура обледенелой палатки, зевнул во всю пасть, потянулся – и вдруг разглядел, что творилось на заиндевелом лугу. Пёс аж закашлялся от возмущения: да как можно было терпеть, чтоб коровы, забыв стыд и совесть, слонялись, где им захочется? Душа пастуха не стерпела такого бесчинства: Луи с хриплым лаем понёсся по лугу, как бы оплетая коров невидимой нитью своего прихотливого, но при этом рассчитанно точного бега. Сначала он выгнал тех, что бродили по краю леса; затем отогнал двух коров от реки и, продолжая затягивать незримую сеть, стал сбивать изумлённо мычащих коров в пёструю чёрно-белую кучу. Забавно было смотреть, как громадные рябые коровы испуганно шарахаются от крошечного, по сравнению с ними, пса, безоговорочно признавая его пастушьи права, закреплённые в родовой памяти и коров, и собак.
Это было великолепное зрелище! Луи и коровы сбивали иней с травы – она зеленела там, где пронёсся стремительный пёс и протопали грузные туши коров, – так, что скоро весь седой луг был разрисован изумрудными полосами. Солнце сияло, небо синело, пар поднимался над коровьими спинами, и всё это происходило под густой, как шаляпинский бас, торжествующий лай. Кто-то из нас даже зааплодировал: «Браво, Луи!»
А пастухи были словно громом поражены. Они, раскрыв рты, смотрели, как ловко Луи управляется с их стадом, и, кажется, даже забыли о выпивке. Потом один из них встал, пошатнулся и прокричал в мою сторону: «Хозяин, я тебя умоляю, продай нам собаку!»
VIII
Конечно, Луи не сплачивал нашу семью тем же способом, каким он сбивал в кучу коров на приречном лугу, хоть, может, ему порой и хотелось бы сделать это, но несомненно, что он был своего рода объединяющим центром, к которому устремлялись заботы, мысли, симпатии всех поколений, из которых наша семья состоит. И старые, и молодые любили Луи и не упускали случая обратиться к нему, дружески потрепав по загривку: как, мол, дела, старичок? И, хоть Луи был не очень-то разговорчив, но любой из нас вёл беседы с собакой.
Удивительный, если вдуматься, феномен – разговор человека и пса. Вот с кем мы общаемся, когда треплем лохматую морду, заглядывая во внимательные собачьи глаза, в которых мы сами же и отражаемся? Сказать, что это разговор только с собакой, нельзя, хотя бы уже потому, что она не вполне понимает смысл обращённых к ней слов, а внимает лишь звуку и интонации нашего голоса. Но тогда, может быть, обращаясь к собаке, мы говорим сами с собой, а пёс служит всего лишь пассивно-безмолвным свидетелем нашего монолога? Но согласитесь, и это не вполне так. Вот попробуйте подойти к зеркалу и поговорить по душам со своим отражением. Вы сразу почувствуете: это далеко не то же самое, что обращаться к внимательному четвероногому собеседнику. Всё же пёс – это не мы сами, а некто «иной»; вот к «иному»-то мы и обращаемся, когда кладём руку на его тёплую холку и бормочем какие-то – заметьте, всегда искренние – слова. В такие минуты мы словно приоткрываем псу свою душу и отчего-то уверены, что он эту душу и чувствует, и понимает.
Мы, если вдуматься, через собаку обращаемся сразу ко всей бессловесной природе. Она высылает к нам своего «парламентёра», вот этого пса. Или это мы сами отсылаем «посла» ей навстречу, чтобы он стал посредником между природно-естественным миром, оставленным нами когда-то, и нашей искусственной нынешней жизнью? Мы то ли каемся в нашем давнишнем разрыве с природой, то ли убеждаем самих же себя и её (в лице внимательно слушающей нас собаки), что этот разрыв был необходим, хотя бы для осознания смысла того, зачем существуем и мы, и собака, и весь окружающий мир.
Но несомненно, что при разговоре с собакой вибрирует некая нить, которой мы связаны и со всеми иными, как бы смотрящими в наши глаза существами – со всеми, в ком теплится жизнь. Мы словно им говорим, через нашу собаку: «тат твам аси» – «ты есть я сам». Да, мы гораздо ближе друг другу, чем это принято думать, и мы все нуждаемся в ласке, заботе, снисхождении и понимании…
Есть и ещё поворот нашей темы – разговоры с собакой, – это тот случай, когда разговор превращается в исповедь. Как много услышали наши собаки от нас – хмельных иль несчастных, удручённых заботами или впавших в отчаяние, – когда мы никому, кроме верных и бессловесных четвероногих друзей, не могли излить свою душу! То ли рядом в тот час не оказалось никого из близких людей, то ли наши признания слишком интимны, то ли ещё по какой-то причине, но порою мы доверяем собакам то, что не решаемся поведать никому иному. «Если б ты знал, какой я подлец!» – говорит, например, человек, обняв своего Тузика или Полкана, а тот, преданно глядя в глаза, бьёт хвостом и словно хочет сказать: «Хозяин, да не убивайся ты так, я люблю тебя даже такого…»
Меня, если честно сказать, удивляет, отчего некоторые из религий относятся к собакам с неприязнью. Так, в иудаизме собака – настолько презренное существо, что даже деньги, вырученные от её продажи, считаются грязными, и их нельзя, скажем, жертвовать храму. Ислам продолжает традицию иудаизма по отношению к собакам: грязнее и недостойнее их считаются разве что свиньи. У мусульман-шиитов запрещено даже касаться собаки, после такого прикосновения надлежит пройти особый обряд очищения.
Индуизм и буддизм, признающие метемпсихоз, учат, что души злых людей переселяются как раз в собак, что, ясное дело, не вызывает почтения к этим животным.
Ещё хорошо, что родное нам христианство, при сдержанном в целом отношении к собакам – так, входить в храм им строго запрещено, – хотя бы отчасти их реабилитирует. Тут можно вспомнить и то, что в католическом Средневековье символом духовенства считалась овчарка, как пастырь, оберегающий души вверенных ей овец, или то, что на гербе ордена св. Доминика изображена собака, в пасти которой мы видим пылающий факел, то есть свет истины. Да и само название ордена доминиканцы трактуют, как «Domini cannes» – «Господни псы». А св. Христофор, чтимый и в католичестве, и в православии, которого изображают на иконах с собачьей головой? Очевидно, что собака хотя бы допущена в мир христианства – как Божия тварь, на ком отпечатаны мысли Того, Кто её сотворил.
Но выше всего собака вознесена в зороастризме, учении древних ариев. В понятиях этой религии собака почти равна человеку, ибо она обладает бессмертной душой. А души умерших людей находят убежище именно в собаках, с чем связано несколько трогательных ритуалов зороастризма. Так, собак кормят первыми, лучшей едой: ведь это, по сути, кормление предков. К умирающему человеку подносят щенка, чтобы душе после смерти не пришлось долго искать прибежища. И, наконец, собак погребают по тем же правилам, что и людей, ещё раз подчёркивая их близость.
Конечно, собаки стоят ниже нас на ступенях тварного мира; но кое в чём они могут служить для нас и примером. В известном смысле собаки относятся к людям так, как нам самим надлежит относиться к Богу: с бескорыстной преданностью и безусловной любовью. Собака нам верит и служит, не рассуждая: что даст ей самой эта вера и преданность и где пролегает граница собачьей любви? А высшее счастье собаки – быть рядом с хозяином: разве это не образец для наших собственных отношений к Отцу, сотворившему видимый и невидимый мир?
Недаром есть шутка, в которой отчасти и выражается то, о чём я рассуждаю. «Господи, – просит хозяин, – пусть я стану таким, каким меня видит моя собака…»
IX
Но пора возвратиться к Луи. Наш пёс с годами, конечно, менялся. Первые два-три года жизни он был неутомим и активен. Просторы и вольные нравы Бушмановки позволяли гулять с ним без поводка; и я уставал вертеть головой, следя за Луи, нарезающим стремительные круги меж кустами, деревьями и другими собаками, которых он, кажется, вовсе не замечал в пылу бега.
Случалось, он сопровождал и велосипедные наши прогулки – как его предки, «собаки кучера», сопровождали всадников или кареты, – и казалось, что ему не составляет никакого труда нестись вровень с велосипедом по соседней просёлочной колее.
А лыжи? Ведь мы его брали с собой в зимний лес, на лыжные пробежки, даже тогда, когда снег был собаке буквально по уши. Но это Луи не смущало и не останавливало: он пробивался прыжками в глубоком снегу, а серые уши взлетали и опадали, как крылья.
Только примерно к четвёртому году жизни он стал мало-помалу остепеняться. Бездумно-бесцельные гонки его уже не привлекали; разве, встречаясь во время прогулок с какой-нибудь дружелюбной знакомой собакой, он мог затеять с ней игру в догонялки. Теперь ему интереснее было вынюхивать что-нибудь, рыться в земле, метить свою территорию, задирая заднюю лапу, – в общем, вести себя как солидный и сознающий свою солидность джентльмен. Именно в эту пору мы и обнаружили в нём склонность к задумчивости и созерцательности. То ли он осознал тщету и бессмысленность прежних щенячьих восторгов, то ли в нём поубавилось жизненных сил, но с годами Луи превратился во флегматичного пса, расшевелить которого было непросто. И это при том, что он оставался поджар, мускулист и продолжал вызывать неизменное восхищенье прохожих.
Болел ли наш пёс? Конечно болел: ни собаки, ни люди не проживают свой век без хворей. Случалось ему подцепить и пироплазмозных клещей, после чего он мочился кровью, шатался от слабости, и мы спешно везли Луи в ветеринарную клинику. Иногда давал сбои кишечник, чего пёс стыдился, прямо как человек. С годами – ведь его жизнь протекала много быстрее, чем наша, и возраст собаки стремительно обгонял человеческий – пришли возрастные болезни. Глаза помутились от катаракты, что, к счастью, было не очень заметно из-за густых бровей и не очень мешало псу жить: он и в молодости больше доверял слуху и нюху, нежели зрению.
Перейдя свой жизненный полдень, Луи стал страдать и от болей в суставах. Было видно, как трудно ему подниматься или спускаться по лестнице – это ему-то, который в молодости поражал нас своей неуёмной подвижностью!
Но все свои хвори и боли пёс переносил смиренно и терпеливо, как и положено мудрецу, и редко унижался до поскуливания или визга. Он только вздыхал да покряхтывал, с трудом вылезая, к примеру, из-под журнального столика, где он спал на подстилке, и разминая затёкшие за ночь суставы. «Эх, Луи, совсем ты стал старичок…» – говорил я, бывало, ему, пока пёс на негнущихся лапах делал несколько первых шагов.
Артрит, донимавший его всё сильнее, и стал главной причиной того, что в последние два года жизни Луи переселился из нашей квартиры на втором этаже в квартиру моих родителей, живших на первом. Теперь гулял с ним в основном мой отец. «Прогулки двух патриархов» – так назывался этот этап нашей семейной жизни. Поразительно, до чего они были похожи: мой восьмидесятилетний отец и седой старый пёс, который в пересчёте с собачьего возраста на человеческий был даже старше отца. Множество раз я наблюдал из окна, как живописный наш двор – в лучах летнего солнца, или под снегопадом, или в осеннем тумане – пересекают подтянутый седобородый старик с безупречной осанкой, шагающий неторопливо и важно, и чуть ли не шаг в шаг с ним, так же солидно и неторопливо, ступает седобородый Луи. Оба они к тому времени плохо видели, плохо слышали, плохо ходили, но это ничуть не мешало величаво-неспешной торжественности их утреннего променада. Два патриарха выходили то на футбольное поле, то останавливались на склоне оврага, над журчащим в ольховой урёме ручьём, и приступали к гимнастическим упражнениям. Отец приседал, наклонялся, сводил-разводил руки, а пёс терпеливо сидел у его ног, и казалось, что он вот-вот тоже начнёт делать махи лапами, наклоны и приседания. Похоже, патриархи настолько привыкли друг к другу, что уже и не представляли, как можно гулять в одиночестве. Любой свой рассказ о прогулке – о том, что он видел или подумал во время неё, – отец начинал словами: «Вот идём мы с Луи…» Вероятно, и пёс, если б мог говорить, начинал бы со слов: «Вот выхожу я утром с Юрием Васильевичем…»
Так что заслуги Луи перед нашей семьёй воистину неоценимы. Мало того что он её укрепил, и эти скрепы держали целых четырнадцать лет, до самой кончины пса, но он ещё согрел детство Даши и старость её деда, а моего отца: и старым, и малым Луи отдал часть своей собачьей души и жизни.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































