Текст книги "Дом, дорога, река"
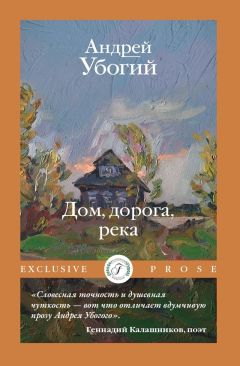
Автор книги: Андрей Убогий
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)
И как же не быть благодарными людям за то, что они подарили? Как не ценить этот дар, как не чувствовать: чашка чаю, которую ты сейчас держишь в руке, есть фокус жизни во всех смыслах слова? И фокус, как некое чудо, которого не должно было быть, но которое всё же случилось; и фокус, как точка схождения множества сил, интересов, надежд и энергий.
Так что, когда вам захочется чуда, не стоит ходить далеко: чудеса всегда рядом. Хоть эта вот чашка с дымящимся чаем, хоть вообще всё что угодно, на что только упал ваш внимательный взгляд, это всё чудеса, которых, сказать откровенно, и быть не должно, но которые всё же случились внутри того главного чуда, которое называется – жизнь.
Чувствую: время спеть оду окну. Но ведь окна – без которых нам трудно представить человеческое жилище, – они появились не сразу. Самые первые формы жилья – пещера, шалаш и землянка – вполне обходились без окон. И только когда первобытная землянка стала как бы вырастать из земли – сначала всего на два-три венца брёвен, потом в человеческий рост, – тогда-то впервые возникли и окна. Но что это были за окна? Узкие щели в стене, через которые выходил дым очага, через которые подавали милостыню и опрашивали пришедших и которые в холода закрывались («заволакивались» – отсюда и их название: «волоковые») или деревянной задвижкой, или бычьей брюшиной, или всего-навсего льдиной. До окон в теперешнем их понимании людям – и их домам – ещё надо было дожить.
Но, может быть, так было только в курных избах России, а в Европе оконный вопрос решался иначе? Ничего подобного. Приходилось мне видеть европейские здания Средневековья – в Сиене, Флоренции, Риме, – их окна напоминали скорее бойницы. Через них можно было, разве что, выплеснуть на мостовую горшок нечистот, но пролезть в эти узкие щели могла бы лишь кошка.
Впервые настоящие окна появились в Венеции, в этом особенном городе, защищённом от внешних врагов водами Адриатики, там, где люди смогли наконец-то широко и беспечно распахнуть окна в мир. Недаром и окна, и стёкла в ту пору изделия главным образом, венецианские. Вот и в России широкое окно из трёх стёкол называлось тогда «веницейским», и мало кто мог себе такую роскошь позволить.
И конечно же с появлением настоящих окон жизнь людей переменилась. Можно сказать, их дома наконец-то открыли глаза и взглянули на мир: недаром и слово «окно» происходит от древнеславянского «око». И как в лице человека самое главное – это глаза, так и главное в комнате – это окно. Конечно, возможна и жизнь без окна (как и без глаз, хоть такое и страшно представить); но вряд ли найдётся тот, кто добровольно согласится жить в безоконном глухом каземате, в подвале, в норе – жить, по сути, в темнице.
И поэтому всё, что с окнами связано, нам важно и дорого. Ну, вот – что бы взять для примера? – хотя бы оконная рама. Казалось бы, вещь вполне прозаичная: деревянные брусья, соединённые на углах, иногда с крестовиной по центру. Но давайте вспомним школьный букварь, те его первые фразы, с которых мы с вами и начинали своё приобщение к письменной речи. И что ж мы читали едва ль не на первой странице? Да, правильно: «Мама мыла раму». Но ведь эта простейшая фраза, состоящая из шести всего-навсего букв, выражала важнейшее содержание. Если есть мама и рама, значит, есть главное: дом и семья. И значит, в семье царят мир и порядок, ибо вряд ли кто будет заботится о чистоте рам в семье, раздираемой противоречиями. Так что, произнося по слогам (или нетвёрдой рукой выводя на бумаге) слова «мама мыла раму», мы озвучивали краткую формулу благополучной человеческой жизни, как бы включали программу счастливого и полноценного существования.
А устройство оконной рамы, особенно рамы с двойными зимними стёклами? Оно ведь вовсе не так примитивно, как это может казаться. Те, кому доводилось ремонтировать дом, вынимая из оконных проёмов деревянные рамы, знают: добротная старая рама – предмет, достойный музея столярного мастерства. Особенно восхищают углы – то, как шипы в них входят в пазы, наподобие скрещенных пальцев рук. А если окно не глухое, а открывается? А если в нём есть форточка? Насколько ж сложнее конструкции таких окон и насколько они уязвимее для различных поломок! То в сырую погоду рама форточки разбухает так, что её не закрыть; то, напротив, в жару рама высохнет, и в её щели проникает не только пыль, но и комары; то после покраски вдруг залипнет задвижка или шпингалет (вот забавное слово!), и приходится молотком отбивать с него белую краску, которая отваливается ломкими глянцевыми чешуями, обнажая блестящий затвор шпингалета, похожий на затвор трёхлинейной винтовки.
А певуче-скрипучие петли окна? А подоконник, на котором так любят сидеть кошки и дети? А межоконное, совершенно особенное пространство, то есть пространство меж стёкол двойного окна? Оно не принадлежит ни дому, ни улице, но существует в каком-то особом, своём измерении, словно вовсе изъятом из мира и как бы параллельном ему. Кажется, даже время в том межоконном пространстве течёт по-иному: недаром продукты, которые мы помещали меж пыльными стёклами окон студенческой нашей общаги, так долго не портились – потому что само время как бы забывало о них.
А помните, как было принято ставить меж стёклами плошки с крупнозернистою солью, чтобы стёкла не запотевали? Или – для красоты и для утепления одновременно – меж стёклами настилали слой ваты, на которую сыпали блёстки и новогоднюю мишуру или даже пристраивали ёлочные игрушки, чтоб они тихо мерцали меж стёкол до самой весенней капели?
Да, чуть не забыл, ведь окна на зиму заклеивали! То есть заклеивали, разумеется, не сами окна, а щели меж рамой и оконной коробкой. И эта заклейка окон, приходившаяся, как правило, на «ноябрьские» – праздничные и обычно холодные дни начала ноября, – была для городских жителей такой же привычной сезонной работой, как для крестьян вспашка зяби или сев озимых. С оклейки окон по-настоящему и начиналась городская зима: с подъёмами в школу ещё в темноте, с чёрными языками заледенелых луж на тротуарах и со злым, пыльным ветром вдоль улиц – ветром, от которого щёки немели, а глаза начинали слезиться.
Заклейка окон всегда привлекала. И полоски бумаги, которые надо было аккуратно нарезать, соизмеряя их с шириною щели меж рамою и коробкой окна – полоски поэтому выходили то шире, то уже, – и миска тёплого клейстера с серыми слизистыми комками ещё непротёртой муки, и квач из ваты, намотанной на карандаш, и скользкие мокрые пальцы, которыми разглаживались и приклеивались на оконные щели промокающие и легко рвущиеся бумажные полосы, – это всё было так интересно, что ты всегда вызывался участвовать в этой уютной домашней работе. В комнате сразу делалось сыро, тепло – даже окна потели – и вкусно пахло хлебом от миски клейстера. А потом, когда клей просыхал, полосы бумаги натягивались, становясь барабанно-тугими, и было приятно стучать по ним ногтем.
Но всё, про что я написал – про раму и про шпингалеты, про межоконную вату и про заклейку оконных щелей, – это всё лишь окруженье окна. Само-то окно – вот эта прозрачная, гладкая, порой вовсе невидимая поверхность, временами слегка искажающая предметы, которые мы различаем за ним, – оно существует, по сути, затем, чтоб его, окна, как бы вовсе и не было. Идеал для окна – быть настолько прозрачным и чистым, чтобы солнечный свет без малейших помех, искажений, потерь проникал сквозь него.
А виды из окон? Ведь они принадлежат дому не в меньшей степени, чем, скажем, стены и кровля. Если дома одинаковы, как две капли воды, но из окон одного видна свалка, а из окон другого лес или озеро, то и цены, и ценность этих домов будут очень различны.
Прекрасный писатель Олег Базунов – как раз в повести, посвящённой окну, – точно заметил, что даже из одного-единственного окна, даже в одно время суток и в одинаковую погоду видов бывает множество. С подоконника или из глубины комнаты, с правового или левого края окна, с кресла, в котором сидишь, с дивана или с пола ты увидишь различные сочетания крыш, деревьев и неба. А погода, которая в наших краях всегда разная – и, соответственно, разное освещение, соотношение света и тени, прозрачности воздуха и прозрачности стёкол окна? А времена года, которых у нас много больше, чем четыре календарных сезона? Что общего у конца, скажем, марта, с его проталинами, капелью, жёлтой россыпью мать-и-мачехи на оттаявшем склоне и первыми бабочками-лимонницами, и у середины мая, когда в изобильной зелени сада по утрам слышна флейта иволги, а по вечерам сочно щёлкают соловьи? А ведь то и другое – весна.
Не забудем ещё и о времени суток, когда с каждой минутой меняется положение небесных светил – и освещённость того, что лежит перед нашим окном. То в кромешные ночи не видно ни зги, и в глади стекла отражается только внутренность комнаты и лицо человека, что смотрит в окно – и получается, что окно глухой ночью глядит не наружу, а внутрь, – то в солнечный полдень видно так много предметов, оттенков, деталей, что ты поражаешься: до чего же богат и подробен лежащий за окнами мир…
Есть и ещё важный момент, относящийся уже к нам, созерцателям. Ведь от нашего собственного состояния – наших зрения и самочувствия, нашего настроения, интереса или безразличия к миру, в который мы смотрим, – зависит всё то, что мы в этом мире увидим. А состояние наших чувств и ума – оно едва ль не изменчивее, чем погода.
Вот и выходит, что один и тот же наблюдатель, глядя в одно и то же окно неподвижно стоящего дома, в каждый очередной миг созерцания воспринимает различные виды. Ибо время течёт непрерывно, и в этом потоке меняется и человек, и погода, и время суток вместе с временем года; иными словами, живи хоть тысячу лет и все эти годы простой у одного-единственного окна, ты не увидишь и двух одинаковых, до мелочей совпадающих видов. В заоконные виды, как в Гераклитову реку, нельзя войти дважды, уже одно это делает нашу жизнь у окна бесконечно богатой и интересной.
А уж до чего хорош вид, открывающийся из моего окна – того, перед которым пишутся эти строки, – трудно даже и передать. Вот ближний план: двор с деревьями – берёзы и липы, канадские клёны и вязы за полвека так разрослись, что образуют целую рощу, – вот заборы, сараи и крыши погребок, вот соседские куры, копающиеся в пыли, – вот, словом, черты почти деревенского быта. Слева – кроны садов, которые зимой утопают в снегах, а в пору цветения сплошь бело-розовы и дрожат от пчелиного гула. За садами – больница, её корпуса мне привычны с детства. Возможно, что именно близость больницы – тяжёлого, смутного мира, где маются души безумцев, – заставляет меня так ценить здравый смысл и порядок обыденной жизни.
Средний план заоконных пространств – это поле, на котором видишь то футболистов, гоняющих мяч, то пасущихся коз и коней, то жителей ближних домов, которые выгуливают на поле собак. Причём мало того, что поле просторно само по себе; но с него открываются очень широкие, вольные виды. Поверх деревенских крыш взгляд уходит к востоку – к тем перелескам, полям и оврагам, что лежат меж Калугой и Тулой. И поэтому к видам, которые открываются из самого окна, я порой мысленно добавляю и те, что открыты с ближнего поля, и это сложение видов делает мой заоконный обзор ещё шире.
Но это не всё. За полем бетонный забор, за ним снова поле, а за этим вторым (и почти мне невидимым) полем – двухэтажные домики недавно построенной заводской слободы. Жизнь пока не наполнила их – по ночам в тех домах горит всего несколько окон, – но хочется думать, что людям, которые там когда-нибудь непременно поселятся, будет так же отрадно смотреть издали на окна нашего старого, утонувшего в зелени дома, как мне ныне приятно рассматривать желтизну этих новых фасадов.
Но и это не всё. За домиками заводской слободы высятся трубы промзоны. По ночам, когда из них валит пар, они представляются великанами, чьи седые косматые гривы растрёпаны, а глаза-фонари воспалённо горят в темноте. Взгляд этих глаз когда-то встречал меня, мальчика, возвращавшегося с поздних легкоатлетических тренировок; сопровождал меня, молодого врача, бредущего к дому после тяжёлого дня, проведённого в операционной; а теперь тот же взгляд провожает меня, хромающего с костылём по дорожкам больничного парка. Почти вся моя жизнь прошла перед этими трубами, под их строгим и неусыпным надзором. Кто знает, не будь этих труб, быть может, и жизнь повернулась бы как-то иначе?
Но слава Богу, что всё было именно так, как оно было. И слава Богу, что из моего окна открывается именно этот, одновременно простой и богатый своим содержанием вид. В нём представлен, по сути, весь человеческий мир: его погреба и сараи, сады и заборы, деревья и птицы, леса и поля, жилые дома, больничные корпуса и строенья промзоны. И ещё в этом виде неизменно присутствует небо. То хмурое и беспросветное, то ослепительно синее, то покрытое россыпью перистых облаков, то громоздящее горы облаков кучевых. Без неба всё то, что мы видим из окон, совершенно теряло бы смысл, как и жизнь человека теряла бы смысл без того, что её, эту жизнь, превышает. Лишь под небом, в присутствии неба мир становится именно тем, чем он должен быть.
Дом никогда не стоит один, словно перст, среди чистого поля, всегда рядом с ним какой-никакой, а имеется двор. Взять хоть монгольскую юрту – уж на что бы, казалось, кочевому жилищу обзаводиться двором, но даже и дом степняка окружает обжитое пространство. Там, глядишь, дремлет верблюд; там лежит ворох хвороста; там задирает оглобли телега; в костерке тлеет кизяк или арагал – словом, вокруг кочевого жилища безбрежная степь обретает иное – как бы очеловеченное – лицо.
А что есть двор, как не очеловеченный мир? И, как разнообразны культуры и цивилизации нашей планеты, так же точно разнообразны дворы: от азиатских степей до мегаполисов, от занесённых снегами сибирских зимовий до плоских крыш мусульманского юга – тоже своеобразных дворов.
Одной из вершин дворовой культуры является итальянский двор-патио. Если б не эти чудесные дворики, в теснинах средневекового города вообще нельзя было б жить. Но итальянцы сумели превратить небольшие пространства между домами как бы в уютные комнаты, где вместо потолка видишь счастливое южное небо. Открытой земли там, как правило, нет – двор, как и улицы, вымощен камнем, – зато в кадках стоят апельсиновые или лимонные деревца, наполняющие воздух своим ароматом и дающие тень, в которой так сладко бывает предаться любимому делу Италии – «far niente», безделью.
Нашим русским дворам до итальянских патио так же далеко, как и нашей обыденной жизни до рая. Впрочем, «русский двор» – понятие очень широкое. Одно дело – двор северный, где хозяйственные постройки сведены в одну связь, то есть крыты единою крышей, и где вокруг дома есть гульбище, по которому можно пройтись в непогоду. Другое дело – двор безлесного русского Юга, огороженный вместо забора насыпью-тыном или плетнём, двор, открытый и ветру, и солнцу и так истолчённый скотиной и птицей, что даже травка-«гусятник» не может покрыть его пыльных проплешин.
А двор городской? Ведь это явление даже не столько хозяйственно-бытовое, сколько социальное. Городской двор когда-то представлял собой аналог крестьянского «мира», той совокупности рядом живущих людей, которых объединяет, помимо пространственной близости, общность мировоззрения, образа жизни, судьбы. Правда, мир городского двора – и, тем более, мир крестьянской общины – уже архаика. При современных многоэтажках дворов нет совсем, есть лишь промежутки, уставленные автомобилями. Тем с большей нежностью я смотрю из окна на наш буш мановский двор. Это двор настоящий, классический: с погребами и сараями, с бельевыми верёвками, с клумбами, с кошками, которых собаки загоняют на стволы клёнов и лип, и с петушиными криками на рассвете.
Главную ценность двора возле нашего дома составляют деревья. Ближе всех к дому – его ветви почти ложатся на крышу – старый вяз. Сейчас он по-зимнему гол – только рыжие пятна лишайников покрывают серые ветви и ствол, – но зато ясной осенью, в солнечной бронзе листвы, этот вяз кажется памятником самому же себе.
Рядом с вязом – берёза. Она тоже старая – часть ветвей высохла, – зато на ней, как и положено, висит накренившаяся скворечня. Это, что называется, русская классика: какой же двор без берёзы, скворечни на ней и без жужжащего свиста скворцов где-нибудь в середине апреля, когда снег уже весь сошёл, когда над сараями и погребами порхают лимонницы, а небесная синева так густа, что она, кажется, вот-вот начнет стекать вниз по берёзовым, подпирающим эту синь, веткам?
Прямо против подъезда – два больших клёна. И самое, может, красивое, чем нас радует осень, это зрелище ярко-багряных, пылающих клёнов. Эти костры загораются каждую осень и у нас во дворе: только в них отчего-то с годами всё меньше огня и всё больше жёлтого – тоже, впрочем, прекрасного – цвета. Или деревья, как люди, с возрастом остывают, и им всё трудней вспыхнуть огненно-ярким багрянцем?
Хороши клёны не только осенью, но и в разгар лета. Помню, как я ещё юношей был поражён, когда, встав под клёном и запрокинув голову, увидел над собою шатёр, полый лиственный купол, плотно покрытый узорными листьями, как черепицей. И я впервые подумал тогда, что дерево – тоже своего рода дом. В нём есть и фундамент – система корней, и опоры – ствол, сучья, ветви, и кровля из листьев, и даже трубы водоснабжения – словом, почти то же самое, что есть в человеческом доме. Только дерево куда совершеннее, чем любое наше жилище: оно само себя кормит, и починяет, и строит.
Мы, люди, настолько уверены во всеобщей и безусловной ценности дома, что пытаемся даже для птиц, насекомых, животных тоже строить дома. Посмотрите: скворечни, конуры и ульи испокон веку окружают наши собственные жилища. И, что ещё удивительней, всякая-разная живность, от нас столь отличная, соглашается жить в этих самых домах.
Так, я каждый апрель наблюдаю, как за скворечник, висящий на старой берёзе напротив моего окна, идут настоящие битвы. Вот и нынешней затяжною, холодной весной вокруг деревянного домика крутились две пары скворцов, и ни одна не хотела уступать жилплощадь. Птицы поочерёдно, а то и одновременно подпархивали к скворечнику, толкались на узенькой полочке перед летком, хлопали крыльями, отгоняя друг друга, а уж что там, внутри, делали сразу четыре скворца, я не могу даже вообразить. Потом один из скворцов отступился, но напарник его (или, может, напарница – я их не различаю) продолжал тяжбу за дом. И мне даже стало казаться, что сложилась семья из трёх птиц – интересно, бывает такое? – но в конце концов третий всё же почувствовал, что он лишний.
Отвоевав наконец жилплощадь, новосёлы – совсем как мы, люди, – занялись генеральной уборкой квартиры. Это выглядело забавно. Скворцы вытаскивали из своего домика пучки старой прошлогодней травы, садились на толстую ветку и начинали, тряся жёлтыми клювами, выколачивать траву о дерево. Было видно, как от травы летит пыль, точь-в-точь как от наших половиков. Выколотив травяной пучок, птицы затаскивали его обратно в скворечник и появлялись наружу с новой порцией пыльной травы. Мне хотелось им посоветовать: «Ребята, да бросьте вы это старьё – вон, сухой травы вокруг сколько угодно!», – но скворцы, как порою и люди, жалели расстаться со старою и хорошо послужившею вещью.
Немного спустя возник новый повод переживать за моих пернатых друзей. Видимо, к этому времени состоялась кладка яиц, потому что вороны и галки то и дело подсаживались к летку и пытались просунуться внутрь. Но, к счастью, скворечник был сделан грамотно, и леток пропускал только скворцов – так, что охотники до их яиц оставались, что называется, с носом. Но всё равно было тревожно смотреть на эти попытки разбойных вторжений и представлять, каково же скворчихе, греющей кладку, видеть щёлкающие над её головой клювы жадных врановых птиц.
В конце концов галки с воронами отступились, но на скворцов навалились новые хлопоты: надо было кормить детвору. Вот они и шныряли из скворечника в сад и обратно, таская в клювах гусениц и червяков. А голодный, нетерпеливый щебет скворчат уже был слышен и мне, и наполнял меня сложной смесью сочувствия и восхищения этой юной, пока что невидимой, но такой ощутимо-напористой жизнью. Бывало, я даже представлял себя на их, скворчат, месте – в тесно-пыльном уюте и сумраке шевелящегося гнезда, в нетерпеливом ожидании того, как в конусе света вверху вдруг появится материнский или отцовский клюв с очередной порцией корма, – и думал: а как, интересно, птенцы воспринимают скворечник, в котором они родились? Есть ли в птицах то чувство дома, которое есть во мне?
Наверное, есть. Иначе не стремились бы перелётные птицы на родину, к своим старым гнёздам и старым скворечням, и не одолевали б на этом пути тысячи километров и сотни невзгод. Значит, и копошащиеся в скворечне птенцы как-то чувствуют, что весь этот сумрак и теснота, и шершавые стены из досок, и подстилка из шелестящей травы – это есть их родимый, единственный дом. Должно быть, они ощущают, что вот есть они, скворчата, есть некий мир вне скворечни – тот мир, где завывает ветер, шумят деревья, льёт дождь, мир, откуда их мать и отец приносят им пищу, – а между птенцами и внешним миром есть некий посредник: их дом. Это уже не они, не скворчата, но ещё не вполне внешний мир: скворечник гораздо теплее и ближе, понятнее и безопасней, нежели то, что бушует и воет снаружи.
Но ведь именно так воспринимаем дом и мы, люди. Для нас это тоже посредник меж нами и миром; это то, что, при всей объективности и предметной реальности, несёт на себе отпечаток неуловимого и эфемерного – нашей души. Можно сказать, как весь видимый мир есть эманация Бога-Творца, его приблизительный и незавершённый портрет, так и дом человека, обжитый или построенный им же самим, есть ступень его воплощения в мире.
Но если скворечни сравнить с человеческим домом можно только с большою натяжкой, то собачья конура для такого сравнения гораздо уместнее. Недаром и люди про своё жилище порой говорят: «Моя конура». Да и окрестности конуры – эта пыльная, вытоптанная площадка у входа, эта миска с объедками, эти старые тряпки и кости, валяющиеся там-сям, – порою напоминают двор затрапезного дома.
Конечно, конура – это карикатура на человеческое жилище; и залезть в неё способен разве юродивый.
Но, с другой стороны, кто из нас в детстве не заглядывал в конуру к тому Тузику, который, ворча и волнуясь, переживал ваше вторжение? И кому не хотелось тоже залезть в конуру – в её густопсовый, пахучий, таинственный сумрак?
Сам я хоть целиком в конуре не бывал, но внутрь-то, конечно, заглядывал, особенно если надеялся разглядеть там щенков. Вот тоже чудо: щенки. Какою облезлою, страшной, изношенной выглядит сука, родившая их, и до чего же милы, уморительны и жизнерадостны эти создания! На их потасовки и игры, на то, как они, жадно чавкая, ищут соски измученно рухнувшей рядом с будкой матери, – на всё это, кажется, можно смотреть бесконечно. Им, щенкам, так счастливо и самозабвенно катающимся в пыли или грызущим старый мосол, – им бессмысленно объяснять, что их-де конура и ветха, и грязна, что она полна блох и тяжёлого запаха псины. Для щенков конура всегда рай. Это место уюта, тепла и защиты: здесь их и накормят, и обогреют. А если враг подойдёт слишком близко, то кроме стен конуры защитою будет служить угрожающий рык их матери – рык, перед которым спасует любой, будь он ростом хоть с тигра.
Жаль, что щенки – как и дети – слишком быстро растут, что судьба отвела им так мало блаженного времени детства. Каких-то всего лишь от силы полгода – и прощай, конура! Прощай, тёплый сумрак и сытая дрёма, прощайте, братья и сёстры, прощай, беззаботность, и здравствуй, собачья жизнь… Ещё хорошо, если подросший щенок будет жить при хозяевах и у него, может статься, со временем даже появится собственная конура. А если ему на роду написано быть бродячей собакой? Да, горек хлеб изгнанника, как написал Данте, тоже бродяга, которого, как бездомного старого пса, судьба выгнала из любимой Флоренции и заставила умереть на чужбине.
Впрочем, мы все изгнанники, если вспомнить о грехопадении и об изгнании наших предков из рая. Мы все скитаемся в мире и в собственной жизни, как бродяги и чужеземцы; и все мы лишь грезим о том, что когда-нибудь сможем вернуться домой…
А ульи – эти дома-общежития пчёл, которые человек построил по образу диких дупел, но придал им черты именно человеческого жилища? Улей – как и скворечник, и конура – это настоящий маленький дом, со стенами, с крышей, со входом-летком, – дом, в котором клубится густая пчелиная жизнь.
Пчелиные ульи и всё, что связано с ними, составляют мои изначальные – во всех смыслах медовые – воспоминания. Пчеловодом был мой прадед, Денис Максимович Попов. Он прожил долго, девяносто три года, и поэтому я хорошо его помню. От старика исходил запах пасеки: запах холодного дыма, вощины и рамок – тех самых, что косо висели в сарае на старинном кованом гвозде, вбитом в стену. Прадед был худощав, медлителен и молчалив, таким и должен быть глубокий старик, тем более пасечник. И я его, помню, любил: хотя откуда мне, пятилетнему, было знать, что такое любовь? Я всегда волновался, увидев Дениса Максимовича, и меня всегда тянуло к нему: хотелось встать рядом с ним, прижимаясь щекой к прохладному рукаву его пиджака, и подышать тем особенным запахом дыма и мёда, который, как я теперь понимаю, был будто дыханием вечности.
Прадед в неё, вечность, скоро и убыл; я же остался жить в мире временном и несовершенном. Но пасека, о которой я нет-нет да и вспоминаю – синие ульи, вольготно стоящие в тени старых яблонь, – создает для меня как бы мост между жизнью и райскою вечностью. Это воспоминание, так неразрывно слившееся с мечтой, что я уже толком и не понимаю, в прошлое или в будущее устремляется внутренний взор, когда мысли о пасеке вновь посещают меня.
Порой думаю: неужели жизнь не подарит мне, пускай в самом конце, летний полдень, наполненный слитным гудением пчёл? Попыхтев дымарём, я медленно подойду к возбуждённому улью, гудящему, словно орган, и сниму с него крышку. Пчелиный клубящийся город, со всем своим множеством сот, со всей суетою строительства и размноженья, откроется мне, поразив, и уже не впервые, таким сходством с людской, в суете и трудах протекающей жизнью. Я выну тяжелую рамку, смахну с неё серых, легко отлетающих пчёл, увижу, что соты полны, и мысли о собственной смерти, которые в эту минуту меня посетят, не будут иметь ни особенной важности, ни интереса. «Ну, помру – так помру, – как-то очень обыденно, просто подумаю я. – Не я, как говорится, первый. Слава Богу, пожил, поработал, помаялся, что ещё нужно? Жизнь идёт, пчёлы гудят, взяток нынче хороший – в такое-то славное лето не жаль и уйти…»
Ну, а последний дом? Он называется так удивительно ласково – именно что по-домашнему – домовина…
А ведь в смерти есть и своя ласка. Иначе не написал бы поэт Баратынский о ней: «Ласкаешь тою же рукою ты властелина и раба…» И Франциск из Ассизи не обращался бы к ней: «Сестра моя смерть…» Если уходить вовремя, да ещё без особых телесных или душевных мучений – а такое бывает, – то нельзя, я уверен, не испытывать чувства снятия долга и гнёта, того долгожданного облегчения, что выражают слова псалма: «Ныне отпущаеши…» Путь пройден, урок жизни исполнен, сил не осталось: так что же можно испытывать, кроме радости и облегчения, оказавшись именно там, куда шёл с колыбели?
При разговоре о последнем пристанище человека слово «гроб» как-то даже и не ложится в строку: уж очень оно режет ухо. «Домовина» – куда как приятнее. «Гроб» – это для атеистов и циников, которые думают, что смерть заколачивает последний гвоздь в их существование, потому-то и слово так грубо и кратко, а вот «домовина» уже своим мягко длящимся звуком обещает какую-то даль впереди.
И посмотрите, как странно относятся люди к последним прибежищам тел. Казалось бы, уж такой уравнитель и демократ, как сестра наша смерть, мог бы сравнять и последние наши дома. Ан нет, как различны людские жилища – так различны и ящики, в которых покоятся мёртвые наши тела. Бомжей – тех, кого складывают в безымянные номерные могилы, – вообще хоронят в пластиковых пакетах; но и самый простой гроб бедняка весьма отличается от погребального саркофага какого-нибудь египетского фараона. Да что саркофаг, разве роскошные лаковые гробы – чуть ли не с освещением, холодильником и телевизором, – в которых хоронят богатых людей, – разве они не являют собой трагикомическую попытку передать туда, где всё будет иным, нашу земную глупость и жадность? Впрочем, сам-то мертвец ни при чём; это его богатые родственники пытаются таким образом успокоить самих же себя – пытаются даже перед лицом смерти сохранить те иллюзии и тех кумиров, которым они поклонялись всю жизнь. Ведь похоронить богача, как последнего нищего, это значило бы признать, что и он, собирая богатства, жил зря, и те, кто сменили его, живут тоже напрасно и будут полностью разорены, когда смерть постучится в их двери.
Насколько честней и достойней, к примеру, индусы, от которых после кончины остаётся лишь пепел, который незачем и хоронить, достаточно бросить его в воды Ганги. Или те правоверные мусульмане, которые носят саван-тюрбан на своей голове, чтобы после кончины успокоиться в нём, как уставший кочевник в палатке.
Воистину сколько на свете разных культур и народов – едва ли не столько же и погребальных жилищ. Многие, кто бездомными жили, так бездомными и отбывают «ad patres» – бедняки, проводившие дни своей жизни в лачугах, в лачугах-гробах и уходят под землю; люди гор, укрывавшиеся в каменных саклях, получают подобные склепы и после смерти. Солдаты, которые жили общею жизнью и пали общею смертью, находят последний приют в братских могилах. Усыпальницы и саркофаги, склепы, саваны, погребальные урны, египетские бальзамические бинты, костры древних славян или современных индусов, корабельные «койки» с подвязанными к мёртвым лодыжкам колосниками, пещеры-«костницы» горных монастырей, «башни молчания» зороастрийцев – всё это разные виды смертных жилищ.
Но коль уж мы русские и православные, нам не уйти от родной домовины. Оно и хорошо: куда и прийти в гости к мёртвому, как не на кладбище, не на погост под рябинами или сиренью? Мёртвым-то, ясное дело, уже всё равно, где, в каком виде и как будут ждать Суд их тела; а вот тем, кто пока ещё жив, важно чувствовать: смерть не лишает нас дома – напротив, она-то, быть может, приводит к нему. И вот именно тихое сельское кладбище позволяет почувствовать смерть как пристанище, как последний приют. То, чего в жизни так не хватало – покой, тишина и свобода от тяжкого груза долженствования, – изобильно и щедро наполняет собою здесь всё: ограды и плиты, кресты и дорожки, венки, фотографии, надписи, даже стаканы на маленьких столиках возле могил. Душа чувствует: именно здесь её встретит желанный и долгожданный покой. Потому-то всегда так и тянет на кладбище – побродить меж могил и неспешно подумать о жизни, – что ощущение дома вот именно здесь обостряется до особенной силы. Этот дом всегда ждёт, он всегда рядом с нами – и слава Богу за то, что никто из нас не остаётся без последнего, милосердного, всех ожидающего приюта…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































