Текст книги "Дом, дорога, река"
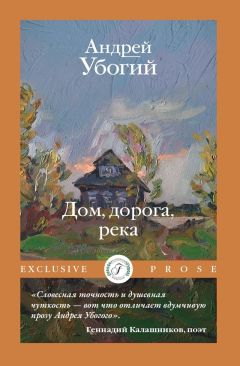
Автор книги: Андрей Убогий
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 28 страниц)
III
Но Москва приближается, и мы все волнуемся. Ну, ещё бы, на многие годы жизнь нашей семьи должна будет перемениться. А я думаю ещё и о том, что не только у Даши, но и у меня самого это будет первый щенок в жизни. Конечно, детская мечта исполняется чуть поздновато – мне уже сорок два года, – но удивительно, что она всё-таки исполняется.
Питомник шнауцеров, куда мы направлялись, располагался на северной окраине столицы. Трудно сказать, что каждый из нас представлял при слове «питомник», но в реальности это оказалась типовая квартира в серой многоэтажке, одна из комнат которой была отведена собакам. В углу, отгороженном досками, копошились чёрные двухмесячные щенки. Никакого выбора не предстояло: наш кобелёк был заранее выделен нам хозяйкой питомника.
Помню, как чёрный забавный комочек всё пытался от нас убежать – в чём уже смолоду проявлялись его независимость и самобытность. Нам выдали вместе с лопоухим и неуклюжим щенком и его громкое имя, напечатанное в аттестате: «Луисбург хэндли трэлз». В той же грамоте указывалась и его родословная, помню, в ней числилось несколько чемпионов породы.
В Калугу Луи (так мы сократили его важное имя) ехал в плетёной корзине. Щенок вёл себя в целом спокойно и особых хлопот в пути нам не доставлял. Корзинку с ним Даша не выпускала из рук. Казалось, наша дочь не верила в то, что всё, происходящее с нею не сон и что у неё в самом деле теперь есть настоящий щенок. Помню Дашино ошеломлённое, какое-то даже измученное счастьем лицо и то, как она невпопад и не сразу отвечала на наши с Леной вопросы: и сердце, и мысли её были заняты только Луи. А мне самому, когда я смотрел на Дашу, оглушённую счастьем, отчего-то было печально: никогда прежде я не испытывал столь же глубокой и необъяснимой вины перед собственной дочерью – вины неизвестно за что…
Итак, мы вернулись в Калугу с милейшим щенком, но и с грузом забот и проблем, неизменно сопровождающих начинающих собаководов. Первым и главным вопросом стал, естественно, вопрос о кормлении. И вот тут обнаружилось важное качество нашего юного друга: он был почти равнодушен к еде. «Всё понятно – не пищевик!» – сказала, как припечатала, одна из авторитетных знакомых собачниц, которой я как-то посетовал на эту особенность нашего пса.
Такое свойство Луи, открытое нами уже в первые дни общей жизни, имело последствия очень серьёзные: оно отнимало у нас важнейший рычаг воспитания и дрессировки собаки. Как заставить щенка выполнять команду, если он равнодушен к награде? Не будешь же всякий раз бить его скатанной в трубку газетой? Но и не будешь, с другой стороны, действовать только лаской да уговорами, взывая к собачьей совести, тем более что в её существовании я до поры до времени сомневался.
Оказалось, впрочем, что сомневался я зря: Луи оказался и совестлив, и застенчив. Забегая вперёд, расскажу, как наш пёс вёл себя через несколько лет, когда у него возникли проблемы с кишечником. Погуляв с Луи утром, мы оставляли в квартире его одного: я и Лена работали, Даша училась. Когда же я возвращался с работы, то уже с первого взгляда на пса понимал, что случилась очередная кишечная «неожиданность». Луи не подходил ко мне, даже когда я его звал (это при том, что обычно он дружелюбно приветствовал каждого члена семьи), а, напротив, прятался где-нибудь под столом, всем своим видом выражая раскаяние. Хвост был поджат, лапы согнуты, шея опущена, а посмотреть мне в глаза он никак не решался. Всем своим обликом и поведением Луи словно мне говорил: «Хозяин, убить меня мало!» И ведь никто никогда не наказывал его за подобные слабости, понимая: скорее мы сами виноваты в том, что вовремя не выпустили пса во двор, где он мог бы спокойно справить нужду. Я уверен: у Луи в эти минуты просыпалась именно совесть – осознанье того, что он преступил запрет, нарушать который нельзя.
А застенчивость нашего пса проявлялась в том, как он ел. Даже голодный, он мог игнорировать миску с едой, ожидая особого приглашения. Помнишь, Даша, как мама устраивала целые представления, с ласковыми словами, с почёсыванием Луи за ушами, с предложением лакомства из своих рук, и всё для того, чтобы наш «не пищевик» соизволил наконец подойти к миске?
Есть Луи начинал не сразу. Сначала он брал из миски небольшой кусок и уносил его прочь с наших глаз – обычно на коврик в прихожую. Там без свидетелей он аккуратно съедал его и только после этого возвращался на кухню, где были люди и где стояла его миска с кормом. Но, и начав есть из миски, он мог прерваться и отойти в сторону, когда замечал на себе чей-либо пристальный взгляд или слышал, как его окликают по имени.
Вот откуда такая застенчивость в грубом животном, для которого, кажется, ничего не должно быть важней насыщенья утробы? Неужели Луи сознавал, что всегда подчиняться звериной природе негоже и что в жизни есть вещи достойные и недостойные, сообразные с идеалом должного поведения или нарушающие его?
Похоже, жизнь рядом с людьми заставляет собаку воспринимать и усваивать что-то из человеческого поведения. Каждый конечно же замечал, до чего комично собаки порою напоминают тех, кто ведёт их на поводке, являясь своего рода карикатурами или шаржами на собственных хозяев. Думаю, что собака может копировать не одного человека, но и семью, где она обитает: её нравы, привычки, манеры.
Сейчас очень кстати припомнился рассказ дочери об одной из студенческих олимпиад по неврологии. Помнишь, Даша, как в Казани на вопрос одного из преподавателей – откуда, мол, девушка, вы, студент-медик, так разбираетесь в живописи? – ты, пожав плечами, ответила: «Я всё-таки росла в интеллигентной семье…»
Думаю, что и наш пёс, если б какой-нибудь высший собачий авторитет спросил у него: «И откуда ты такой взялся?», вполне мог бы, чуть сдвинув косматые брови, ответить: «Я всё-таки рос – извините – в интеллигентной семье…»
IV
Но не слишком ли я увлёкся психологическим портретом Луи, упустив то, с чего обычно начинают рассказ о собаке: её экстерьер?
Чёрный лохматый забавный щенок, что ехал в Калугу в корзине, которую Даша не выпускала из рук, он быстро рос и из чёрного становился всё более серым, приобретая тот самый благородный окрас – «перец с солью», – который считается наиболее характерным для этой породы.
Примерно к восьмимесячному возрасту Луи принял облик идеальной собаки: средних размеров, ладно скроенной и крепко сшитой. Он был поджар и на редкость силён: даже я, не самый хилый мужчина, с трудом удерживал Луи на поводке, когда он азартно рвался куда-то. А уж могучие челюсти и внушительные зубы нашего пса были созданы словно для куда более крупной собаки и лишь случайно достались Луи.
Таким же, «на вырост», был его голос, густой, хрипловато-бархатный бас, чья сила была такова, что, скажем, прохожие нередко обманывались, соотнося этот голос с размером пса. Гуляешь, бывало, с Луи, и он неожиданно рявкнет за чьей-либо спиной. Прохожий, вздрогнув, оглядывается – и всегда смотрит намного выше Луи, потому что не может поверить: неужели настолько могучий бас принадлежит вот этому псу, чья холка едва достаёт до колена?
Не один, впрочем, голос, но и морда Луи была очень солидна и живописна. Борода, усы и лохматые брови, скрывающие большие карие глаза, – всё это было одновременно и диким, всклокоченным – так в девяностые годы прошлого века выглядели бедолаги-бомжи возле мусорных баков, – но и, как сейчас выражаются, стильным. Недаром чуть ли не все, и знакомые, и незнакомые, кто встречал нас с ним на прогулке, восклицали при виде Луи: «Какой красавец!»
Всего же эффектнее превращение бомжа в аристократа происходило во время тримминга. Вот только что я гулял с лохматой собакой почти подзаборного вида, чьих глаз было не разглядеть сквозь косматую шерсть – казалось, все репьи нашей окраины собраны в ней – и чей облик уж никак не говорил о знатном происхождении. Но вот начиналась процедура тримминга, непростая и для Луи, и для грумера Риты, которая терпеливо, в течение многих часов, выщипывала, а потом стригла жёсткую шерсть собаки. Под столом, на котором лежал изнывающий, тяжко вздыхавший Луи, вырастала гора серой шерсти, которая была чуть ли не больше его самого.
Когда же нудная процедура наконец завершалась, я снимал со стола совершенно другую собаку. Теперь это был аристократ с аккуратной бородкой и строго торчащими кустиками бровей – какие огромные и задумчивые глаза открывались из-под недавних зарослей шерсти! – и с нервно переступавшими лапами, под коротко стриженной шерстью которых отчётливо переливалась мускулатура.
Можно сказать, у нас было две разных по экстерьеру собаки: одна до тримминга, а другая после, одна лохматая и диковатая, а другая холёная и благородная. Мне, признаться, лохматый оболтус нравился больше. Хоть, конечно, с отросшею шерстью было куда больше возни: одно мытьё грязных лап после прогулки и вычёсывание репьёв превращалось в непростую задачу. Но всё равно я с радостью видел, как Луи обрастает, из аристократа превращаясь снова в простецкого парня.
Через пару месяцев после тримминга уже появлялись лохматость и встрёпанность, но глаза ещё были видны; и серьёзный взгляд пса из-под серых бровей мог быть гневным, особенно когда он подкреплялся густыми басами его голоса. Смешно сказать, но мне взгляд Луи порою напоминал грозный взгляд философа Шопенгауэра на известном дагерротипе – том, где отшельник из Франкфурта тоже небрежно всклокочен и смотрит настолько сурово, что хочется скрыться с его глаз долой. Надеюсь, тень мудреца не сердится на меня за это, тем более что мизантроп Шопенгауэр сам страстно любил собак.
А Луи мы и впрямь называли философом за его, погружённый в себя, независимый и задумчивый нрав. По натуре он был интровертом, и событиям внешнего мира бывало непросто пробить его внутреннюю защиту. Всегда чувствовалось, что Луи существует сам по себе, исходя из своих собственных представлений и предпочтений.
Но при этом характер его был соткан из парадоксов. Вот как, например, можно быть трусоватым и храбрым одновременно? На крупных собак – овчарок, ротвейлеров, даже мастифов – Луи, случалось, отважно кидался, издавая свой грозный басовый рык; и нередко большие собаки озадаченно пятились перед сравнительно небольшим шнауцером. Зато перед разной собачьей «мелочью» – болонками, йорк-терьерами или пекинесами – Луи пасовал и пятился сам. Опасался он, стыдно сказать, даже кошек, стараясь их как бы не замечать или обходить стороной.
Как это объяснить? Может, лучше просто признать, что всякий характер – в том числе, и собачий – есть тайна, которая не поддаётся ни классификации, ни разумному истолкованию? Всем, кто близко общался с Луи, было ясно, что этот задумчивый пёс наделён индивидуальностью – тем особенным и неповторимым, что отличает его от всех прочих собак. А тайна индивидуальности – одна из самых глубоких тайн вообще, неважно, идёт ли речь о собаке, или о человеке. «Бог и лесу не сравнял», – говорит пословица; похоже, что «штучность» и уникальность всего живого есть такое же неотъемлемо важное качество жизни, как, скажем, обмен веществ.
Думаю, что загадка индивидуальности неуловимо перетекает и в тайну любви. Разве можно любить что-нибудь «вообще», то есть нечто безликое и усреднённое? Нет, любовь всегда избирательна и направлена на конкретное и единичное: вот на этого человека, на этот дом или книгу, или этого пса, с его серой лохматой задумчивой мордой.
V
Но если кто-нибудь думает, что Луи рос сам по себе, как трава в поле, то он ошибается. Нет, мы решили дать юному псу достойное его благородному происхождению образование и несколько раз посетили занятия на собачьей площадке.
Площадка мне не понравилась сразу: это был асфальтовый пыльный пустырь на площади Маяковского, между гудящим шоссе и железнодорожною насыпью. Зимой здесь заливали каток, а летом внутри хоккейной коробки кругами ходили собаки и их владельцы. Похоже, занятия тяготили и тех и других. Ну что хорошего может быть в том, чтобы битый час таскать собаку на поводке, чувствуя, как её горло дрожит и хрипит и как пёс задыхается, не понимая: «Да чего же хотят от меня и хозяин, и все эти люди вокруг, и собаки, которые, кажется, только и думают, как меня разорвать?» От растерянности и возбуждения Луи остервенело рычал на своих «одноклассников» (а это были в основном ротвейлеры и овчарки); те, разумеется, хотели в отместку тяпнуть его, и вместо чинного шествия благодушных хозяев с послушными псами получалась остервенелая карусель из лающих друг на друга собак и их раздражённых владельцев, то и дело дёргающих за поводки.
Не забудем, что наш пёс был «не пищевик» и поэтому не видел никакого резона в том, чтобы выполнять команды. Воздействовать на него можно было только окриками или шлепками да рывками поводка, от которых пёс хрипел и задыхался: кому же понравится учёба в таких условиях?
Неудивительно, что мы с Луи скоро оказались в безнадёжных «двоечниках». Мне это было обидно – я переживал за Луи, почти как за себя самого, – но ничего не мог поделать ни с натурой собаки, ни с суровыми нравами, царившими на площадке. Это уж теперь, спустя много лет, я понимаю, что обычная, не состоящая на какой-либо службе собака должна выполнять всего две команды: «Ко мне!» и «Нельзя!» – их вполне достаточно для надёжного управления ею. Но, прежде чем осознать это, нам с Луи пришлось немало помучиться. Инструктор-кинолог (хмурая женщина, больше похожая на армейского прапорщика) то свистела в пронзительно верещавший свисток, то что-то зычно кричала; а я, шагая по кругу с другими «учениками», то одёргивал рычащего на соседей Луи, то вспоминал о том, как когда-то, в школьные годы, «дрессировали» меня самого.
Неподалёку от собачьей площадки, что на площади Маяковского (гипсовый трёхметровый поэт с гордым презрением наблюдал за нашими муками), располагалась школа, где я учился; а в школьном дворе был устроен плац для строевой подготовки. И мысль о родственном духе этих мест – собачьей площадки и школьного плаца – не раз вызывала у меня саркастическую усмешку. И в одном, и в другом месте некая сила пыталась стереть единично-индивидуальное, и привести всех к безликому знаменателю. Как собак, совершенно различных по нраву, облику и темпераменту, на дрессировочной площадке старались превратить в бездумно послушные четвероногие механизмы, так и на школьном плацу ученик должен был превратиться в машину, тупо печатающую шаги и беспрекословно выполняющую команды.
Но оцените иронию жизни! Как за собаками наблюдал поэт Маяковский (точнее, его гипсовый истукан), так за нами, маршировавшими школьниками, с печальной усмешкой наблюдал Николай Васильевич Гоголь. Какими путями его грустный бюст оказался на школьном плацу, это тайна, покрытая мраком. Знаменитый писательский нос очень скоро отбили, и от этого облик Гоголя сделался ещё печальнее и одновременно смешнее, а наша шагистика под его иронично-обиженным взором обретала совсем уж абсурдный характер, словно мы ставили сцену из гоголевской пьесы. Режиссировал нами военрук майор Мирошник («Я – злой хохол!» – говорил он про себя), но он не обращал никакого внимания на своего великого соотечественника.
Что, интересно, сказал бы бюст Гоголя, если б ожил? Изрёк бы своё знаменитое «Скучно на этом свете, господа!» или просто печально вздохнул? Вот он, дескать, каков «русский человек в его развитии, каким он явится через двести лет», только и знает, что с оттяжкой печатать шаги, отдавать честь в движении, да по команде «Р-равняйсь!» видеть в шеренге слева, как того требовали строевой устав и наш бравый майор, грудь четвёртого человека.
Но драматизм ситуации был ещё в том, что мне, шестнадцатилетнему юноше-допризывнику, шагистика нравилась больше и больше. Я блаженствовал от растворения в маршировавшей колонне, от выполнения перестроек и поворотов, от подчинения собственной воли многоногому и многоголовому существу по имени «воинский строй». Наши ноги одновременно взлетали и падали, руки давали отмашку, уши чутко ловили команды майора Мирошника, и каждый шаг отпечатывался не просто на сером асфальте, но словно бы напрямую на сердце, отчего оно изнывало в почти сладострастном восторге.
«Так вот оно, счастье служаки! – приоткрывалась тебе одна из тёмных, манящих сторон человеческой психики. – Счастье в том, чтобы перестать быть собой, чтобы слить своё одиночество с множеством прочих, неотличимых один от другого людей, чтоб отдать свою волю, свободу и душу тому, что безмерно сильнее и больше твоей одинокой, несчастной, растерянной жизни…» Колонна, идущая строевым торжествующим шагом, одаряла странной иллюзией: чудилось, что никакая беда (даже смерть!) неспособна тебя отыскать в тех рядах, где ты уж и сам потерял самого же себя…
Нирвана шагистики долго тебя не отпускала. Затем-то, возможно, бюст Гоголя и оказался на школьном плацу, чтоб развеять коварные чары, в которые я, впечатлительный юноша, погружался всё глубже. Нужен был грустный, сочувственный, всё понимающий взгляд гения и христианина, чтобы словно окликнуть меня: «Андрей, не дури – возвращайся к себе! Раз уж ты создан особенным, так и неси одинокий крест своей личности, не отдавая его никому. Ведь ты человек – вот и будь человеком, а не бездумной машиной для выполнения строевых упражнений…»
VI
С собачьей площадкой мы вскоре расстались, что было на пользу и нам, и Луи. Начальные навыки дрессировки мы кое-как освоили – команды «Нельзя!» и «Ко мне!» наш пёс хоть и не очень охотно, но выполнял, – а большего мы от него и не требовали.
Нам было нужно другое. Главной задачей Луи, вряд ли сразу осознанной нами и тем более им самим, было согреть и укрепить отношения в нашей семье. И он с этой задачей прекрасно справлялся, несмотря на свой хмурый задумчивый вид, независимость и показную суровость.
С чего, например, начиналось утро десятилетней девочки Даши, когда ей нужно было просыпаться ни свет ни заря, чтоб идти в школу? Не будь собаки, утро стало бы сущим мучением: каждый может припомнить собственные пробуждения, особенно перед какой-нибудь ненавистной контрольной. В такие минуты и белый свет не мил, тем более не милы вредные эти родители, которые тормошат и торопят сонного и готового вот-вот заплакать ребёнка.
А с Луи утро Даши начиналось совсем по-иному. Заслышав первые шевеления просыпавшейся девочки, пёс подходил к ней и подставлял свою лохматую тёплую голову под её сонную руку. И Дашино утро всегда начиналось с улыбки. «Пё-ёс!» – говорила она, ещё не открывая глаз и гладя Луи по загривку. Она словно не верила, что это счастье – собака! – всё ещё с ней и оно не исчезнет, как сонные грёзы.
Луи никуда не исчезал. Пока Даша вставала с постели, он крутился поблизости и был даже не против объятий, хотя в иное время их избегал. Даша и обнимала его – пшеничные волосы покрывали серую спину собаки – и, случалось, со счастливым недоумением говорила: «А Луи пахнет мёдом…»
Так что первый удар наступавшего дня был для Даши смягчён её серым другом. И как же не быть благодарным Луи за эту защиту ребёнка от забот и печалей наступавшего дня? Согласитесь, начать утро с улыбки – совсем не то что начать его, стиснув зубы или сглатывая слезу. Пёс был своего рода живым серым солнцем, что каждое утро согревало и озаряло Даше предстоящий ей на сегодня жизненный путь.
Когда же она подросла, из школьницы стала студенткой медицинского института и на долгие годы обосновалась в Смоленске, её приезды в родительский дом становились праздником не только для нас с Леной, но и для пса. Луи распознавал уже её приближение к дому: он подходил к двери, прислушивался и начинал – как бы для разминки – помахивать хвостом. А когда Даша появлялась в дверях, их обоюдное ликование достигало предела! Луи даже нам, родителям, не позволял обнять дочь-студентку, он вилял не просто хвостом, а всем телом, беспорядочно тыкался Даше в колени и в руки и сам не помнил себя от радости.
Радовалась, конечно, и Даша. Едва поставив сумку, она опускалась на корточки и начинала трепать по спине и загривку ополоумевшую от счастья собаку. Снова звучало давнишнее, детское: «Пё-ёс!» – и, надеюсь, Луи для Даши снова благоухал мёдом.
Вторым по важности человеком для нашего пса являлась Дашина мама: она была в прямом смысле кормилицей Луи. Да и формально она числилась «владелицей собаки»: так было записано в собачьем паспорте. Лене, конечно, было непросто кормить «не пищевика», тем более что первые годы мы старались давать Луи натуральную пищу. Значит, надо было ежедневно варить говяжью обрезь или щековину, измельчать это мясо и жилы, смешивать с кашей, а потом уговаривать пса поесть. Он не приближался к миске, пока Лена ласково не подзывала его, не трепала по шее, а потом не давала первый кусок из своих рук. «Ты бы ещё перед ним станцевала!» – порой говорил я в сердцах: мне, никогда не страдавшему отсутствием аппетита, было трудно понять равнодушие пса к отварной говядине. Я, кстати, несколько раз – сначала по ошибке, а потом и сознательно – доставал кусок мяса из собачьей кастрюльки, подсаливал и с большим удовольствием уплетал. Так что прости меня, пёс, случалось, я тебя объедал.
Другой процедурой, за которую отвечала хозяйка, было вычёсывание собаки. Эта картина всегда умиляла: когда Лена укладывала Луи на полу в гостиной, садилась рядом и начинала металлическим гребнем расчёсывать жёсткую, как проволока, шерсть пса. Луи поначалу недовольно ворчал и пыхтел, но скоро смирялся и уже получал удовольствие от заботливых рук и хозяйского голоса. Лишь иногда, когда гребень цеплял за клок плотно свалявшейся шерсти, Луи коротко взвизгивал, но скорей не от боли, а лишь для того, чтоб откликнуться на ласковое воркованье хозяйки.
Дашин брат Дима в те годы, когда у нас появилась собака, дома оказывался нечасто: он учился сначала в Смоленске, потом в Москве и в Калуге бывал лишь наездами. Но удивительно, с каким уважением Луи относился к нему! Пёс, вообще-то не очень любивший подчиняться кому-либо, команды Димы выполнял быстро и беспрекословно; и, когда вся семья была в сборе, Луи всем своим видом и поведением оказывал предпочтение именно Диме – очевидно, считая того сверхчеловеком. То ли высокий рост, то ли голос, уверенный и молодой, то ли решительные движения, то ли нечастые появления в доме (как известно, чем реже встречи, тем крепче дружба и тем сильней уважение), но что-то в Диме было такое, что заставляло Луи благоговеть перед ним. Остальным – тем, кто постоянно жил рядом с собакой, кормил её и выгуливал, – было, помнится, даже немного обидно; но чувство благоговения, как и чувство любви, есть тайна, неподвластная ни рассудку, ни справедливости.
Старшие в нашей семье – мои мать с отцом, живущие этажом ниже. У них с Луи тоже, естественно, сложились свои отношения. Когда мы, молодёжь, уезжали куда-то, куда собаку взять с собой не могли, она оставалась на попечении моих родителей. Мама Луи кормила, отец с ним гулял, и оба его полюбили. Я вообще не представляю себе человека настолько бесчувственного, что он не полюбил бы такую собаку, как наш бородатый лохматый мудрец. А уж моя матушка, по своей натуре тревожно-заботливая, опекала Луи, как ребёнка, хоть этому «мальчику», в пересчёте с собачьего возраста на человеческий, было уже далеко за «полтинник».
Однажды мама спасла Луи жизнь. Пёс к тому времени заметно одряхлел и окончательно переселился на первый этаж, к родителям: спускаться и подниматься по крутой лестнице ему становилось всё тяжелее, вносить его на руках не позволяли наши больные спины. И вот однажды, в февральскую вьюгу, когда мело с небывалою силой и следы людей и собак заносило за считаные минуты, отец возвратился с прогулки один, потому что Луи потерялся в метели. Это случилось неподалёку от дома: отец, ослеплённый несущимся и залепляющим очки снегом, не заметил, как старый и тоже плохо видящий пёс отстал, сбился с тропы и растворился в слепых завихрениях вьюги.
На поиски вышли втроём: отец, мать и я. Шагая почти по колено в снегу, мы разбрелись в разных направлениях, то и дело окликая собаку. Голос на холоде быстро охрип и был еле слышен сквозь пелену снегопада и посвисты вьюги. Даже я, человек ещё сравнительно крепкий, очень скоро устал идти сквозь метель; что же говорить о моих родителях, чей возраст приближался к восьмидесяти? Но искали они героически, не давая себе поблажки, хоть надежды и силы таяли с каждой минутой и с каждой сотней пройденных метров.
Настал тот момент, когда брести сквозь метель заставляла уже не столько надежда найти Луи, сколько невозможность вернуться домой без собаки. Не помню, в который уж раз я обходил территорию нашей больницы, с сердечною мукой представляя себе то обессилевшего и замерзающего в сугробе Луи, то предстоящий звонок в Смоленск, Даше, с рассказом о том, что случилось. Эти тяжкие мысли крутились в голове столь же путано и неотвязно, как неустанно кружилась метель.
Вдруг я почувствовал, как задрожал, а потом запиликал в кармане мобильник, и через секунду послышался мамин измученный голос: «Нашёлся!» Оказалось, она зашла в своих поисках дальше всех нас и уже за деревней, в полях у железнодорожной насыпи, наткнулась на белый дрожащий сугроб, в который превратился наш замерзающий пёс. Идти самому у него уже не было сил – он шатался и падал, – поэтому почти весь путь до дома я нёс облепленного снегом Луи на руках. И спал он потом почти целые сутки – сам, видно, не веря тому, что опять возвратился к семье и жизни.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































