Текст книги "Дом, дорога, река"
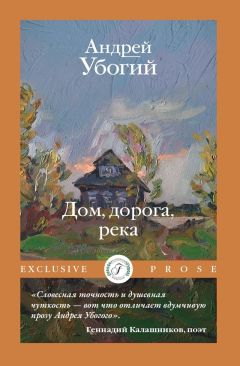
Автор книги: Андрей Убогий
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
Минут через сорок ходьбы остановились у темной скирды полусгнившей соломы. Здесь, в безветрии, было по-настоящему жарко. Пахло хлебом и прелью, оттаявшей мокрой землею, тянуло дымком от недальней деревни. Дима развязал рюкзачок и достал шматок сала и хлеб. Сало было очень соленым, и мы, зачерпнув по пригоршне зернистого снега, хрустели им, как сухарями, смывая соленое жженье во рту.
А потом опять пошагали. Крошево снега шипело в ногах. Глазам было больно от света. Даже снег временами из белого делался черным – и черно-зеленые полосы плыли по синему небу.
А наст все крошился, хрустел, оседал. Ослепленные солнцем, мы шли напрямик, без дороги, ломая размякшую корку имперского наста. Не в тот ли поход мы нарушили равновесие хрупкого мира?
V
Удивительно все же прожить тридцать лет – почти всю свою жизнь – в одном месте. Вот этой дорогой, которой ежедневно хожу на работу, я проходил тысячи раз.
Первое, что я вижу, выходя из подъезда, – деревья. То черные их силуэты во тьме января, то влажную зелень июня, то сентябрьское золото лип и огромного клена. Затем вижу небо, отсюда открыта восточная часть. Зимой его тьма лишь немного разбавлена светом аэропорта; в октябре и апреле любуюсь восходом; летом же в небе царит настоящий, давно укрепившийся день.
За домом – развалины детского сада. Руины почти что сровнялись с землею: местные жители по кирпичу разобрали стены. Но земля и деревья помнят меня, пятилетнего. Мне тоже нетрудно припомнить, как я там бродил, как высокий зеленый забор отделял от меня, как казалось, то главное, без чего нельзя жить. А что это было – не знаю. То, к чему я стремился, все отдалялось: так от путника удаляется линия горизонта, но он продолжает шагать, не сводя с нее глаз…
Но идем дальше. На территории психбольницы по утрам многолюдно. Сестры спешат на дневную смену, врачи – на планерку; больные в синих казенных пижамах несут горячие ведра от пищеблока. Зимой на заснеженных тропах краснеют пятна от пролитого борща. Когда идешь мимо психиатрических корпусов, видишь бледные лица за частыми переплетами окон. Кажется, что больные сейчас отдыхают от измучившей их за долгую ночь работы безумия.
Вот широко развернулась панорама Калуги. Ближе – россыпь окраинных частных домов, сады и заборы; вдали – трубы, градирни и серые глыбы многоэтажек. Бывает, что голуби кружат в розовеющем небе; когда плотно сбитая стая делает разворот, крылья птиц разом вспыхивают в лучах солнца.
Поднимаясь из полузасыпанного оврага, дорога подходит к дому для престарелых. За оградой, под кленами, шаркают старики. Интересен подбор скульптур в этом старческом парке: бюст нахмуренного Дзержинского, сидящий на лавочке Максим Горький и гипсовые медвежата.
Дом престарелых – это что-то вроде детского сада, только на другом конце жизни. И думаешь: вот она, жизнь, вся как на ладони – от детских кроваток до старческих этих скамеек. Та же беспомощность и беззащитность, и та же ограда, что в самом начале; и то же горькое чувство, что главная, настоящая жизнь идет там, за забором. Как все начиналось за прутьями детской кроватки, так оно и кончается под охраной решетки, которая скоро сожмется в кладбищенский тесный прямоугольник. Дороги, конечно, пытались тебя увести, спасти, вызволить, но прорыв не удался – похоже, ты носишь с собой все ограды и расстанешься с ними не раньше, чем с телом.
Однако не будем лукавить, созерцание этого парка теней рождает и чувство глубинного облегчения. Ты вдруг видишь то место, где ты наконец отдохнешь. От всей необъятной реальности там останутся листья на мокром асфальте, голуби возле гипсовой урны да пара собственных войлочных черных ботинок. Но и это все будет видеться мутно, сквозь туман катаракты. Зато – в это хочется верить – душу мало-помалу отпустит забота под названием «жизнь»…
Что за магия есть в этой смутно-расплывчатой мысли, обозначить которую можно словами: «жизнь позади»? Счастье, насколько возможно оно для меня, включает в себя непременным условием это самое «жизнь позади»… Может, и вправду жизнь есть дорога, которую обязательно нужно пройти, чтобы затем обрести долгожданный покой?
Однако я шел на работу. Освеженный троллейбусной давкой, схожу на конечной. Вот Циолковский стоит, подпирая ракету, вон проститутки, зевая, идут от гостиницы – надо ж поспать, отдохнуть перед новою сменой, – вон рыбаки, укутанные, словно трехлетние дети, широко ставя ноги в ватных штанах, направляются в сторону водохранилища. Перебежав через улицу – машины несутся как бешеные – шагаю к больнице.
Эта часть города – бывший Загородный сад, где в губернаторском флигеле жил Гоголь, гостя у Смирновой, и Музей космонавтики с его серебряным куполом, и просторные виды на бор – место, особое для меня. Дело в том, что впервые, еще пятилетним, я увидел Калугу именно здесь и сюда же вернулся работать, уже молодым врачом, спустя двадцать лет. И здесь меня посещает чувство округлости, цельности жизни.
Уже тогда, в раннем детстве, я чувствовал: место, куда отец с мамой привели меня под напористым ливнем, особое место. Мы сначала карабкались в гору по глинистой мокрой тропе, потом, торопясь, прошли парком, под старыми липами, и вбежали, уже все промокшие, в стеклянную дверь магазина. И вдруг отщелкнули, словно костяшки на счетах, тридцать стремительных лет – и я снова стою перед этой же самой витриной и вижу сквозь мокрые стекла, как водяной дым летнего ливня плывет над асфальтом. Кажется: я тот же самый – вот только бутылка пива вместо стакана сока в руке, – я вдруг совпал сам с собой, пятилетним, и почувствовал радость от этого. Линия жизни, виясь по туманному полю судьбы, неожиданно влилась в саму же себя, и то, что казалось бессмысленными каракулями, превратилось в продуманный, сложный узор…
Рабочий день начинается с обхода больных. Сестра идет рядом, несет полотенце и папки с историями болезней. Пейзажи больницы не радуют глаз ни разнообразием, ни красотой. Кровати, тумбочки со стаканами и бутылками минеральной воды, стопки старых газет, голые стены, дренажные трубки, свисающие из-под одеял… Здесь как в пустыне – на голой, сожженной страданьем земле.
Больные, один за другим, задирают рубахи, сдвигают штаны, и видно, как люди стыдятся того, что у них есть тело. Гримаса испуга, смущения пробегает по лицам в момент обнажения чресел. Только молоденькие девицы не стесняются заголяться: они высоко задирают свои рубашонки и смотрят, моргая, порочно-невинными глазками.
Вообще, есть огромная разница между палатами женскими и мужскими. В женских сам воздух какой-то домашний, жилой – и заходишь сюда, словно в гости к хорошим знакомым. Женщины продолжают жить даже в этих трагических стенах, и согревать своим женским теплом бесприютность больницы.
А в мужскую палату заходишь, как в тюремную камеру. Здесь не живут – только терпят. В больнице особенно видно: мужик – сирота, он чужой этой жизни…
Совершая обход, всегда чувствуешь некий сквозняк, упорно тянущий через палаты. Иногда он бывает реальным – тогда дребезжат оконные стекла и хлопают двери, – но чаще знобящее то ощущенье зарождается где-то в душе. Больные лежат и растерянно шарят руками по животам, как бы пытаясь смахнуть надоевшую боль, а тебе кажется, это незримый сквозняк опрокинул их навзничь, сорвал все одежды и скоро, быть может, подхватит измученные тела… В обычной-то жизни мы худо-бедно прикрыты – одежда, жилище, привычки досуга создают скорлупу, в которой мы прячемся от жестокого ветра судьбы, – но болезнь сокрушает непрочную эту защиту.
В отделении реанимации, на шестом этаже, те незримые сквозняки достигают особенной силы. Потому и не хочется подниматься туда, потому-то с таким напряженьем проходишь по гулким залам реанимации. Здесь, опутанные трубками и проводами, лежат почти неживые тела. Ритмично гудят аппараты, пищат мониторы, как будто мы слышим морзянку «оттуда», как будто идут непрерывные переговоры об условиях сдачи или, может быть, об отсрочке капитуляции.
Потолки высоки, стены раздвинуты здесь широко – зачем столько места на одного, неподвижно лежащего, человека? Кажется, это место для отлетающих душ. Чтоб они оглянулись, и вспомнили, и пожалели – и, быть может, вернулись в покинутые тела…
На суточное дежурство собираешься, как в поход. «Все ли взял?» – думаешь, роясь в сумке. Так, пачка чая – первейшее дело! – теплый свитер и шерстяные носки, постиранный операционный костюм, горсть конфет-карамелек, старый номер «Нового мира» – вдруг будет время его полистать? – да еще не забыть облатку с таблетками анальгина: что-то последнее время, когда устаю, начинает болеть голова. Ну вот, все уложено, как в настоящем походе: лекарства, одежда, чай-сахар.
В ординаторской первым делом переодеваюсь. И, как в путешествии, едва продев руки в рюкзачные лямки, начинаешь жить в особенном ритме похода, так и сейчас, надевая больничные эти штаны и рубаху, попадаешь в пространство с иным, напряженно-стремительным ритмом – переходишь в тревожное поле дежурной больницы.
– Доктор, в приемное! – кричит сестра в приоткрытую дверь ординаторской.
Выхожу, на ходу застегивая халат. Сбегаю по лестнице – поутру-то я быстрый! – и с досадою вижу, что в коридоре приемного отделения много народу. Правда, не все здесь больные – много родственников, – но все же троих посмотреть приходится. Одного, без сомнения, надо оставить: он стонет и корчится от сильнейших, ничем не снимаемых болей. Другую, девчонку с лукавыми глазками, отправляю на осмотр к гинекологу. А вот третьего, вижу, сюда завезли по ошибке. Он стоит, словно кол проглотил, шевельнуться боится: при каждом движении охает и хватается за поясницу. Тут конечно же люмбалгия – вот и анализы совершенно нормальные, – ему надо к невропатологам.
– Вот этому, как его… Мишину… вызывайте-ка перевозку.
Первую партию пациентов, как у нас говорят, «раскидали». Теперь снова наверх, в отделение: время обхода. Дело это привычное, но непростое. Приходится посмотреть три десятка больных – а среди них есть и тяжелые, и непонятные, поступившие прошлой ночью, – поэтому около часа уходит на то, чтобы более-менее разобраться со всеми.
После обхода хотел выпить чаю, но снова позвали в приемное. Спускаюсь: внизу никого. Заглядываю в комнату к сестрам:
– Девчат, чего звали?
– Ой, доктор, не уходите – он, кажется, в туалете…
Тут раздается не то рык, не то стон: по коридору, опираясь о стену, движется громадный старик.
– Что случилось, отец?
– Помираю, сынок, – басит великан. – Всю ночь мучаюсь, воду слить не могу…
От старика ощутимо несет перегаром.
– Праздновал, что ли, вчера?
– Было дело, сынок, было дело. Да я и сегодня «соточку» принял: вдруг, думаю, полегчает? Ни хрена! Раздуло, как бабу на шестом месяце…
Он едва помещается на кушетке. Об красное, в синих прожилках лицо можно, кажется, зажигать спички. На груди, как положено, Сталин и женский расплывшийся профиль.
– Терпи, дед!
Он зажмуривается, глухо рычит и с хрустом сжимает громадные кулаки.
– Ну, теперь будет легче.
Понемногу глаза старика раскрываются, и расправляются складки на багровом лице.
– Так что, я еще поживу?
– Поживешь…
Ложиться в больницу старик наотрез отказался.
– Боюсь, доктор, залечат. А так-то, глядишь, еще похожу…
Вернувшись в отделение, минут сорок вожусь в перевязочной: на прошлой неделе мы много наоперировали. Потом поднимаюсь в реанимацию – посмотреть, как там тот паренек, которому ночью после автомобильной аварии удалили почку.
На шестом этаже непривычно пустынно и тихо. Двое умерли утром, кого-то перевели вниз, в отделения, в реанимации осталось всего пять человек. Наш паренек вроде в порядке. Бледный, конечно, – была большая кровопотеря, – но опасений он не вызывал. Мальчик похож на Купидона: сложен девически-стройно, с кудрями до плеч, с нежным – хоть и в кровоподтеках – лицом. То-то и сестры над ним хлопотали, словно бабочки над цветком.
– Люба! – кричала одна. – Иди-ка, поможешь амурчика перевязать.
Незаметно подошло время обеда. Вообще-то, врачам на дежурствах не положено есть из больничного, такого скудного ныне котла. Но еда все равно остается: мало кого привлекает нищенский суп и унылые серые макароны. А мы ребята неизбалованные, рады и этому.
Теперь бы прилечь на полчасика на раздрыганном, виды видавшем диване. Слышно, как в коридоре ходят и разговаривают больные; вот загремели железные двери и загудел, поднимаясь, лифт; завыли и смолкли водопроводные трубы. Если закрыть глаза, эти звуки начинают причудливо смешиваться. Ты еще воспринимаешь реальность, но она уже так искажена, что не можешь понять: где же ты? Как бы качаешься между явью и сном… Но слышно, как в коридоре звонит телефон, потом раздаются шаги медсестры, и еще раньше, чем она стукнет в дверь, начинаешь садиться.
– Доктор, гинекологи просят подняться в операционную.
Ах, чтоб их! Обратный насильственный ход из дремоты в действительность так тяжел, что хочется застонать от тоски и обиды. Обуваешься, пять-шесть секунд тупо глядишь пред собою – и не можешь отделаться от забытого, детского чувства жалости к себе самому…
В операционной окна завешены простынями – чтоб солнце не било в глаза, – но блики от кафельных стен делают сумрак светящимся. На столе под горящею лампой лежит юная женщина, бледная как простыня. Ее обнаженное тело казалось бы мертвым – если бы грудь не вздымалась в такт мерным вздохам наркозного аппарата. Народу вокруг суетится много: льют струйно, в две вены.
– Что, кровопотеря большая?
– Да, давление почти по нулям.
Пока моюсь, гинеколог уже начала операцию. Инна работает быстро. Перчатки, как всегда, ей велики, но она сноровисто хватает зажимы и вяжет. Когда подхожу к столу, разрез уже сделан, и мне остается только растягивать рану. Под брюшиной видна темная кровь.
– Готовьте реинфузию!
Обычным половником, почерневшим от стерилизаций, Инна черпает кровь и сливает через салфетку в стеклянную банку. Почти литр удается собрать для обратного переливания. Теперь ищем, откуда кровит. Вот она, разорвавшаяся маточная труба.
– Как давление?
– Шестьдесят.
Отсечь трубу и прикрыть культю складкой брюшины – дело несложное.
– Сколько ей лет-то?
– Шестнадцать.
– Зашивать косметическим будешь?
– Да нет, куда там! Ей живой бы остаться – не до красоты…
Перед тем как уйти, еще раз смотрю на больную. Она порозовела, и уже нет того жуткого впечатления, что видишь это мраморно-белое тело как будто в прозекторской, на столе с желобками. Что ж, Бог даст, и поправится…
В приемном меня уже ждут. Бритый парень в кожаной куртке, с выражением страха и недоумения на лице, идет в смотровой кабинет, широко ставя ноги.
– Да-а, землячок… И давно ты болеешь?
– Второй день. Доктор, а что, обязательно отрезать? – В его голосе дрожит ужас.
– Да нет, – улыбаюсь, – сначала полечим.
Пока описываю парня – перо машинально бежит по бумаге, – «скорая» привозит еще одного. Врач линейной бригады испуганно начинает мне объяснять:
– Понимаете, у него такой отек мошонки – страшно смотреть!
Но по виноватому выражению глаз молоденькой докторши чувствую: что-то не то. Под руки вводят синюшного деда. На расстоянии слышно, как он хрипит. Лечь ему трудно: он задыхается. Пальцы сосисками, ноги как тумбы; в глазах – тоска человека, уже уставшего умирать.
– Вы не по адресу прибыли, – говорю молодой докторице.
– У него же сердечная декомпенсация. Везите в терапию.
– Ой, правда? – Девушка покраснела. – Вы только запись в талоне оставьте, пожалуйста. А я никогда такого не видела.
– Еще насмотритесь…
Шесть часов – время делать вечерний обход. Он проходит быстрее, чем утренний: смотрю лишь тяжелых, да тех, кто только что поступил. Поступившие были в порядке, а вот женщину в пятой палате во время обхода вдруг зазнобило. Тяжелое зрелище: страх в глазах, пересохшие бледные губы, стук зубов и кровать, ходящая ходуном… Накрыли больную двумя одеялами – она вроде чуть успокоилась. Теперь узнать главное: какое давление и какая температура? Померили: девяносто на шестьдесят и тридцать девять. Начинается, значит, токсический шок – надо брать ее срочно.
– Нужно вас оперировать. Нагноение почки – возможно, придется ее удалить. Согласны?
Женщина так устала, что вместо ответа только закрыла, а потом утомленно открыла глаза.
На то чтобы все подготовить, уходит около часа. Наконец каталка загромыхала по коридору. Значит, пора подниматься и мне.
Моюсь. Руки под сильной струей воды кажутся очень худыми. Салфетки, которыми их затем протираешь, издают спиртовой резкий запах. С локтей на кафельный пол падают капли.
– Одеваться!
Продеваю руки в горячие рукава халата. Меня облачают, словно священника в храме. Затем тупфером мою операционное поле. На влажной коже блики от лампы становятся ярче. Вот серые простыни накрывают больную – человека почти и не видно под ними, – и сразу становится легче, спокойнее. Перед тобой уже как бы не весь человек, с его телом, душой и загадочной жизнью, а лишь небольшое поле.
Подробно описывать ход операции я, пожалуй, не стану. Но помню, как сильно перетрухнул, когда мимо большого федоровского зажима ударила струя крови. Машинально прижал к позвоночнику это место и крикнул:
– Отсос!
Наконечник отсоса звякнул по металлическим кольцам – и старый, перержавевший зажим неожиданно выпал из раны! Еще слава Богу, что удалось, торопясь, положить другой зажим параллельно аорте, вдоль ее туго прыгавшей стенки…
– Кажется, взял… Посуши, осторожно.
– Что у вас там? – встревожился анестезиолог. – Почему давление ухнуло?
– Бранша зажима сломалась. Так и до инфаркта недалеко…
Внутри у меня все дрожало, сердце прыгало, кажется, от коленок до горла.
– Света, вытри мне лоб, – попросил я сестру.
Она салфеткою вытерла пот, брызги крови, и виновато сказала:
– Ну что же я сделаю? У нас все зажимы такие – их уж давно повыбрасывать надо.
Сильная встряска всегда оставляет осадок, словно ты отравился. Мутит, сушит во рту, слабость вливается в руки и ноги. Так, через силу, и приходится завершать операцию.
Спускаясь по лестнице – оперблок на седьмом этаже, – думаю: удастся ли выпить чайку или снова придется топать в приемное? Был десятый час вечера: дежурство, по сути, лишь начиналось. В нашем-то деле главное – ночь; и она приближалась…
Выключив свет, смотрю в окна дома напротив. В желтых квадратах появляются и пропадают люди; лампы то гаснут, то загораются; кое-где дрожит призрачный свет телевизоров. Я себя чувствую одиноким и старым. Смотрю на мелькающих в окнах людей словно с другого берега – и река, что нас разделяет, становится шире и шире. Редко где так же, как на дежурствах – да вот еще в одиноких походах, – чувствуешь, до чего же пустынна жизнь… Но с радостью слышишь далекий звонок телефона: ты еще нужен кому-то!
Бреду в приемное медленно, уже по-ночному. Синеватый свет лампы трепещет под потолком. На лестнице курят больные: увидев врача, они замолкают.
Молодая полная женщина стонет и вертится на кушетке, кусая губы.
– В больнице останетесь?
– Да!
…Устал, хочу спать. Снимаю халат, достаю одеяло, ложусь на диван. Больничные звуки – гудение лифта, шаги, завывание труб – то отдаляются, то нарастают, словно волны прибоя. Я, как щепка, качаюсь на этих волнах: меня или выбросит снова в реальность, или утащит в забвенье.
Врачебный сон на дежурстве всегда неспокоен. Недавняя операция не дает покоя. В пальцах будто бы снова ломается старый зажим, и шипящая алая кровь наполняет глубокую рану…
– Доктор, в приемное! – Сонный голос сестры прогоняет видения.
На кушетке в приемном скулит окровавленный человек.
– Что случилось?
– Избили… менты… – раздирая засохшие губы, хрипит жертва ночи.
– Живот открывай. И штаны опусти. Да пониже, пониже! – Мой голос сейчас раздраженный спросонья.
Решаю его оставить: пускай полежит до утра. Возвращаюсь в ординаторскую, валюсь на диван – и теперь окончательно просыпаюсь. Вот так всегда: смотришь больного сквозь сон, в полудреме, а в ординаторской сон пропадает! Поворочавшись, мысленно снова осматриваю избитого мужика. А не слишком ли он напрягает живот? Вздохнув, поднимаюсь, иду к нему снова.
– Подыши… Здесь не больно? А здесь?
Да нет, я напрасно тревожился: живот спокойный.
На часах половина третьего. Ложусь, закрываю глаза. Падаю в черную яму забвенья – и тотчас, откуда-то сверху, доносится голос:
– В приемное!
О, господи… Снова сажусь, но никак не могу понять: где же я? Зачем этот бледный свет ночных окон, зачем эти темные глыбы окружают меня и как разжать лапу тоски, сдавившую сердце? Сомнамбулически двигаюсь к двери, но в душе остается недоумение: зачем это все? И куда я иду? Путь в приемное кажется долгим, почти бесконечным. Наверное, нет в моей жизни дорог тяжелее, чем эти вот сорок шагов по больничному коридору и затем вниз, по ступеням ночной черной лестницы. Ночь бесконечна, но так тесна, что трудно дышать в ее мертвых пространствах. Словно щелочь, она разъедает тебя – кажется, ты растворишься еще до того, как достигнешь конца коридора…
Первое, о чем думаешь, подходя к приемному: «Только б не травма, только бы не оперировать!» Но сестра, как нарочно, встречает тебя возбужденным, испуганным возгласом:
– Доктор, у нас ножевое ранение!
…Из операционной выходишь, когда уже рассвело. Усталость в эти часы принимает характер болезненной бодрости. Словно уголь жжет изнутри; а если пройти мимо зеркала, то увидишь лицо, в первый миг незнакомое: бледное, постаревшее лет на десять и с лихорадочным блеском в глазах…
Покидаю больницу, как человек, который вышел на волю после долгого заточения. Хорошо и легко, несмотря на усталость.
Не зайти ли на рынок? Люблю бывать здесь после дежурства. Входишь в пестрое многоголосье, как будто пускаешься плыть в водах сильной реки. Потоки людей разливаются между торговых рядов, то завихряются водоворотами, то растекаются, словно перед запрудой, – а ты, отдавшись теченью, плывешь в этих шумных потоках.
Когда смотришь под купол, где в рассеянном свете перелетают тяжелые голуби и снуют воробьи, голова начинает кружиться. Кажется, что находишься внутри огромного гулкого шара, который летит неизвестно куда. Так ничтожен, так тонок людской копошащийся слой – то живое зерно, что течет по дну колоссального закрома, – и так торжественно, гулко пространство над головами…
Бреду по корейскому ряду. Узкоглазые лица, как луны, висят над холмами загадочной снеди. Что за странные космы, пучки и волокна свисают с протянутых вилок? Певучая, детская речь раздается в азиатском ряду. Космы огненно-рыжей моркови, лепешки грибов, серебристые волосы рисовых нитей – все соблазняет. Не в силах противиться искушению, кладешь на язык прядь моркови. Кажется: тысяча змей укусили в гортань!
Отдышавшись и отерев слезы с глаз, вливаюсь в иные – родные и близкие – берега. Здесь старушки торгуют капустой, грибами, вареньем. Прочитав сотни книг и пройдя по десятку музеев, не узнаешь, насколько ж ты русский, как здесь, среди тазиков с кислой капустой, кадушек с солеными огурцами и разнокалиберных банок с вареньем, стоящих шеренгами, словно матрешки. Ну-ка, ну-ка, попробую… Хватаю щепотью капусту, кладу в рот, утираю сок с бороды.
– Как, сынок, нравится?
– Нравится, бабушка. И почем же она у тебя?
После капусты хочется есть. Что ж, пройдем по обжорному ряду. Слева лотки с пирожками, справа снежные россыпи творога, банки сметаны, бидоны с топленым или сырым молоком. Каких взять пирожков? Пожалуй, с картошкой: от них еще поднимается пар. Топленое молоко тоже теплое, подгорелая рыжая пенка плавает в кружке.
Отдежурив, я заслужил эту трапезу. И больше того, заслужил право общаться, беседовать с миром, отвечать – или, может быть, не отвечать – на вопросы, которые он задает. Утренний рынок, весь его гомон и пестрое многолюдье – для меня это высшая из наград за дежурство. И даже усталость несу я сейчас с удовольствием: она словно мой пропуск в мир, мое разрешение быть и смотреть в глаза людям. Я наконец вышел в мир, я прорвался; именно к этому, к этой вот цели и этой минуте, я шел все дежурные долгие сутки, а может, и целую жизнь.
Рядом со мною пьет пиво опухший, оборванный, грязный мужик. Он только что, суетясь, помогал разгружать ящики и заработал себе на опохмелку. И я вдруг увидел в лице алкаша выражение, близкое мне самому. Это было блаженство короткого примирения с миром, и нарушала его только мысль о непрочности, краткости этой минуты. Бомж, как и я, заслужил право смотреть в глаза жизни, не чувствовать горькой своей отлученности от бытия…
И так мы стояли с ним, два калифа на час: он с бутылкою пива, я с кружкой топленого молока, – а рынок гудел и клубился вокруг, и купол его, как надувшийся парус, куда-то летел, оставаясь на месте…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































