Текст книги "Дом, дорога, река"
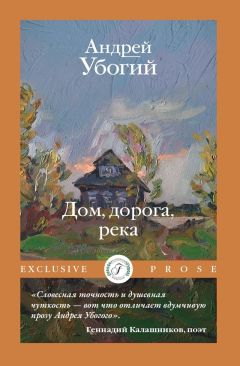
Автор книги: Андрей Убогий
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)
II
Переселения нашей семьи продолжались. Из Ахлебинино мы переехали ближе к Калуге, в пригородную деревню Бушмановка. Здесь мы живем уже тридцать лет.
Таких деревень больше нет в целом свете. Тут расположена крупная психбольница: Бушмановка стоит как бы на водоразделе между безумием и нормальною жизнью. В обе пропасти – в быт или в бред – отсюда, что называется, рукою подать.
Редко где чувствуешь столь домовитый и прочный уклад, как у здешних хозяев, и мало где собрано столько безумных, мятущихся душ, как за серыми стенами здешней больницы. Над Бушмановкой дует незримый сквозняк, здесь кипит неуемная плазма безумия. Может быть, потому так прочны на деревне дома и ухожены огороды, что иначе не выжить, не выстоять на пугающих этих ветрах? Больные кричат и трясут кулаками – они, словно ветхозаветные старцы-пророки, хотят потрясти и разрушить привычный всем мир, но на деревне упорно стучат молотки, визжат пилы, не затихает ремонт бытия – и мир, как ни странно, пока что стоит, и жизнь, как ни странно, пока продолжается.
До сих пор не сказать, кто же мы: город или деревня? До недавнего времени нас считали деревней Турынинского сельсовета, Ферзиковского района. Теперь же нас приписали к Калуге, и мы горожане. Но крик петухов или блеянье коз нам привычнее шума моторов. В зной на асфальтовых улицах сушится сено; майская пена цветущих садов заливает дома.
А с другой стороны, до центра Калуги отсюда пешком минут тридцать. В тихие ночи слышны переговоры диспетчеров на железнодорожном вокзале. «Маневровый – на третий путь!» – кричат они где-то вдали. Или: «Машинист Петраков, срочно зайдите к диспетчеру!» И в ночи раздается томительный гул и перестук набирающих ход поездов…
Когда мы приехали на Бушмановку, я был отдан в детсад. Меня привели туда хмурым утром. Пахло, помнится, хлоркой и рисовой кашей. Дети отчего-то сидели в темной комнате; воспитательница повернула меня лицом к темноте и сказала: «Вот, дети, наш новый мальчик Андрюша. Не обижайте его». И я сразу понял: здесь будет плохо.
Действительно, в садике было несладко. Не то чтобы меня донимали, дразнили – все это было во вполне допустимых пределах. Но словно невидимый дым – чад тоски, несвободы, – висел во всех комнатах детского сада. Я остро переживал ненормальность своего пребывания здесь. Ведь «сад» – это то, что посажено, сделано некою чуждою волей, а не выросло само по себе. Сад, детский сад, посадить, посадили – «Садитесь, пожалуйста!» – «Нет уж, спасибо, свое отсидел!» – всё мучилось на какой-то занозе, которую некто воткнул в жизнь. Я-то хотел настоящего сада, с деревьями, птицами и цветами, а меня заперли под присмотром чужой толстой тетки в несвежем халате, окружили толпою галдящих назойливых сверстников и превратили всю жизнь в ожидание: когда же придет, заберет меня мама?
Но не об этом хотел я сейчас рассказать, а о том, как впервые шагал я в колонне. Нас, детей, выстроив парами, повели на прививку в медпункт. Был весенний сияющий день – снег и лужи горели под мартовским солнцем, – а наша колонна брела вдоль разъезженной грязной дороги. Деревня Бушмановка была по-весеннему шумной: звенела капель, собаки сходили с ума за заборами, гулили над лужами голуби, хрипло горланили петухи – мы были оглушены изобилием солнца и звуков.
Странно было идти внутри тесной колонны. Понемногу я терял ощущенье себя самого. Эти близкие спины и лица, между которыми я, растерявшись, шагал, качаясь и двигаясь, как жернова, словно перетирали мое одиночество. Когда, например, те, кто шли впереди, начинали перепрыгивать ручеек, казалось, что это я сам, мое многоногое тело перебрасывает через промоину одно свое сочленение за другим. Меня больше не было – был слитный поток, любая частица которого мало что значила сама по себе, но зато сама была этим потоком, несла в себе его силу. Кажется, если б я шел один, я бы так не запомнил тот день, его запахи, звуки, и яркие вспышки капели, и сочную грязь под ногами – мне б не хватило ни зренья, ни слуха, чтоб воспринять разноцветье и разноголосье весны. Но теперь я владел как бы множеством глаз, и слух мой был многократно усилен.
Шагали мы, кажется, целую вечность. Но вот изголовье колонны – то есть как бы я сам – взошло на крыльцо медпункта. В амбулатории пахло лекарствами, свежей побелкой, топившейся печью. Стеклянные шкафчики с разными в них пузыречками вызывали любопытство и страх. Но боялся я не прививки, а только того, что своим поведением вызову общее неодобрение или насмешку: страх оплошать перед лицом коллектива был сильнее всего.
Вот краснощекая пухлая «фершалка» быстро протерла мне спину холодною мокрою ватой – запахло спиртом, – напрягшись, я ощутил под лопаткою слева несильный укол и тут же почувствовал гордость оттого, что сдержался, не вскрикнул. А «фершалка» уже ухватила другого притихшего мальчика.
На обратном пути воспитательницы уже не с таким рвением поддерживали порядок – может быть, чувствуя, что теперь мы привиты, мы стали другими, и теперь «коллективное» значит для нас много больше, чем «личное»…
Детство всегда неизбывно-трагично – его трагедии вечны, как сказано кем-то, – и в этих трагедиях путь нашей жизни завязан в какие-то словно узлы. Всю жизнь потом пробуешь их развязать, точнее сказать, на попытки распутать эти узлы и уходит вся жизнь.
Когда моя память скользит по незримо натянутым нитям, все глубже и глубже в далекие детские годы, она утыкается в те болевые, саднящие точки. Вот помню тихий семейный вечер. Я сидел на диване с книжкой в руках. Отец читал; мама, кажется, шила. И я неожиданно закапризничал: то ли хотел, чтобы мне почитали, то ли, как это часто бывает с детьми, хотел обратить на себя внимание. Захныкав, я бросил на пол свою яркую книжечку, она залетела под шкаф. «Папа, достань, подними!» – заканючил я, требуя, чтобы именно он, прервав чтение, достал книжку. «Юра, ну что же ты? Подними…» – с укоризной сказала мама. Отец, пожимая плечами – видимо, сдерживая раздражение, – встал, нагнулся, пошарил рукою под шкафом и вытащил книжку.
И вот тут я совершил диковатый, но, в сущности, объяснимый поступок. Радостный оттого, что мою просьбу исполнили, и желая продлить, закрепить эту радость, я снова швырнул книжку на пол. Отец разозлился. Лицо его окаменело; он быстро нагнулся, схватил злополучную книжку – и с треском порвал ее пополам!
…Более страшных секунд – пусть поверит читатель, – в моей жизни не было. Я закричал так отчаянно, горько, как будто не книжка порвалась, но треснуло вдруг мое сердце. Мир почернел. Отец, который до этой секунды был для меня божеством, оказался не милосерден, а всего-то лишь навсего справедлив…
Если изгнанье из рая переживает любой человек, то этот вот случай с разорванной книгой и был моим низвержением. Из мира полного, целокупно-благого я рухнул в ущербный, «разорванный» мир. И всю свою жизнь, все тридцать лет, что прошли с той далекой – и так мучительно-близкой! – минуты, я, по сути, стремлюсь к одному: я надеюсь усильем души возвратиться в потерянный рай, в мир, где книжка была еще целой. Желание это, при всей его странности и невыполнимости, есть, я уверен, высшее из моих устремлений. Ведь если я помню тот «неразорванный» мир, значит, он существует; но он отгорожен от нас нашим собственным несовершенством.
А уж если нельзя возвратиться, то, быть может, двигаясь дальше по жизненному пути, возможно найти тот потерянный рай, обрести его где-то там, впереди? Если уж не вернуться к той, неразорванной книге, тогда, может быть, написать ее самому?
А всего через несколько дней рухнул и бастион справедливости.
В одном доме с нами жила Ксения Арефьевна, пожилая суровая женщина. Ее крестьянски-простое лицо всегда несло гневную мысль, и никто не мог выдержать фанатично-прямого, тяжелого взгляда.
Как-то она грозным голосом подозвала меня. Я доверчиво подошел. Арефьевна, ухватив меня за плечо, сурово спросила:
– Ты зачем мое белье выпачкал?
Я оцепенел и не знал, что ответить. Потом догадался: кто-то, играя под развешенным выстиранным бельем, сдернул его на землю.
– Это нея, – ответил я тихо.
– Как не ты? – заревела соседка. – Как не ты?! Я же своими глазами видела!
Арефьевна не допускала не только чьих-либо, но и собственных сомнений в своей правоте.
Услышав мой плач, вышла мама. Соседка, крича, как раскольница перед сожжением, повторила свои обвинения. И мама смутилась. Конечно, душою она была за меня, и слышать мой плач ей было невыносимо; но напор разъяренной старухи был так силен, что мама отчасти поверила лжи. Пытаясь сначала утихомирить Арефьевну – мол, не нарочно же он! – она потом стала кричать:
– Да уймитесь вы, постираю я ваше белье!
Каково было это услышать?! Сначала клеветой был унижен я сам; а сейчас перед этой старухой унижалась уже моя мама… Ей-богу, я ждал тогда чуда, вмешательства свыше – плача, так и закидывал голову, так и смотрел в пасмурно-низкое небо, – не может же, думал я, быть, чтобы за несправедливостью осталось последнее слово?!
Чуда конечно же не случилось. Мать увела меня, плачущего, домой; Арефьевна удалилась с чувством собственного достоинства; тот неизвестный мальчик, из-за которого разгорелся сыр-бор, продолжал где-то бегать, шалить – жизнь шла своим чередом. А я, безутешно рыдая, оплакивал даже не столько себя – хоть обида была велика! – но оплакивал мир, оказавшийся неспособным даже и на справедливость…
Конечно, детство мое состояло не из одних только слез. Новый мир, мир деревни Бушмановка – моей родины номер два, – с каждым днем открывался с новых сторон. Я узнавал дом, окружение дома, магазин и больницу, деревню, овраг – круги моей жизни становились все шире. И все новые тропы, дороги манили меня.
Через дорогу от дома, метрах всего в тридцати, рос заброшенный сад: «дикарка», любимое место для игр. Тем удивителен был этот сад, что состоял почти из одних только груш. Кто, когда и зачем произвел такой садоводческий эксперимент – груши в здешних краях растут плохо, – так и осталось загадкой. Груш было не менее двадцати. Большинство одичали и рожали мельчайшие, вяжуще-едкие, каменно-твердые грушки. На двух всего грушенках плоды росли сладкие, и уже с середины лета мы, дети, начинали охоту за ними. Мы обтрясали деревья, искали упавшие груши в траве, мы пытались сбивать их камнями и палками. Очень скоро оставалось висеть всего несколько сладких плодов: они зрели на самых вершинах, купаясь в небесной сини.
А из множества игр, что мы затевали в дикарке, запомнились игры в индейцев. Индейское было в них только одно: изобилие перьев. Насобирав их по улицам нашей деревни, мы спешили в дикарку, набивали карманы грушами, выламывали по гибкому хлысту – и начинали сражения! Воткнув перо в грушу, надо было насадить ее на пруток и широким, свистящим замахом запустить оперенною грушей в противника. Ух, с каким трепетом, свистом летел снаряд! Темный конус вращавшегося пера сначала был узким, потом раскрывался шире – и по мере того, как полет замедлялся, обороты пера уже становились видны. Наконец, исчерпав свой разгон, груша, как вертолет, вертикально спускалась на траву. Уже и не думая о поражении цели, зачарованно мы наблюдали полеты вращавшихся, мягко гудящих, трепещущих перьями груш. Какой странный гибрид – сочетание птицы и груши, – возникал в наших играх…
Всего же лучше в дикарке было в дни бабьего лета. Под ясным, нежарким солнцем листва груш желтела, краснела, темнела. Прозрачным, сквозным становилось пространство. Опавшие груши лежали местами так густо, что мы оскользались и падали. Винный дух забродивших плодов кружил голову. Груши, лежавшие в поредевшей, истоптанной жухлой траве, испускали коричневый сок – они будто плакали, провожая ушедшее лето. Я бродил по дикарке, рассеянно трогал стволы, поднимал помягчевшие груши. Они сейчас все, даже самые терпкие, были вкусны: полусопревшая мякоть становилась коричневой, сладкой, зернистой.
Над палыми грушами вились последние осы уже уходящего лета. Они торопились перед зимой насытиться сладким сиропом. Осы гудели, и вились, и ползали по истлевающим грушам – их дрожащие нервные усики, лихорадочно что-то ища, трогали мякоть плодов, – а я с любопытством и смутною болью следил за их напряженною суетой. Печать уходящего лета, и страх с ним расстаться, и как бы попытка его задержать – вот что было в возне суетящихся ос. Я сочувствовал им: их сухая тревога и нервная дрожь была так понятна…
Еще приходилось ходить в магазин. Он помещался – поверьте на слово – в одном здании с моргом. Но к этому здесь, на Бушмановке, относились спокойно, как и к тому, что в магазинной очереди всегда вперемешку стояли деревенские жители и душевнобольные.
Путь в магазин лежал между котлованами стройки – со временем здесь возвели мастерские – и огородами. Бывало, бежишь по бетонной дороге с кошелкой в руке, бубнишь, как стихи, материнский заказ: «Батон, половину черного, два молока!» – и волна любопытства и страха проносит тебя мимо низкой, железом окованной двери и мутного маленького окошка. Вдруг, думаешь, там, в морге, лежит кто-нибудь?
По-настоящему страшно не было: ребенком не воспринимаешь телесную сторону смерти. Мертвое тело кажется просто предметом в ряду остальных. Помню, повесилась на заборе больная – мы, дети, побежали смотреть. Бежал – было страшно; кулем же висящее, подогнувшее ноги недвижное тело как-то разочаровало. И глаза машинально искали чего-то иного – наверное, той самой смерти, увидеть которую мы так спешили. Но ее, смерти, не было. Был пустой, облетающий парк, шорох листвы под ногами, ветер и низкое небо, забор и бесформенный темный мешок на заборе, он вызывал чувств не больше, чем вороха облетевшей листвы. Может быть, это детское равнодушие к смерти есть мудрейшее из возможных к ней отношений?
Но не забыть: я бегу в магазин. Вскочив на крыльцо, открываю тяжелую дверь и встаю как раз в хвост сонной очереди.
Никогда и нигде не испытывал я столь глубокого чувства покоя, как в очереди бушмановского магазина. Время вдруг прекращало свой ход, и все погружалось в глубокую дрему. Лица, и голоса, и рассеянный свет зарешеченных окон, и мухи, прилипшие к длинной коричневой ленте, куртки больных, телогрейки здоровых – все попадало под чары загадочного колдовства. Очередь двигалась неторопливо: казалось, не хватит и жизни, чтоб доползти до витрины, а потом, повернув, тихо шаркая вдоль нее, привставая на цыпочки, робко выглядывая из-за спин, наконец-то приблизиться к продавщице…
Очередь – это был тоже путь, долгое шествие к свету витрины, к ее пустынно-обманчивому сиянью. Холодный, порой трепыхавшийся свет за наклонным стеклом завораживал. Оцепенев, ты рассматривал пирамиды консервов и призмы молочных пакетов, широкие вазочки с ломким печеньем – было два сорта: «Сахарное» и «К чаю», – крошащийся маргарин, кофейный напиток «Кубань» с нарисованным всадником… Но тебе и всем людям, чьи взгляды прикованы были к витрине, хотелось чего-то иного – того несказанного, что сулил этот бледный трепещущий свет. Особенно взгляды больных, их бубнящие речи выражали невнятную эту тоску ожидания…
Снова и снова, уже в сотый раз, ты разглядывал горки халвы на промасленной серой бумаге, полулитровые банки с перлового кашей, венгерское сало со странным названием «шпиг», пластины которого были посыпаны ядовитою красною пылью, смотрел, как лежат серебристые сельди в крепчайшем рассоле, как рыбьи выпученные глаза куда-то бесстрастно глядят мимо нас. Там, за стеклом, жила словно вечность, и лица притихших людей озарял синеватый и призрачный свет. За сиянием магазинной витрины ты угадывал сонную мощь, неподвижную силу эпохи – силу, которой так не хватало тебе самому…
Пришло время вспомнить о первой, осознанной мною болезни. Это тоже, по сути, дорога: в каких только странных и недоступных здоровью пространствах не приходится побывать заболевшему. Но начну я с рассказа о первом грехопадении. Эти события – грех и болезнь – так тесно связаны, что не будь первого, не случилось бы, может быть, и второго.
Нас, деток, выгуливали во дворе детсада. День был серый, и мокрый забор, окружавший детсадовский двор, казался особенно мрачным. Единственным развлечением были качели: тяжелое темно-зеленое сооружение, которое с мерным скрипом раскачивалось в центре двора. Это был словно маятник колоссальных часов: каждый взмах деревянной платформы подталкивал время, вытесняя нас, деток, во взрослую жизнь.
А мы пытались вскочить на размахавшиеся качели. Мне, неловкому, это не удавалось. И я, разозлившись, подхватил с земли валявшееся ведерко, ярко-зеленое, новое, с цветочком на глянцево-мокром боку, и швырнул им в качели. Платформа как раз отшатнулась, ведерко упало на землю – и через миг вся тяжелая туша качелей, смыкаясь с землей наподобие пасти, с хрустом смяла ведерко и отшвырнула его обратно к моим ногам! Оцепенев, я рассматривал жестяной искореженный блин.
Дети запрыгали возле меня, как арлекины. «Ага! – возбужденно, злорадно кричали они. – Поломал, поломал! Все будет рассказано…»
И я струсил. Растерявшись, униженно начал просить: «Ну не надо, не говорите…» Во взглядах детей появилось презренье и радость. Людей, увы, радует слабость ближнего: она оправдывает наше собственное несовершенство. И рыжий Богатиков снисходительно мне обещал: «Да ладно, не бойся, не скажем…»
Жизнь милосердно давала мне шанс покаяния. Подошла воспитательница, толкнула ногой исковерканное ведро и спросила: «Кто это сделал?» Дети молчали и хитро посматривали на меня. В моей душе происходила мучительная борьба. Если бы пауза продлилась еще две-три секунды или если бы воспитательница остановила на мне свой рассеянный взгляд, я бы признался. Но воспитательница зевнула, глянула на часы и ушла. Я был спасен – и погиб…
Тем же вечером я заболел. Как нарочно, мама долго не приходила. Я сидел на ковре, в опустевшей притихнувшей зале; словно жаркое облако накрывало меня. Все предметы вокруг как-то распухли – стол, стулья, игрушки, разбросанные по ковру, – и все угрожающе медленно пододвигалось, давило, хотело что-то ужасное сделать со мною…
Даже появление мамы не принесло облегчения. Становилось все хуже, теснее и жарче. Помню, как мама несла меня в темноте. Мне, отвыкшему от ношения на руках, было стыдно, и я нарочно стонал, чтобы показать, как мне плохо.
Затем наступает провал. Зато помню, как я очнулся. В комнате горел слабый свет. Мама сидела возле кровати: я хоть и не видел ее, но точно знал, что она рядом. Слабость была так велика, что я не мог повернуться и долго разглядывал стену. Коричневатый рисунок обоев, морщины и пятна – все это жило особенной жизнью. Наверное, это были отголоски отпускавшей меня лихорадки: рисунок стены шевелился, и я равнодушно следил за игрою причудливых арабесок. Спустя какое-то время я уже смог повернуться и что-то сказал слабым голосом. Мама, измученная не менее моего, тотчас вскочила и напоила меня чем-то теплым.
И вот тут память дарит странное воспоминание. Из-за сильного жара я был прикрыт лишь одной простынею. Я сбросил ее и, как что-то чужое и незнакомое, стал разглядывать свое тело. Особенно я удивился пупку, этой вмятине посередине впалого живота. С изумлением и почти что со страхом разглядывал я его. Неужели я чувствовал, что именно здесь скрыта память о первородном грехе, об ущербе, о падшести человека? Ведь пупок – это след пуповины, это память о том, что мы рождены не в раю, а на грешной земле; а раз мы рождены, значит, смертны…
Смешно и стыдно сказать, но дело дошло до истерики. Я плакал, кричал: «Почему? Почему у меня вот это?!» Мама, бедная, уж и не знала, как меня успокоить. Среди прочих испуганно-беспорядочных слов она, помню, сказала: «Ну что же ты плачешь? Вот и у папы есть точно такой же». Я не поверил. Мама позвала отца: «Покажи!» Он, не понимающий толком, в чем дело, заголил свой живот.
И я успокоился. То, что отец – самый сильный и умный и уважаемый мной человек – тоже имеет выбоину на теле, примирило меня со своей горькой участью. «Уж если и он такой же, – думал я, засыпая, – ну, тогда еще ладно…»
Мы, бушмановские, жители приовражья. За миллионы лет речка Киевка промыла живописнейшую долину, и люди охотно селились на ее берегах. Тридцать лет назад судьба и нас с родителями привела на склоны бушмановского оврага.
В первые годы разлуки с любимою курской землей я тосковал и никак не мог свыкнуться с новым местом. Но овраг меня выручил, исцелил. Когда жарким днем я спускался в него, кузнечики прыскали из-под ног, и гудели шмели, и небесная синь опускалась так низко, что ветви берез тонули в ней, словно в воде, – тогда мне казалось, что я возвращаюсь на родину. Я бежал по тропе между склонов оврага, становясь понемногу опять сам собою. Думалось, пробегу еще пять-шесть шагов – и увижу бабушкин дом, нижний плант, огороды, подбегу к срубу Нинкиного колодца, и моя голова отразится на зыбкой, мерцающей пленке воды…
Овраг возвращал меня в рай. Я любил прибегать на обрыв, на крутую охряную осыпь, и прыгать в песок, а потом, уцепившись за корни, взбираться обратно. Как заведенный, я снова и снова взлетал над сухой, завернувшейся кромкой обрыва, и падал на склон, и сползал вместе с пыльной лавиной песка, может надеясь в один из прыжков не упасть, а взлететь, словно птица?
А сколько ос жило здесь, на песчаном обрыве, и сколько часов зачарованно я наблюдал, как без устали роют они свои норки! Звон их прозрачных эльфических крыльев непрерывно дрожал над горячим песком…
Овраг был полон загадок – и слава Богу, что ни одной из них я до сих пор не сумел разгадать. Загадкой был, прежде всего, сам ручей – то болотисто-сонный, то быстрый, то мутный в паводок или ненастье, то пустой, а то полный мелькающих рыбок, волнистых пиявок, личинок стрекоз, водомерок, вертячек. Летом, теряясь в высокой траве, в непролазной крапивной уреме, осенью он становился отчетливо виден в оголившихся, пестрых, прихваченных инеем берегах. Зимой ручей нес лыжню, лишь на быстрых участках, промоинах она выбиралась на берег и петляла меж кочек, кустов, а потом вновь сбегала на ровный, присыпанный снегом ледок.
Весной же ручей становился рекою. Подзатопленный бурый лозняк, прогибаясь, упругими прутьями резал тяжелую воду; грязная пена, лохмотья травы неслись в мутном потоке.
На перекатах ручья я не раз находил известняковые окаменелости. Это были обломки далеких, пропавших миров: эти серые завитки, отпечатки ракушек, какие-то словно свирели – точнее, органы – из склеенных трубок. Ручей, разрывая пласты, напоминал земле ее прошлое, о котором она и сама позабыла…
Еще был в овраге тоннель. (Прошедшее время – условность рассказа; тоннель, к счастью, цел до сих пор.) Это сооружение дошло к нам как будто из римских имперских времен. О том, кто и когда его строил, сведения разноречивы. Одни говорят, что немецкие пленные после войны; другие же утверждают, что строилось это архитектурное чудо еще до войны, руками родных наших зэков. Но ясно, что только империя, щедрая на рабочую силу, могла, пропуская ручей сквозь насыпь железной дороги, выложить из камней высоченный и гулкий, торжественный арочный свод.
Огромные блоки гранита уложены были так плотно, что не просунуть меж ними ножа. Ручей широко разливался внизу, по цементному ложу. За многие годы его так изъела вода, что ложе казалось естественной насыпью камня. По высокому своду качалась сеть бликов – отражения зыби ручья.
Мальчишкой я с замиранием сердца входил под гранитный свод. Пространство здесь было богаче, сложнее, таинственней, чем снаружи – к нему добавлялось еще одно измерение, измерение эха. Крикнешь – воздух толкнется о влажные стены и вернет тебе твой же собственный голос, но только уже долетевший как будто из вечности… Мурашки бежали от гулкой, загадочной той переклички.
В арку тоннеля ты видел кусты ивняка, склон оврага, полоску синевшего неба. И поскольку все было вставлено в полукруглую рамку – как на картине старинного итальянского мастера, – все казалось прекрасней, чем было в реальности.
А если, пройдя сквозь тоннель – приходилось, держа равновесие, перепрыгивать с камня на камень, – спуститься вниз по ручью, пробраться в зарослях черной ольхи, то ты натыкался на камень. Ледниковый валун, на две трети утопленный в землю, он был камнем камней, краеугольной бушмановской глыбой. Черный, как ночь, как великий Кааба – святыня ислама, – год за годом он погружался все глубже, и все неразборчивей была надпись, какие-то буквы и цифры на его исполинском задумчивом лбу. Чья десница рубила слова? На каком языке свершена та неясная запись? Бушмановские старики вспоминали, как детьми они загорали на теле громадного камня и как безуспешно пытались прочесть письмена; мы, дети, ловили рыбешек вблизи черной глыбы и тоже пытались читать – конечно же безрезультатно. Видно, забыт тот язык, письмена замолчали – но отчего же душа так старается вспомнить его, так надеется все же узнать смысл таинственных этих посланий?
Главные наши дороги – те, по которым проходит душа. Путь как движенье души, как ее пробуждение к смыслу – только это, по сути, имеет значение. Удивительно, правда, и то, что перемены души часто связаны с перемещеньем в пространстве. Суть путешествия в том особенном потеплении взгляда, каким путешественник смотрит вокруг. Мир вдруг становится бесконечно глубок, интересен, подробен, будто нам протирают глаза и пыль повседневности больше не застит взора.
Такое же действие производят и книги, пишешь ли сам, или вчитываешься в чужое. Только первое напоминает движение по бездорожью, в нехоженой чаще, а во втором случае, двигаясь вслед за автором, идешь по уже проторенной тропе.
В детстве читал я немного, но кое-что из прочитанного оставило глубокий след. Наверное, дело не столько в достоинствах книг самих по себе, сколько в детской готовности отозваться, пойти вслед за ними. Таких вот особенных книг я помню две: «Жизнь насекомых» Фабра и книгу норвежской писательницы Туве Янссон «Муми-тролль и комета». Над этой последней, когда спустя тридцать лет я ее перечитывал сыну, мне едва не пришлось прослезиться. К тому же сюжет этой книги – дорога. Сказочные существа, населяющие страницы, куда-то бредут, то заблудятся, то остановятся на привал и разведут костерок, то встретятся с кем-нибудь еще более несуразно-смешным, чем они сами.
И есть в этой книжке один удивительный образ: «таинственный путь». Он даже там нарисован: аллея из плотно стоящих деревьев, сомкнувшихся кронами, с тропинкой, прыгающей по древесным корням. Не знаю, чем так покорил меня этот рисунок, но едва мне случалось увидеть нечто подобное, уводящее в тень, в неизвестность – как что-то всегда отзывалось в душе. И было отрадно осознавать, что таинственный путь существует, что я, если вдруг захочу, могу ступить на него. Как я сейчас понимаю, это детское чувство было томленьем по чуду – по тому несказанно-неясному, что выводит за рамки реальности.
Всем дорогам и тропам, которыми мне доводилось шагать, я неосознанно задавал тот же самый вопрос: может, это и есть он, таинственный путь? И были дороги, очень похожие на него. Помню проулок на родине, в Выгорном, – дорогу от нижнего планта на верхний – манящий, загадочный сумрак под сводом акаций… Помню путь до колодца и дальше, в речную урему: черная торфяная тропа влажно пружинила под ногами, и с каждым шагом вокруг становилось таинственней, сумрачней, глуше… Помню, как в мареве зноя куда-то вела полевая дорога, как длинная, в четверть, стерня ослепительно-ярко горела на солнце, как кобчик, дрожа, зависал над жнивьем и как в этой пыльной, ползущей со взгорка на взгорок дороге тоже была сокровенная мысль, и дрожь марева над косогором передавала все напряжение, всю глубину и тоску той таинственной мысли…
Но самой таинственной, самой влекущей и самой похожей на тот нарисованный сказочный путь остается дорога над речкой Калужкой.
Долина реки глубока, и поэтому здесь, внизу, всегда тихо. Крутой склон зарос дубняком, а ниже, к реке, ежевикой, черемухой, ломкою ивой. Тропа то выводит к журчащему перекату, то тянется по-над плесом, то теряется в кочках, кротовинах луга.
Зимой, если день солнечный, синева омывает вершины дубов. Небо будто течет, оплывает по веткам, а в вышине реют черные вороны. У них как раз пора брачных игр: птицы попарно кружат, кувыркаются в небе, и их горловой влажный крик – «Кр-рак! Кр-рак!» – звучит, как ворчанье далекой грозы.
Хорош этот путь и весною, когда зацветает черемуха. Выше по склону дубы только-только готовятся выбросить лист, а внизу, у реки, зелень уже загустела. Дорога ныряет в чащобу, под арку из юных, склонившихся гибко стволов. Голова начинает кружиться. Дурманящий запах черемухи плывет, как густое вино. Он так сладок, так нежно-порочен, что даже становится стыдно, словно ты виноват уже тем, что вдохнул этих чар… А тут еще и соловей вдруг с оттягом хлестает тебя, бьет навылет зарядом зернистой, отчетливой дроби!
Но ты, как ни странно, останешься жив – и еще встретишь лето. И пройдешь по таинственному пути в самый зной, в середине июля. До Калужки идти напрямик километра четыре; голова уж гудит от шаганья по зною, по пыли, под солнцем. И, как бывает в полуденном пекле, душа начинает томиться. «Зачем это все?» – вопрошает она. Зачем эта пыль, этот зной, зачем я иду по дороге, зачем вообще я живу? Кажется, если вдруг я сгорю в этом пекле, то миру и мне станет легче. Тогда уже некому будет почувствовать зной и страдать от него, тогда все сравняется, воды сольются, и странник вернется домой, в породившее лоно…
И такой вот, измученный, я спускаюсь в долину Калужки. Река, ее свежесть, ажурная тень серебристых ракит и заливистый звон переката – все это сразу несет облегчение, сулит вернуть жизни утерянный смысл. Иду вверх по реке, по медовой от запахов пойме. Уже приближается путь. Вот он, заветный, заманчивый сумрак. С первых шагов в остро пахнущей, влажной черемуховой тени ты приходишь в сознание. Дорога здесь будто нарублена поперечными полосами-брусами, шириною как раз в шаг коровы. Кажется, траки гусениц гигантского трактора отпечатались здесь. Слева и справа – чащоба, сплетенная зелень, в которой всегда кто-то дышит, шуршит и взлетает. Иглы солнца пронзают лиственный свод, втыкаются в землю, и дым испарений курится в тех солнечных, передвигаемых ветром столбах…
Вот наконец и родник! Стеклянный, бугристый поток вырывается из-под юных дубов, словно и не вода, а искрящийся свет льется по каменной россыпи и отражается на дубовой листве. Ключ журчит звонко, заливисто, радуясь встрече. Ты же, пав на колено – как подданный этой искрящейся влаги! – омываешь лицо ледяным, обжигающим, светлым сияньем…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































