Текст книги "Дом, дорога, река"
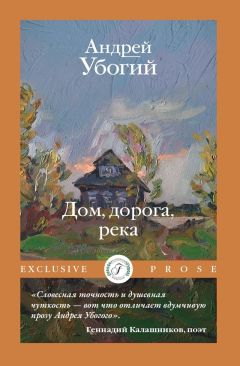
Автор книги: Андрей Убогий
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)
XIX. Обед
О том, что время обедать, говорила не стрелка часов и даже не солнце, зависнувшее в зените, но некое томление пустоты внутри мешало плыть дальше и заставляло высматривать место для остановки. На этот раз выбрали отмель в зарослях ивняка. Байдарка въехала носом в песок, и котелок с кружками загремел, покатившись к моим ногам.
Вышли на небольшой чистый пляжик. Непролазный ивняк его огораживал, и подступ был только с воды. Река стеклянными языками лениво выкатывалась на белый песок. Мы подтащили на берег байдарку, вынули чайник, мешок с едой и разбрелись в поисках дров.
Волнистый горячий песок под босыми ногами ломался, хрустел тончайшею ссохшейся коркой, а в глубине был прохладен. Сильно пахло ивовой листвой. Что-то родное, памятное из детства было в том запахе: в нём ощущалась печаль, но печаль лёгкая и какая-то вдохновенная…
Дров была уйма. Белый сухой плавник был разбросан по отмели и наполовину присыпан песком, и запутан в развилках кустов ивняка. Вымокавшие долго в воде, а затем высыхающие на солнце, эти коряжины, щепки и сучья были так чисты и легки, что рука сама тянулась их взять. Да еще и сухие пруты ивняка ты выламывал из кустов, и скоро на песке высилась куча дров.
Плавник горел бездымно и яростно, словно порох. Стоило кинуть белую, гладкую, костяную палку в костёр, как она мгновенно смуглела и вспыхивала. Словно избыток солнца, накопившийся в дереве, находил себе выход и вырывался наружу, оставляя на песке горку серого, легкого пепла. Дрова прогорали с неистовой и торопливою силой. Бледный огонь почти не был виден – казалось, чайник висит просто над ворохом сучьев, которые растворяются в неподвижном, звенящем воздухе полдня. От костра валил такой жар, что и в трех шагах стоять было трудно.
Ты садился на корточки и смотрел сквозь прозрачное, зыбкое марево над огнём. Кусты и коряги, и корпус байдарки, и поверхность реки, и дальний берег – всё дрожало и плавилось, будто огонь растворял не одни лишь дрова, но и весь окружающий мир.
Расстелив на песке брезент, доставали еду. Обед бывал прост: сало, хлеб, луковица. Но к простоте этой пищи зной словно некую делал добавку: еда, улежавшись в горячих пакетах, была горяча и пахуча. И, казалось, не просто шмат сала ты держал сейчас в пальцах, но сгусток жары, кусок вязкого зноя…
Тонкие ломти липли к ножу; крупины соли искрились на жёлтой, в бурых подпалинах, шкурке. Пластины сала мягко светились. Да, сало было что надо, и я не раз с благодарностью вспоминал ту старуху, у которой его покупал.
Хлеб, уже пересохший, крошился под ножом. Два толстых ломтя я осторожно отделил от последней буханки. Теперь луковица. Срезал ей донышко и верхушку, облупил пальцами золотистую сыпучую кожуру, и фиолетово-сахарный, влажный, резко пахнущий шар оказался в ладони. Луковица скрипела и брызгала под ножом, распадаясь на гладкие, сочные кольца.
Раскладывал по краюхе хлеба длинные ломти сала, пристраивал сверху пару колец лука. И всегда в этот миг волновался, даже и не от голода, но от какого-то, вдруг накатившего, счастья. Что-то полное, радостное и простое сейчас наполняло мир: эта жара, этот блеск, и ленивые всплески реки, и горячий под локтем песок, хлеб с луком и салом в подрагивающей ладони, и бледный огонь костерка – всё это было таким, каким может быть лишь в раю…
Потом вскипел чайник. Сухая заварка разбухала и поднималась над кипятком ноздреватою шапкой, затем медленно опускалась да дно. Рыжая пена показывалась из закопченного носика, падала с шорохом на горячий песок.
Закопчённая кружка с налипшим на донце песком дымилась, и взять её в руки было не так-то и просто. Приходилось, сдёрнув с головы шапочку, прихватывать горячую кружку через неё. Пил жадно, с сипением, с тяжкими вздохами, словно и не чаёвничал, а тащил по жаре тяжкий груз. И почему-то спешил: может, думал, что жажду, словно пожар, если упустишь момент, уже невозможно будет залить? На лбу пробивалась испарина, и капли пота щекотали виски. Но, высыхая, пот холодил лицо, и поэтому от горячего чая в жару всегда возникало блаженное чувство прохлады.
Чаинки кружились, всплывали, тонули в коричневом дымном настое. Чай был крепок, как дёготь: перед его сладковатою горечью отступала даже жара. Допивал жадно кружку, наливал ещё. Пил чай до седьмого пота, до того, что казалось: каждый глоток тут же проступает на лбу и висках в виде влаги, всё более жидкой, пустой, несолёной. Чай словно промывал тебя дочиста – до прозрачной, хмельной пустоты.
Наконец тяжело поднимался. Осоловевшие глаза уже плохо видели. Ты брёл, запинаясь, в кусты, в их ажурную тень, чтобы рухнуть ничком и забыться в тяжелой и нежной полуденной дрёме…
XX. Сон на песке
Отыскать место для сна было не так-то и просто. Ты забирался в самую гущу, но даже и здесь тень от узкой листвы ивняка была лёгкой, сквозной, ненадёжной. Сухая зелёная ящерка, шоркнув, метнулась в ногах, оставив на песке росчерк загадочной подписи.
Ты ложился ничком на песок и укладывал голову на руки. Перед тем как закрыть глаза, ещё видел перед собой осу: чёрно-жёлтую, с яйцекладом-иглой на качавшемся брюшке. Привставая, будто на цыпочках, оса то кружила над волнистым песком, то на миг останавливалась, и тогда становились видны прозрачные крылья над спинкой. Гудение этой осы было сложным, бодрящим и сонным одновременно, и тебя вновь пронзало острое ощущение счастья.
Потом оса, раскачивая гибким брюшком, стала бегать на быстрых, мелькающих лапках – видно, что-то искала, – а потом принялась зарываться в песок. То почти скрывалась в нём, то пятилась и вылезала и долго отряхивала, чистила лапками крылья и голову.
Что это было – уже сон или ещё реальность? Оса то казалась далёкой и маленькой, то вырастала до дивных размеров. Её усики нервно дрожали, касаясь песка, как дрожал и твой сонный взгляд. Ты засыпал, а она всё старалась зарыться поглубже в горячий песок…
…И наплывал густой, вязкий сон. Ты ещё слышал и плеск реки, и гул самолета в небе, и шелест ивовой листвы, но и что-то иное, нездешнее оживало в тебе.
Лица, которых ты сроду не видел, вдруг возникали перед тобой. Эти странные люди из сна говорили, ходили, смеялись, а потом отдалялись куда-то во тьму, чтоб потом возвратиться, но только иными. И было досадно, что ты их не узнаёшь и не можешь понять их речей, хотя твёрдо знаешь, что говорят они что-то важное…
А то ещё – вот удивительно! – возникал странный текст. Он полз нескончаемой лентой, откуда-то из темноты появляясь и в темноту исчезая. Ты был уверен, что ничего подобного ты никогда не читал. И торопливо бежал глазами по строчкам, удивляясь их складности. Порой даже слышался голос, который озвучивал этот загадочный текст: он читал ровно и твёрдо, ни разу не сбившись и опять пробуждая в тебе ощущение счастья. Вот что это было? И почему же, проснувшись, ты не помнил ни строчки, ни слова, а помнил лишь то, что этот текст был?
Иногда во сне наплывали воспоминания. Почти все они были из раннего детства: так, ты часто видел себя на берегу залитой солнцем реки. Наверное, это был тот самый день, когда мальчиком лет четырёх ты впервые увидел Оку.
Было то у села Ахлебинино. Перед тобою почти такая отмель, как та, на которой ты спишь, и кусты ивняка – не тогда ли ты и полюбил их сухой запах? – а ты, оглядываясь на отца, несмело заходишь в мелкую воду. Берег обычен – кусты, грязноватая кромка песка, чьи-то окурки, следы у воды и коровьи лепёшки, – но зато дальше, от самых ног, начинался как будто иной, полный воли и радости мир! Там были ветер и выплески волн, и упругий полёт белых чаек, и огромное, жидкое, солнцем залитое зеркало. Это сверкавшее зеркало было живым: оно дышало и двигалось, то приливало к твоим ногам, то отступало, и оно словно манило тебя. Ты ступал по воде осторожно, держа в руке прутик с привязанной ниткой – так, подражая отцу, ты ловил тогда рыбу, – эту нитку уносило, мотало течением, и никак не могло унести… Ты смотрел на это мотание нитки в реке, как заколдованный, быть может впервые тогда осознав, что теченье реки не имеет конца, никогда не прервётся и что река имеет связь и с твоей жизнью…
А потом бегал по отмели, брызгал водой и счастливо смеялся. Но, когда забегал чуть поглубже, повыше колен, то река осторожно, как бы невзначай, нажимала и увлекала тебя за собой… В тебе вспыхивал страх – он был так ярок и чист, что чем-то близок восторгу, – и ты со всех ног бежал к берегу. Успокоившись, снова бегал по отмели, разбрызгивал воду, поднимал со дна ракушки и камни и следил, как сверкают и прыскают под ногами мальки.
А вот река – видела ли тебя? Протекая сквозь земли, сквозь годы, неужели она замечала мальчишку, который вдруг выбежал на одну из её бесчисленных отмелей? Вот он возник, вот стремительно вырос и возмужал, вот постарел, потолстел, захромал, а потом вдруг и вовсе пропал… И куда утекло отражение мальчика – того, что когда-то, с ниткой на прутике, бегал по отмели, ошеломлённый сияньем, простором и силой реки? Ну, не может же быть, чтоб оно вовсе исчезло – зачем же тогда столько света и радости было в том солнечном дне, когда река увидела мальчика, а он встретил реку?
…Река всё текла и текла сквозь сияющий полдень, и чайки кричали, и ветер, вздымая волну, дробил солнечный блеск, и какие-то люди, визжа и смеясь, кидались купаться и выбегали обратно на берег, а река всё текла… Где-то на середине ударяла большая рыба, и восторженный мальчик кричал отцу: «Папа, смотри!» – а река текла…
XXI. Родник
Нy, наконец-то прошли этот мусорный и на редкость унылый отрезок реки! Минут сорок мы плыли в клубах серой пыли, висевших над бараками рабочего поселка. Этот поселок был знаменит своим цементным заводом и шпаной, наводившей панику на все окрестности.
Корпуса и трубы завода высились слева и были видны отовсюду. День, как назло, был безветрен: два шлейфа дыма, молочно-густых и тяжелых, вываливались из труб и распластывались по-над землею. Посёлок, кажется, задыхался в едкой цементной пыли.
Мы старались грести побыстрее, но дышать было трудно, в груди першило, и мы с товарищем то и дело закашливались. Пот, стекавший по лбу и щекам, был грязно-серого цвета.
Серыми были и берега, то есть, в буквальном смысле, их покрывал серый налет. Кусты, домишки, заборы, оконные стекла, тропинки, торчащие столбики водоразборных колонок – всё было тусклым от цементной пыли.
Думалось: как же здесь живут люди? Рассказывали, что здешние парни отчаянны и бесстрашны в драках. Они и понятно: при такой-то безрадостной жизни и самого себя особо не будешь любить и жалеть…
Пока плыли, вполне на себе испытали нравы поселка. Компания подростков человек из шести заметила нас с берега. И сразу же все закричали и засвистели, как дикари при виде добычи. Друг сплюнул:
– Ну, публика!
– Вот погоди, они ещё нас на абордаж будут брать…
И я ненамного ошибся: в нас полетели камни, которые падали то поодаль, то рядом с лодкой. Один камень ударил о лопасть весла, и долгий звон пролетел над рекой. Подростки аж заходились от смеха.
– Вот же придурки! – друг погрозил дикарям веслом.
Брызги от близко упавшего камня осыпали мне лицо.
– Отгребай к тому берегу! А то проломят нам голову…
Безумные эти подростки ещё бежали за нами, свистели, но, слава Богу, скоро остались за поворотом.
Кончается всё, даже плохое. Дымы поселка висели уже где-то сзади, и, хоть трубы оставались видны, уже можно было прокашляться и отдышаться. Трава и кусты берегов меняли свой цвет на обычный, зелёный. Только река оставалась белесою, мутной.
Парило, и очень хотелось пить. Но где взять воды? Река нечиста, ни одной деревеньки не видно. Может, удастся расслышать родник?
Плыли медленно, то и дело бросали грести и прислушивались. Никакого журчания пока не было слышно. Но левый берег становился все каменистее, выше. Это давало надежду: из-под кручи должны бить родники.
И дождались: тонкий, рассыпчатый звон послышался слева. Он то совсем пропадал, и мы рассеянно озирались, то журчал вновь, переливчатый, лёгкий. Этот звон нарастал, уже ни плеск вёсел, ни скрип сочленений байдарки не могли его заглушить.
– Вот, вон! Загребай правым, причаливай!
Родник бил из распадка в каменистом крутом берегу. Кусты ольшаника поднимались по косогору; над ними виднелись две крыши и дырявый купол разрушенной колокольни.
Причалили. Солнце жгло спины. Подошли, заглянули в распадок. Не ручеёк, а целый ручей, журчащий и светлый, уступами падал в меловом хрящеватом разломе.
– Поднимемся?
– Ну, давай разомнёмся…
Полезли на гору. Деревенька была небольшой: пять не то шесть домишек лепились по склону. Крайний был под щепою, старая, темная кровля зеленела пятнами мха. В тени дома, привалившись спиною к стене, на лавочке сидела старуха. Казалось, она и похилившийся дом из последних сил поддерживают друг друга.
– День добрый, мать!
– Ага, ага, – закивала она головою, – и вам тоже, хлопчики, здоровьичка доброго… Ай ищете что?
– Да вот, как бы тут к роднику лучше выйти?
– Счас, счас, – заторопилась старуха. Опираясь о палку, она поднялась, подковыляла к нам и стала показывать. – Вон ту стежечку видите? По ней и пойдёте… Потом булыга такая будет – левее возьмите. Потом вниз – и уже будет слышно, как он, родимый, звенит…
Показывая и объясняя, она даже запыхалась. Её полуслепые глаза перебегали по нам как-то вскользь, старуха, запрокинув морщинистое лицо, смотрела словно поверх всего. Поверх крыш и заборов, поверх нас, утомленных жарой, поверх реки и байдарки у берега, поверх полдневной жары – поверх, может быть, самой жизни… Но созерцание этой дремучей старости вовсе не было мне тяжело. Казалось, достигнув предела дряхлости, старуха мало-помалу освобождалась от пережившего свою жизнь тела. И торопливая речь её, и легкий скользящий взгляд – всё словно освобождалось от ветхой плоти и начинало существовать уже само по себе. Пока мы брели к роднику, старуха кивала нам вслед, и хотелось, чтобы она присматривала за нами как можно дольше…
За каменной серою глыбой тропа сворачивала влево и круто падала вниз по склону оврага. Слышался шум воды. Мелкие камушки сыпались, выворачивались из-под ног. Я схватился за ветвь бузины – и в ноздри ударил её пряный запах. Ага, вот и родник…
В меловой нише обрыва шевелилась, бурлила вода. Живая, стремительно-светлая, она непрерывно вздымалась, и опадала, и вновь поднималась буграми, будто спешила куда-то. Вода была столь чиста, что, если б она не двигалась и её перевитые струи не отбрасывали теней, воды и вовсе не было бы видно.
Солнце радостно, словно ребёнок, играло в ней. Светлые пятна, радужные по краям, мелькали по хрящеватому дну, наплывали одно на другое, дробились, кружились: словно та каменистая чаша была полна не водой, а бликующим – или ликующим? – солнечным светом.
Опустив ладони в это сияние, ты чувствовал обжигающий холод и беспричинную радость. Счастливо смеялся. Потом жадно пил, припадая к солнечной чаше. Губы мгновенно немели, а зубы ломило. Родник дышал холодом, в спину жгло солнце. Перед глазами, над самым дном, плясали песчинки, травинки и даже мелкие камешки. Дно родника, словно жабры огромной рыбы, все время вспучивалось, приподымалось: оно словно хотело вздохнуть полной грудью, но ему, каменистому телу земли, это никак не удавалось. Оказывается, думал ты, тяжело бывает дышать не только нам, истомлённым жарою, но даже земле…
Плыли дальше. С каждой сотнею метров река оживала. Белёсая муть оседала на дно – или речная вода разбавлялась бьющими с берегов родниками? – но река на глазах становилась прозрачнее, и от этого словно загадочней, глубже. Лопасть весла всё ярче вспыхивала из-под толщи воды. Тяжелая утка с шумом взлетела впереди в тростниках и, свистя крыльями, потянула вниз по реке.
Я опустил руку за борт – байдарка чутко вздрогнула и повела носом влево – и почувствовал, как посвежела и помолодела река…
XXII. Большая река
Река заметно раздалась вширь. По ней теперь ходят и катера, и моторки, привстав на подкрылках и разгоняя крутую волну. Тянутся отмели, плёсы, обрывы или топко-илистые, в ивняковых кустах, берега. Ветер поднимает на плёсах крупную рябь с барашками. Да, большая река – это уже не та тихая речка, по которой мы начинали сплав…
Заметно прибавилось рыбаков. Особенно под глинистыми обрывами, на крохотных – только усесться – площадках у самой воды. Лески с удилищ почти отвесно уходят в тёмную воду, показывая, какая здесь глубина. Изредка слышен перезвон колокольчика, тогда рыбак вскакивает, кидается к удочкам и с натугою вынимает тяжёлую снасть из воды. Чтобы попалась рыба, не видел ни разу. И поэтому кажется, здесь совершается вовсе и не рыбалка, а некий сеанс магнетической связи с рекой. Люди словно бы ждут те сигналы, что им передаст глубина – через упругую дрожь удилищ, биение лесы и звон колокольчика.
На берегах уже август. Поля порыжели, покрылись скирдами соломы. Небо стало высоким, пустым – оно будто приподнялось над землёю. И стало больше пространства для птиц и для света, для запаха дыма, для звуков и мыслей – для всего, чем полон мир перед осенью…
По жёлтой стерне ходит грач. Угольно-чёрный, лоснящийся, гордый, он кажется словно хозяином этого яркого дня. Его оперение жирно сверкает, как будто свет солнца до черноты загустел на крыльях торжественной птицы.
О чём говорили тебе этот важный лоснящийся грач, и ветер, и солнце, и пыль над стернёй, и особенный – как бы прощальный – свет августа? Во всём ощущалась печаль полноты, когда знаешь: лучше того, что есть в мире сейчас, уже быть не может. Поэтому, вместе с пронзительным ощущением счастья, тебя наполняла и грусть достигнутой цели…
А помнишь, какие на плёсах на нас налетали ветра? Под солнцем, под бледно синеющим небом – как яростно, весело дуло встречь лодке? Река разъярялась, шипела, как зверь, которого дразнят. На свинцовой гребенчатой зыби, словно цветы, раскрывались барашки. От вёсел летели сверкавшие брызги. Птиц, пытавшихся взмыть с берегов, опрокидывало и швыряло обратно к земле.
Казалось, байдарка остановилась: она тупо совалась форштевнем в волну и переваливалась с кормы на нос. Борта лодки гудели от ветра, а лопасти вёсел даже свистели.
И что, было плохо? Нет, наоборот, чистая, свежая радость просыпалась в душе. Казалось, что солнечный ветер как будто сдувал со всего некий плотский избыток, и на этом ветру оставалась одна сердцевина вещей и явлений. Ветер одновременно и уменьшал то, что он обдувал, но, с другой стороны, увеличивал. И ты сам себе представлялся вдруг парусом, огромным, расправленным ветром – и лёгким, почти невесомым!
Правда, от долгого хода на ветер ты уставал. Этот посвист в ушах, этот дождь брызг и качание лодки искажали реальность в твоем восприятии. Кажется, в мире не осталось ничего твёрдого и надёжного: летели брызги, дыбилась в зыби река, шипели барашки пены, а берега, словно стронувшись с места, бежали следом за лодкой. И даже солнце, оно тоже будто летело против упорного ветра. Когда же ты выходил наконец на берег, то пошатывался и смеялся, как пьяный, и говорил невпопад: воистину, ветер гулял в голове…
А запах большой реки? Ведь ручей или малая речка почти что не пахнут, если, конечно, вода их чиста. Редко-редко потянет вдруг запахом рыбы и табака от сидящего в кустах рыболова или пахнёт бензином – там, где на броде недавно проезжала машина.
У большой же реки запах сложен, противоречив. Сначала, выйдя на отмель и потянув ноздрями, чувствуешь запах топкого берега, чуть сладковатый и приторный. Так пахнут заиленные коряги, сырые мертвые листья, раздавленные рыбаками ракушки да дохлые рыбы, выброшенные на берег. Это всё запах тления – и ты готов уже сморщиться, плюнуть да отойти от реки.
Но вдруг накатит волна чего-то бодрящего, свежего, вольного! Так пахнет, так дышит вода реки – живая, глубокая, сильная, непрерывно вьющая завитки водоворотов, сплетающая струи и уносящая отражения берегов…
Так и стоял ты растерянный, часто вдыхал и никак не мог разобраться, какой же из запахов глубже, сильнее, правдивее. Запах тления или движения? Покоя или беспокойной волны? Реки или берега? Жизни иль смерти?
XXIII. У моста
Показался поселок по левому берегу: пятиэтажные дома стояли на холме. Я знал это место: здесь была одна из больших подмосковных тюрем-колоний. Поселок поэтому отличался благоустройством и чистотой: дармовой рабочей силы здесь хватало.
Впереди реку перегораживал низкий понтонный мост. Мы подплывали, выбирая, куда бы причалить: налево или направо? Показалось, что справа обнос был короче. Стали грести направо. Под понтонами сильно шумела река. Лодку неожиданно развернуло течением, и мы с трудом выгребли к берегу.
Вышли, перенесли рюкзак с вёслами ниже моста. Натужившись, оторвали от воды байдарку и понесли её, шагая коротко и напряжённо. Берег подсыпан был крупным щебнем, и ноги подвёртывались на острых камнях. Наконец опустили лодку на отмели, возле воды, и сели рядом на брёвнышке, чтобы передохнуть.
Ещё не сумерки, но предвестие сумерек сгущалось в похолодавшем воздухе. Какая-то тётка полоскала неподалёку белье. Куча тряпок лежала возле неё на плоском камне. Лопатки женщины ходуном ходили под чёрным суконным платьем. Она издавала какие-то странные звуки: то ли мяуканье, то ли плач доносилось к нам сквозь шум воды.
Наконец догадались: тетка поёт! И когда она оборачивалась, чтобы взять белье с камня, её негромкое пение становилось слышнее. Вдруг заметила нас, замолчала. Несколько времени трудилась молча. Потом выпрямилась, потёрла рукой поясницу и вышла на берег. Босая, она осторожно ступала по острым камням.
– Совсем заморилась, – сказала она доверительно и чуть виновато, присаживаясь на бревне рядом с нами Лицом она выглядела моложе, чем казалась со спины. Глаза, большие и влажные, выражали разом и девичью застенчивость, и тихую радость.
– Стираете, значит?
– Ага, помаленьку, – улыбнулась она.
– Сами здешняя будете?
Женщина не удивилась очевидной глупости моего вопроса:
– Ага, тут живу…
– Ну, и как жизнь?
– Да всё слава Богу…
– С детьми живете?
Она вдруг смутилась, и тихо ответила:
– Незамужняя я…
Помолчали.
Женщина что-то вспомнила, грустно вздохнула и улыбнулась:
– Два раза меня замуж звали. Однажды председатель наш, Магомед Расулыч. Говорит: приходи ко мне, вместе жить будем. Трудно мне, мол, без хозяйки…
– И что, не пошли?
– Упаси Бог! Люди сказали: у него там, на Кавказе, жена осталась. А что же я, второй буду? Да и нехристь он все же…
– А другой раз?
– А то Ваня Петров. Доходяга совсем, в чём душа держится… Только, значит, освободился, – женщина показала рукой на поселок, – жить негде, вот он ко мне и прибился. Дров, мол, не надо ли наколоть? Я накормила раз-другой, а он всё не уходит. Чего ж ты? – спрашиваю. А он мне: я, Надежда, любовь к тебе заимел… Вот дурной!
Женщина засмеялась.
– Ушёл?
– Ну, потом-то ушёл… Плакал даже, прощаясь.
Посидели молча, глядя на воду, шумно вырывающуюся из-под понтонов. Зелёный, с красными звёздами вертолёт застрекотал в небе над нами.
Женщина объяснила:
– Кто – то, должно быть, с тюрьмы убежал, теперь ловят…
– Жалко вам их?
– Кого? Зэков-то? Иного и жалко…
– А когда из тюрьмы выходят, они того… не шалят?
– Да не слыхано вроде. Меня ни разу, помилуй Бог, не обидели. Ну ладно, пойду, а то засиделась я что-то…
Поднялась и побрела дополаскивать белье. Мы смотрели, как она, раскачиваясь, таскала по воде простыню, и белое полотнище то надувалось пузырём, то опадало.
Какой-то человек торопливо шагал по пустому мосту с того берега. Увидев нас, он чуть замедлил шаги. Обвислый серый пиджак, мешковатые брюки – всё сидело на нём, словно чужое. Руки прохожий держал почему-то в карманах, и в походке его было заметно напряжение.
Женщина бросила полоскать и разогнулась, следя за прохожим. Мне показалось, что они даже переглянулись, и женщина еле заметно кивнула. Миновав мост, человек начал быстро взбираться в гору, туда, где из-за деревьев виделся купол церкви.
Сумерки тяжелели, сгущались. Ощущение таинственной связи всего со всем в этом мире усиливалось с каждой минутой. И мы, и та женщина, и угрюмый прохожий словно не просто случайно пересеклись у реки, но были чем-то незримым и важным связаны между собой.
Скоро отчалили, и река понесла нас меж камней переката. Сзади по мосту загрохотал десяток солдат с автоматами, с двумя овчарками, молча рвущимися с поводков. Оглянувшись, мы видели, как понтоны проседают под гулкими шагами солдат. Они то быстро шли, то бежали тяжелой рысцой. Задний охранник споткнулся и едва не упал…
Лодка быстро скользила в сумерках. Пора было остановиться, чтобы разбивать лагерь, но чувство свободного скольжения по реке так увлекало, что никто из нас не заговаривал о стоянке. К тому же старались подальше отплыть от поселка: рядом с тюрьмой ночевать не хотелось.
Прошли поворот. Купол церкви и дома посёлка еще были видны позади, чернея на розовом фоне заката. Только если раньше река разделяла их, то теперь, из-за поворота, казалось: и храм, и тюремный поселок стоят на одном берегу…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































