Текст книги "Дом, дорога, река"
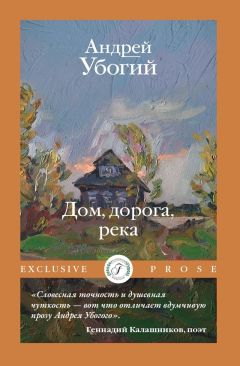
Автор книги: Андрей Убогий
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц)
2017–2018 гг.
Дороги
Долог путь, да изъездчив
I
Неожиданно и ниоткуда, как и все замыслы, пришла мысль: написать о дорогах. И сразу же померещилась книга: зеленоватая, цвета пыльной травы, с размашистой, как бы взлетающей, надписью: «Дороги». Видение это мелькнуло, пропало, потом вновь вернулось; и стало казаться, что там, внутри призрачной книги, уже есть некий текст. Так на еще непроявленной фотопленке живут чьи-то лица, смеются и плачут, задумчиво смотрят куда-то, но до поры, до таинственных омовений и пассов, совершаемых в красном сумраке фотолаборатории, эти лица пока никому не видны.
Вот и книга «Дороги» как будто уже существует. И сейчас, начиная работу, я себя чувствую то ли фотографом, проявляющим пленку, то ли, вернее сказать, переводчиком с языка, разобрать и расслышать который могу я один. Какие-то грезы и странная музыка, вроде тихого блюза, – вот из чего состоит тот невнятный язык. И мне бы теперь наиграть, повторить этот блюз, записать его ноты на серой бумаге…
Дороги – крепежные нити, которые держат пространство: от предмета к предмету, от одного человека к другому протянуты нити дорог. Наш мир непрерывно стремится рассыпаться в хаос; сеть дорог, и великих и малых, как арматура, скрепляет его. Как бы мы жили и что бы мы делали без дорог? К счастью, они нас не оставляют. Даже запертый в четырех стенах – больничной палаты, тюремной ли камеры, – человек продолжает свой путь. Заснуть и проснуться уже означает свершить путешествие, побывать в неизведанных странах, далеких мирах.
А движение времени, это тиканье-цоканье неких незримых подков, этот бег заполошных коней, проносящих нас из одной тьмы в другую, да так быстро, что мы даже не успеваем оглядеться как следует по сторонам? Кому-то тот путь выпадает обидно коротким, кому-то достанутся долгие годы; но, рано ли, поздно ль, падут запаленные кони… И что нам останется, кроме смертной усталости, от пройденных нами дорог? Что ж мы, напрасно брели, спотыкались, блуждали и капли тяжелого пота напрасно пятнали дорожную пыль?
Родов своих я, конечно, не помню. Но первой из пройденных мною дорог были именно родовые пути.
Мы все постарались забыть о том испытании, что нам выпало в самом начале. Но память о нем все же где-то живет: в ночных ли кошмарах, в неясном томленье души – или, может быть, эта память всплывет лишь в предсмертных снах?
Наша жизнь перепахана до глубины плугами родовой изначальной работы. Откуда б мы знали тоску, боль и страх, когда б не родились вместе с ними? Я даже думаю: люди, явившиеся на свет путем кесарева сечения, должны быть беззаботнее и счастливее в жизни, чем те, кому в самом начале досталось пройти родовые пути.
Впрочем, куда-то шагать мы не раз порывались еще до того, как родились. Упрямо толкаясь ногами в упругую тьму, окружавшую нас, мы искали дорогу. Но зачем? Разве плохо нам было дремать в том тепле, где один только шум материнской заботливой крови мерно качал тишину? Отчего мы пытались проникнуть в пространства иные?
…Вдруг напряглись, отвердели границы недавнего рая. Снаружи нас грубо сжимало, толкало в тесный проход; изнутри же росла, становясь бесконечной, тоска! Даже боль еще можно б терпеть; но вот эта тоска, эта мука удушья и страх нарастали с безжалостной силой…
Уже много после я снова встретился с чем-то подобным, когда увлекся подводной охотой. Омут на Рессе имел метров пять глубины. Оглохший и сумрачный мир окружал меня там: коряги, мохнатые космы над илистым дном, остатки бревенчатой мельничной кладки. И вот, дотерпев до последней возможности в поисках рыбы, я толкался от дна и сквозь облако мути спешил наверх, к свету. Шум и звон раздавался в ушах; сердце бешено билось: ему не хватало воздуха. И отголосок какой-то давнишней тоски пронзал сердце! В эти четыре мучительно долгих секунды я как бы вновь проходил родовые пути. Пускай не с такой жуткой силой, но тиски глубины обжимали голову. С каждой секундою – долей секунды! – таял круг жизни. Время чудовищно ускорялось – стрелки незримых часов вращались с гудением, как самолетный пропеллер! – казалось, секунда с собой уносила не менее года…
Но тут искаженное мукой лицо разбивало мерцавшую пленку – и я жадно глотал воздух, свет, жизнь!
Мой первый осознанный путь совпадает с первым воспоминанием.
Место действия – Средний Урал, военный городок под Нижним Тагилом. Зима. Мне два года. И вот первое, что я помню, – то, как отец несет меня на плечах вдоль забора. Зеленые доски – отчетливо вижу! – мелькают по правую сторону. Было, наверное, холодно, но запомнился не мороз, а ватный, приглушенный сумрак. Доски забора мелькали, и было так странно смотреть через них на сугробы, что были на той стороне. Это было безмерно печально; хотелось заплакать…
Я тогда пережил глубочайший и, может быть, главный свой опыт. Я почувствовал безграничность, огромность лежащей вовне меня жизни – и необходимость мириться с границами, с формами, с теми условиями, в которые я почему-то поставлен. Именно это смутное ощущение и вызывало нестерпимую грусть. Глядя на мир через доски забора, я и тосковал по свободе, и напрягался в желании выдержать плен бытия, и вместе с тем верил, что ограда бессильна сдержать, ограничить то главное, что живет в глубине моего существа.
Мелькание оборвалось, и надвинулась, словно глотая меня, большая веранда огромного дома. То, что было в яслях, помню плохо. Смутно видятся ряды желтых кроваток, прутья которых напоминают забор; в одну из них поместили меня. И я опять отделен от чего-то, нужного мне, но лежащего там, по ту сторону…
Первый путь на отцовских плечах вдоль забора оставил такую зарубку в душе, что доселе с особенным чувством я прохожу вдоль мелькающих прутьев ограды. Это приносит не только печаль, но и чувство покоя: кажется, если целая половина мира как бы отсечена, тои ноша твоя облегчается вдвое.
Идешь, например, мимо парка, солнце пульсирует в майской листве, а тень от чугунной решетки ложится так четко, что даже боишься споткнуться о тени от прутьев. Если смотреть на саму ограду, поочередно наталкиваясь глазами на каждый чугунный прогонистый стебель, и замечать то густые потеки недавно положенной краски, то паутину, то капли росы, будешь видеть одну ограду, а весь мир за ней расплывётся в смутные пятна. Но если смотреть туда, вдаль, на стены собора, ржавчину лиственниц, стайку детей, пробежавшую возле качелей, то будет виден лишь этот солнечный мир, а ограда вдруг как бы исчезнет! Будет лишь что-то подрагивать перед глазами, но эта дрожь помешает не больше, чем перемаргиванье ресниц. И так ты поймешь, что любая ограда есть только условность капризной игры бытия…
Сумрачен мир моих первых уральских воспоминаний. Угол комнаты, полуоткрытая дверь, человек за стеклом на балконе – ветер трогает его легкие волосы, – еще помню бульдозер, щетину тайги, уходящую до горизонта. Но все это было беззвучным и бледным: для меня пока словно жалели и света, и звука.
Но вдруг словно щелкнул переключатель: все залил свет! Я стою на обочине, а дорога, лежащая передо мной, будто плавится от чего-то горячего. И это не просто солнечный свет, но поток того счастья, которым наполнен весь мир. Все, что вижу: кусты и бурьян, серебристо-зеленый ракитник и низкое небо и два ослепительных солнца, что вспыхивают на коромысле теть Клавы, соседки, – все настолько прекрасно и ярко, что даже становится страшно: а вдруг все исчезнет?
Это было на Курщине, в селе Выгорное. Тогда, в шестьдесят шестом году, меня оставили на попечение бабушки Марьи Денисовны. И звуки, и краски того первого в памяти лета так и остались главными впечатлениями жизни. Земля, небо, солнце, деревья и птицы, коровы и куры, огромные белые гуси: все я помню, все знаю – оттуда. То, что увидел потом, приходилось уже сравнивать с тем, изначальным, и мало что могло выдержать это сравнение. И ветер, степной, горьковатый, и небо, которое в тех местах как-то ниже и шире, чем в Средней России, – все до сих пор представляется идеальным, каким и должно оно быть.
Вот и дорога – та, первая, проходившая возле дома и называвшаяся, по-местному, «нижний плант», – осталась единственной, главной дорогой. Лето случилось сухое: рубцы от колес, отпечатки подошв и коровьих копыт, казалось, навеки остались на каменно-твердой дороге. На обочинах зеленела курчавая травка-«гусятник». Гусиный помет известковыми жирными запятыми белел в траве. Дорога местами делилась на несколько русел, а затем вновь сходилась в пару глубоких следов. В серой дорожной пыли купались блаженно стонавшие куры. Стоило замахнуться, как пыльный взрыв подбрасывал их – и куры, квохча, приседая, бежали в кусты.
А вон стадо белых гусей вразвалку бредет по обочине. Их длинные шеи стекают к земле, морковные яркие клювы с тугим хрустом рвут траву. Тяжелые птицы порой привстают, раскрывая громадные крылья, хлопают ими – и жаркий ветер летит над дорогой…
Колеи были так широки, что я с трудом перепрыгивал их. На дне собиралась глубокая пыль. Приседая на корточки, я любил погружать в нее руки. С упоением роясь в пыли – такой бархатисто-прохладной, почти невесомой, – я извлекал из нее то ржавый гвоздь или камень, то обрывок ремня или щепку, то зеленое донышко от разбитой бутылки – и разглядывал сквозь него позеленевшее небо, – то находил ослепительно-черный кусок антрацита, то серую кость, то подметку. Вот уж воистину я рылся в прахе, прикасался к тому, чем становятся все, кто идет по дороге. И даже тот мальчик, тот ангел неполных трех лет, он когда-нибудь станет дорожною пылью, и другие ладони рассеянно будут ласкать его невесомое тело…
Тем же летом я совершил первое путешествие. Началось оно в сенях дома: гладкий и твердый, волнистый земляной пол был уже как бы дорогой. На деревянной скамье стояли зеленые ведра. Ближайшее было закрыто фанеркой. На ней отпечаталось несколько мокрых колец от жестяной перевернутой кружки. Сдвинув крышку, я ухитрялся достать до воды. До сих пор помню, какой ледяной становилась жесть кружки, как в ней колыхалась вода, и там, где она проливалась, пол становился скользким. Отпив два холодных глотка, я ставил кружку на лавку и перешагивал через порог.
Щурясь от яркого солнца, слезал со ступенек крыльца. Дорога была совсем рядом, шагах в десяти, она, как река, текла мимо дома, и хотелось скорее ступить в этот пыльный поток. Едва вставал на нее – всю в рубцах от колес, в желтых нитях горящей на солнце соломы, – как могучая сила подхватывала тебя…
Пробежав метров сто, уставал. Слева стеной рос бурьян – лебеда, чернобыльник, крапива, – справа полого спускались к реке огороды. Потягивал ветер, шары серебристых ракит словно катились, искрясь, по-над речкой. Дорога вела вдаль и вдаль и, похоже, не собиралась кончаться. Это тебя озадачило. Еще немного, и дом скрылся бы за поворотом; но к расставанию с ним ты еще был не готов.
Тогда ты сворачивал на тропинку, идущую вниз, по меже огородов. Метелки травы щекотали колени; кузнечики прыскали из-под ног. Огромные желтые тыквы светились в траве.
Приближался Нинкин колодец, из него пили жители всех ближайших домов. Другие колодцы – Попов, Елисеев – были попросту копанками, то есть ямками в торфе, и из них брали воду лишь для полива; Нинкин же имел сруб из бревен, и тропа к нему была самой торной.
Тропинка окружала колодец кольцом вытоптанной земли. Осторожно, касаясь ладонями бревен, ты перегибался за сруб и заглядывал вниз. Голова чуть кружилась, и все зыбко двигалось перед глазами: зеленые обомшелые бревна, лодочки ивовых листьев, чутко скользившие по воде, отраженье твоей головы – и, самое главное, облака, что белели внизу, на мерцающей синеве… Вот это действительно было открытием: там, в глубине, ты видел небо! Жаль, что потом, повзрослев, ты почти позабыл о внезапно открывшейся тайне: о высоте глубины – или, лучше сказать, глубине высоты.
По сухой, шелестящей меже бежал назад, к дому. Издалека видел скат крыши, крыльцо под навесом, косые кованые пруты, подпиравшие этот навес, видел завалинку, в облупившейся глине которой белели там-сям клетки дранки. На скамеечке перед завалинкой часто сиживал прадед Денис Максимович. Ему тогда было под девяносто. Помню сухого, прямо сидящего старика с небольшою седою бородкой: темные руки сложены на костыле, а взгляд отрешенно плывет над дорогой. Я подходил к нему осторожно, почти как недавно к колодцу, чувствуя жутковатую тайну. Сам запах, что веял от прадеда – запах холодного дыма и меда, – был словно дыханием вечности…
Очнувшись, старик поворачивал голову и говорил: «А, котурка! Ну посиди, посиди с дедом…» Его холодная колыхавшаяся рука касалась моей головы, а в глазах, водянисто-пустых, но глубоких, как небо в колодце, оживало подобие интереса. Так порыв ветра, сдувая с кострища золу, оживляет последние угли; наверное, маленький правнук был для старика чем-то вроде нежданного ветерка. Он-то уже отшагал по своим дорогам, он теперь тихо сидел у обочины, тихо ждал, а мальчик, перенимавший его эстафету, едва отражался в слезящихся бледных глазах.
Сидеть рядом с ним было зябко, тревожно. Прадед был словно колодец, пробитый во времени – его вековой почти возраст сливался с вечностью, – но ведь и ты для него, уходящего во тьму, тоже был окликом вечности…
Посидев с прадедом, я решил спрятаться в палисаднике, в гуще сирени. Было интересно узнать, что случится, когда я исчезну из мира. Похоже, все детские игры в прятки имеют в основе это переживание: щекочущий ужас исчезновенья, а затем вдруг острейшая радость в момент, когда тебя наконец отыскали.
Меня же, и долго, никто не искал. Обидно: мир не заметил пропажи. Куры квохтали в пыли; за рекой урчал трактор; теленок взмыкивал на низах огородов; тень облака проскользила по косогору на том берегу… И вокруг меня, в пыльной, горячей чащобе сирени, тоже что-то вздыхало, шуршало и ползало, тени двигались по земле, по куриным истоптанным лункам, но это происходило само по себе, без меня. Оказалось, что мир равнодушен: ему все равно, кто идет по его бесконечным дорогам – ты или кто-то другой – или просто летит по ним облако пыли…
К счастью, в доме уже начинался переполох. Бабушка громко окликнула прадеда. Тот неразборчиво что-то ответил. Потом я увидел, как бабушка, торопясь, прошла в сторону Титчевых, наших соседей. «Нет, не видела», – донесся ответ тети Клавы. Бабушка, уже очевидно встревожась, опять торопливо и грузно прошла совсем рядом со мною. «Ох-ма-а… Да куда же он делся?» – запыхавшись, бормотала она. Потом она долго, из-под руки, смотрела на нижние огороды. Вдруг вскрикнула: «Господи, Нинкин колодец!» – и тяжело побежала туда, где я был недавно.
Теперь я боялся покинуть укрытие. Еще сильней сжавшись, зажмурил глаза, но и сквозь красный бархат зажмуренных век я словно видел, как мечется бабушка, как прадед, разыскивая меня, двигает старые ульи в сарае, и слышал тревожные женские выкрики от соседних домов.
И все-таки я был счастлив! Мир не забыл про меня, всполошился, когда я исчез, – значит, он ко мне неравнодушен. И на меня снизошла небывалая, мягкая дрема покоя: я неожиданно, крепко заснул. Не помню, как и кто меня обнаружил. Осталась лишь смутная память о том, как чьи-то руки подняли меня, понесли и как я поплыл через двор, переполненный чувством любви, благодарности к этим рукам…
Вечерами ходили «под стадо»: встречать коров с выпаса собиралось почти полдеревни. Дети и женщины принаряжались. Бабушка Марья Денисовна надевала черный мужской пиджак: он шел к ее крупной и гордой фигуре.
Бабушка была редкой женщиной. Учительница, в одиночку и в лихолетье вырастившая троих дочерей, которые стали врачами, она была авторитетнейшим человеком не только в Выгорном, но даже и в Тиме, районном поселке, расположенном неподалеку. Слова: «Я учился у Марьи Денисовны» – долгие годы были в тех местах как бы особой рекомендацией, порою едва ли не лучшим, что человек мог сказать о себе.
Вечерний же выход «под стадо» был, пожалуй, единственным развлечением, которое бабушка себе позволяла. Своей коровы она уже не держала – ходила же так, по многолетней крестьянской привычке.
Солнце, краснея, спускалось к земле. Мошкара, словно дым, повисала столбами на фоне закатного неба. Дорога была еще теплой, а воздух над нею пустел, холодел. Люди, неспешно перекликаясь, шагали по тропкам, идущим вдоль нижнего планта. Дорога, уставшая за день, теперь отдыхала. Тебя-то, конечно, тянуло ступить в глубокие мягкие колеи, но бабушка дергала за руку: не пыли!
Через семь дворов от нашего дома был проулок: таинственный длинный тоннель из сомкнувшихся старых акаций. Здесь мы и поджидали коров.
О приближавшемся стаде давал знать отрывистый выстрел кнута. К проулку с дальней его стороны подплывало огромное облако звуков. Мычали коровы; земля содрогалась от топота, дроби копыт. Удары хвостов по раздутым бокам, визгливый крик пастуха и стрельба ременного кнута членили на такты поток нераздельно-густой, шевелящейся музыки. Джаз коровьего стада был настолько могуч, что, казалось, сама густота этих звуков, их жаркий избыток может что-то родить из себя – то ли мальчика, то ли теленка, то ли, быть может, кого-то еще…
Шумно вздыхавший, мычащий поток двигался по проулку. Люди нетерпеливо проталкивались между коровами. «Зорька! Милка!» – слышались нежно-призывные крики. Поток людей и животных наконец выливался на простор нижнего планта. Мы с бабушкой шли за коровой теть Клавы, соседки. Под пегим худым кострецом качалось огромное, в надувшихся венах, молочное вымя. Так грубо толкали и мяли его костлявые задние ноги, что было страшно: вдруг оно лопнет? Но вымя, как мягкая чаша, торжественно плыло над пылью дороги.
Плыл и ты, убаюканный общим движеньем. Ты чувствовал, как таинственно связано все: коровы, и люди, и пыльная эта дорога, и красное солнце, лежавшее на черте горизонта, и родная, шершавая, теплая бабушкина рука…
А потом меня увезли. Отец нашел место для двух врачей-психиатров в старинном калужском селе Ахлебинино. Они с мамой пожили там несколько месяцев, обустроились, и бабушка Марья Павловна, мама отца, повезла меня к ним.
Это была настоящая пересадка; я перебаливал после нее, как молодое деревце, перенесенное из родного питомника в чужое и непривычное место. Корни моей души неожиданно были оборваны – и другая земля, скудный калужский суглинок, еще долго-долго не могла стать мне родной. Многие месяцы, даже годы мне не хватало простора и воздуха, ветра и света, не хватало дыхания степи и воли.
Помню, как сели с бабушкой в самолет и как она непрерывно что-то рассказывала, успокаивая меня. Бабушка, очень полная, очень добрая женщина с морщинистым круглым лицом, любила меня безгранично, вся таяла от любви, и меня это, помню, тогда раздражало. Я словно боялся, что бабушкина любовь может расплавить меня самого, как огонь растопляет свечу.
В самолете было пока интересно. Ряд круглых окошек, заклепки на вогнутом желтом борту, заревевший мотор и вибрация пола – все это, столь непривычное, привлекало меня. «Хочешь быть летчиком?» – крикнула бабушка сквозь рев мотора. «Хочу!» – закричал я в ответ, припадая к иллюминатору. Земля там, снаружи, дернулась и побежала. Гул и вибрация все нарастали. Сухая трава хрящеватого летного поля быстро выскальзывала из-под крыла.
И вдруг земля ухнула вниз! В этот миг оборвалось и что-то в душе. Сердце замерло, перехватило дыханье. Из груди как бы вынули что-то, и я, опустевший, безудержно падал, пока мы взлетали…
Впервые расставшись с землею и родиной, я впервые почувствовал, как одинок. С гуденьем и дрожью пустота неба всасывала меня. С какой-то прощальной тоской посмотрел я в окно, на одиноко висящее шасси, и его, колеса, одиночество стало вдруг так понятно…
Кончилось все, разумеется, рвотой. До сих пор тяжело вспоминать тот ворсистый зеленый бумажный пакетик – один его вид уже вызывал тошноту.
Но, в конце концов, мы долетели. Встречал нас отец. Надо было тащиться через широкое летное поле. Бабушка несла меня, бледного, чуть живого; отец набрал сумок в обе руки – и никак не мог ухватить зеленый ночной горшок. Разозлившись, в сердцах пнул его – и горшок закрутился, мелькая белым нутром. С истомою, через плечо шагающей бабушки, я смотрел, как горшок остается лежать на траве – как все дальше и дальше уносят меня из младенчества…
В Ахлебинино мы приехали в сумерках. Холодно встретил меня новый дом. Даже радость от встречи с мамой не утешала. Зашел, помню, в темную комнату – узлы и коробки навалены были в углу – и заплакал от небывалой, сдавившей мне сердце печали.
Оживило меня и утешило чудо. Уж не помню, отец или мама – а может, они это сделали вместе – принесли небольшую коробку с круглым глазком. Чем-то щелкнули, и глазок засветился. На голую стену лег яркий круг света. Затем светлый круг превратился в квадрат с буквами. Буквы сдвинулись – вместо них появилась картинка: человек с лукавым лицом лихо взмахивал полотенцем.
– Храбрый портняжка! – прочитал отец название сказки.
Мало сказать, что я был удивлен и обрадован этой картинкой, да и всеми другими картинками, составлявшими ту веселую сказку. Мне прокрутили все раз и другой; потом показали еще одну сказку, «Карлик-нос», она понравилась меньше, потому что была пострашнее, но в меня тогда вошло ощущение чуда, которое живо и до сих пор. Мне, потерявшему только что родину, показали вдруг как бы еще одну родину, еще один мир, где хотелось бы жить. И когда спустя много лет я услышал от одного мудреца, что культура есть родина человека, я принял его слова как бесспорную и давно мне знакомую истину. Ведь еще в детстве, оттаяв в волшебном свечении сказки, я понял: куда бы отныне меня ни забросила жизнь, я уже никогда не останусь один, не погибну без помощи и опоры.
Ахлебинино, где мы поселились, было большим селом на Оке, стоявшим при старой дороге на Тулу. Хорошо помню остатки запустевшего тульского тракта: в крутой подъем, среди сосен, взбиралась мощенная камнем дорога.
Наш дом был одноэтажным, на восемь квартир. Крылечками он выходил в старый липовый парк; психиатрическая больница, где работали отец с матерью, была рядом, шагах в тридцати, за могучим дубовым забором.
Жизнь восьми молодых врачебных семей в том длинном одноэтажном доме была созвучна времени. Шли как раз шестидесятые годы; счастливый, ребячливо-радостный дух витал здесь, над склоном лесистого берега и над полянами, где регулярно устраивались «шашлыки» – те, входившие в моду общие выпивки на природе, в которых дух времени отразился полнее всего.
К шашлыкам готовились основательно. В Калугу, лежавшую в тридцати километрах вверх по Оке, отряжались посыльные для закупки мяса. Вином же и водкой в достатке снабжал ахлебининский магазин. Накануне женщины собирались у кого-нибудь на квартире, садились вокруг эмалированного ведра и, уже разогретые предощущением празднества, нарезали лук, мясо и заливали смесь уксусом или вином.
На другой день целое шествие протягивалась по дороге, спускавшейся через лес к Оке. Мужчины несли дырявый лист жести и звякавшие рюкзаки. На палке раскачивалось ведро с мясом, распространявшее уксусный запах. Женщины, одетые по тогдашней молодежно-спортивной моде в облегающие трико и яркие кофточки, несли сумки с провизией и одеяла. Мы, дети, носились взад и вперед, то обгоняя процессию, то отставая. Шашлычное шествие двигалось весело, шумно. Казалось, сам воздух пьянил молодых докторов. И общим для всех было чувство, что, как ни хорошо, как ни весело здесь и сейчас, дальше-то, без сомнения, будет еще веселее и лучше!
Спускались из леса в речную долину. Ока свинцово поблескивала вдали. Речные чайки, крича, то падали к самой воде, то взмывали так круто, как будто вода обжигала им лапы. Большая река казалась неласковой, поэтому для костра выбиралась обычно поляна близ маленькой речки Ужерди. Разведенье костра, нарезание шампуров из гибких лозин и оснащение этих прутов кусками сочного мяса и кольцами лука – все было до крайности интересно, и во всем мы, дети, принимали участие. Рюкзаки, одеяла и ведра, пакеты с едой были пестро разбросаны по траве. Ждать шашлыков еще было долго; после краткого совещанья решали: пора закусить. «Дети голодные…» – как бы оправдывались молодые мамаши. «Да, конечно, дети голодны!» – потирая ладони, весело соглашались отцы.
Отбежав в сторонку, я смотрел на таких молодых и веселых родителей, на их молодых и веселых друзей, на то, как они наливают вино из зеленых бутылок и как с каждым поднятием кружек становятся все веселее. Моя мама была, без сомнения, самой красивой. Она говорила немного, зато много делала: что-то передавала, раскладывала, нарезала. Она не могла и минуты остаться без дела, занимавшего руки и душу. Тревога за сына, за мужа, за то, чтоб все было как следует – не подгорело бы мясо или, скажем, не хлынул бы дождь, – огромная, незатухающая тревога за всех и за все тлела в карих ее, беспокойных глазах.
А отец был конечно же самым умным. Захмелев, он начинал говорить медленно и весомо, с печальной поволокой в глазах смотреть вдаль, за реку, как бы рассматривая то, что дано разглядеть лишь ему одному.
И какие же были они молодые! Как далек тот пикник у обочины, тот хмельной и веселый привал, который поколение шестидесятников устроило на своем беззаботном, наивном пути. «Светлый путь» – вот чем была их тогдашняя жизнь; светлый путь вел их в светлое «завтра»…
И вот странно: отбежавший в сторонку четырехлетний малыш уже тогда смутно чувствовал, что ему с ними не по пути. Говорил ли в нем голос иного, потерянного в неразберихе эпох поколенья или звучало неистребимое личное одиночество? Но помню, как с завистью и с каким-то глубинным упреком (упреком – кому? и за что?) смотрел я на то развеселое сборище, на пляски и прыганье через костер, и слушал песню о белых медведях, трущихся о земную какую-то ось.
И большая река, что текла за пойменным лугом, она как бы тоже с неодобреньем взирала на невинную оргию шестидесятников. В реке содержалась иная, суровая правда: в могучем и медленном, тусклом движении вод словно звучал приговор той легкомысленной суете, что затеяло поколение наших родителей…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































