Текст книги "Дом, дорога, река"
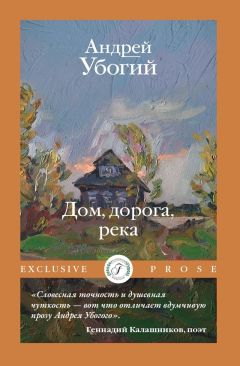
Автор книги: Андрей Убогий
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 28 страниц)
XXIV. Ночной заплыв
Кажется, давным-давно пустились мы плыть, и думалось, что конца не будет походу, но река возвращала нас к дому, откуда мы вышли когда-то.
Костёр горел щедро, точно знал, что он – последний в этом походе. На огне доспевал пшённый кулеш с луком и салом – еда пастухов и табунщиков юга России. Остатки хлеба и два куска сахара лежали на брезентовом нашем «столе».
Холодный закат догорал. Дымная малиновая полоса лежала над горизонтом, а выше небо было зеленоватым, пустым, будто всё его содержимое осело в малиново-сизую муть заката. На душе было грустно и зябко.
– Ну что, искупнёмся?
И хотелось, и боязно было: все-таки не июль, вода остыла. Но всё же решились. Подошли, голые, к тёмной и тихой реке. Костер горел сзади, и наши дрожащие длинные тени ложились на воду. Трава под босыми ногами была ледяной от росы. Нас было двое, и мы плечом к плечу подходили к реке, но давно я не чувствовал себя так одиноко.
Вода показалась тепла после холодной росы. Граница её, щекоча и качаясь, поднималась всё выше и выше по голеням, бедрам. Ноги вязли в илистом дне. Уже ощутимо давило течение. Вода выгибалась, вздымалась у правой ноги – я мешал реке своей неподвижностью. Вдалеке, в темноте, мигал одинокий бакен.
Я вздохнул и лёг грудью в воду. Река взбурлила – и вдруг успокоилась. Наступила глубокая тишина.
…Ты куда-то летел или падал? – в безмолвии и темноте, под крупными низкими звёздами. У самых глаз прогибалась, качалась тончайшая плёнка, разделявшая реку и ночь: она отражала мерцание звёзд, которое было похоже на серебристую пыль…
Ты плыл долго, уже позабыв, на каком берегу горит ваш костёр, и не понимая: откуда, куда и зачем так упорно течёт эта жидкая тьма. Плыл, одновременно и растворяясь в реке, почти исчезая в мерцающем зыбком потоке, и вместе с тем ощущая себя настолько отдельным от ночи, каким никогда не был раньше. Гребок за гребком ты отталкивался от темноты, вытягивал в долгом скольжении тело, которое вдруг начинало казаться немыслимо-длинным, растянутым чуть не на сотню метров. Порою мерещилось, что ты оказался на гребне огромного вдоха реки, что она, подхватив тебя некогда, не захочет с тобой расставаться и ты теперь будешь всегда скользить между звёздами и отражением звёзд… Звёзд было множество, и они были разными – большие и мелкие, красноватые, белые, чуть синеватые, мерцавшие и горевшие, не мигая, – но сейчас, в час ночного заплыва, казалось, что ты видишь и отличаешь каждую из их великого множества. А из них каждая в свой черёд видит тебя, наблюдая, как ты скользишь по реке…
Наконец выходил из воды, с удивлением вспоминая, что у тебя есть и тело: оно было мокрым, тяжёлым, холодным. Костёр горел вдалеке за кустами. Продираясь сквозь них, обивая на голое тело росу, ты продрог до озноба. Крупная дрожь, сотрясавшая тело, не давала ни говорить, ни спокойно одеться. Приторное тепло влажной одежды было ещё неприятнее холода. Надеясь унять озноб, сунул руки чуть ли не в самый огонь; пламя жгло, но не согревало. Помочь могло только одно – глоток спирта.
Товарищ разлил остатки «горючего». Холодная мокрая кружка вздрагивала в руке.
– Ну что, будем живы?
– Будем! Поход получился что надо.
– Бог даст – не последний…
Выпили. От неразведённого спирта слезы выступили на глазах, и пламя костра сквозь них радужно заискрилось. В груди быстро теплело. Зачерпнул из котелка густого, пахучего варева. Кулеш чуть горчил, пахнул дымом.
Ночь лежала тиха, холодна. Быстрые блики костра падали на палатку, на лодку, перевернутую кверху днищем, на кусты у реки и на черную воду. Когда прогоравшие дрова оседали, вороха искр, крутясь, взлетали в небо, тесное от бесчисленных звёзд. Искры летели и гасли, а звёзды оставались гореть…
XXV. Возвращение
Погода хотя и хмурилась, но укладка вещей проходила неспешно: было бы странно сейчас торопиться, впадать в суету – расставаясь с рекой.
Дул ветер с верховий, и пологие волны выкатывались на отмель. Побуревшие кусты ивняка гремели подсохшей листвой. Небо было тяжёлым и низким.
Пустая байдарка, вынесенная на берег, на глазах высыхала. Скоро лишь швы оставались влажными: сильно тянущий ветер лучше солнца сушил оболочку. Байдарка качалась при особенно резких порывах, и мелкий песок стучал в её днище.
Складывали спальники, надувные матрацы, сворачивали палатку. Руки на ветру стыли. Рюкзак наконец уложили, и перешли к байдарке. То, как быстро она разбиралась, даже разочаровывало. Вот только что перед нами была целая лодка, на которой мы столько проплыли, с которой почти что сроднились, и всего после нескольких резких рывков лишь груда дюралевых трубок да спавшаяся оболочка лежат на траве…
Дождь, готовый начаться в любую минуту, пока медлил: он словно ждал, когда мы соберёмся. Мы протёрли насухо все сочленения, трубки, засунули их в чехол и сложили тяжёлую оболочку. Берег, только что усыпанный нашим туристическим барахлом, быстро опустевал. Вот последние тряпицы сунуты в карман рюкзака, затянута шнуровка байдарочного тюка, и только два огромных мешка – рюкзак и байдарка – остались лежать на пустом берегу. Трава дрожала и никла к земле под порывами ветра.
Перед тем как уйти, мы посидели на берегу, догрызая последние сухари. Смотрели на реку с грустью, как смотрят в спину уходящему близкому человеку.
Неужели всё кончилось? И нетерпение сборов, и поезд, полный хмельных мужиков, старух и солдат-новобранцев? И первый восторг отплытия, и костры, и холодные ночи, и стрёкот дождя по брезенту палатки, и непременный звон комара над ухом в момент погружения в сон? И зной, и сверкание вёсел, и коровьи стада на отмели, и зудение оводов, и бегающие по лугу телята с обосранными хвостами? И луковица, разрезанная напополам, и тёплое сало, и крошащийся ломоть хлеба, и острое, чистое чувство голода? И купание вечером, когда выходишь на траву, похолодавшую в ожиданье росы, и видишь, как дым костерка стелется по-над берегом и мешается с первым туманом в низинах? И золотые закаты, и сухие тёплые ночи, когда светляки водянисто мерцают на склоне под соснами? И лица глубоких старух, глядящих на нас то с жалостью, то с удивлением? И пастух, прикуривающий от уголька, который малиновой точкой прыгает в его грубой ладони? Неужели кончились непогода и шквалистый ветер, брызги и пенные гребни – и странный восторг, с которым душа их встречала? И полёт ласточки низко-низко над гладкой водой, над своим отраженьем и даже порой столкновение с ним? И радость услышать родник в знойный полдень – уловить в плеске реки его звонкое, переливчатое бормотанье? А тот голый мальчик лет трёх, похожий на ангела, который счастливо смеялся, увидев нас с берега? А полуденный сон на песке, в зыбкой тени ивовых кустов? А гроза над рекой и раскаты грома: сначала сухие, далёкие, а затем всё более влажные и нетерпеливые? А пробоина лодки, когда вслед за коротким и твердым ударом о камень с каждой секундою в лодке всё больше воды, и товарищ кричит: «Греби к берегу!»? А проход под мостом, когда мгновенная тень набегает на лодку и ты, опрокинувшись навзничь, неожиданно видишь изнанку моста, его шершавые брёвна и скобы, такие странные снизу? А ветер в солнечный день, и просторный блеск августа, и угольно-чёрная стая грачей, что взлетела из рыжей стерни? А поле бледных овсов под грозовым темнеющим небом?
Как неохватно много было всего – кажется, года не хватит припомнить, – и неужели всё это кончилось?
– Ну что, двинули?
Мы поднялись, вытряхнули песок из кроссовок, подтянули штаны. Ты расправил рюкзачные лямки, просунул в них руки, поглубже присел. Рюкзак был много легче, чем в самом начале похода, но всё-таки встал я с трудом. Постоял, подышал, посмотрел напоследок на реку – красно-белый буёк на плёсе мотался под ветром, то заваливаясь на волну, то вставая, – и медленно двинулся вслед за товарищем по дороге, ведущей по берегу наискось, прочь от реки…
Долго ждали автобуса. Сбросив ношу под стену жестяной ржавой будки, прохаживались взад-вперед, разминая затёкшие плечи. Потом сидели на лавке, глядя на серый асфальт дороги, как недавно смотрели на реку.
Пошёл дождь. Сначала тёмные крапины проступили на сером асфальте, потом я почувствовал, как что-то холодное сыплется за воротник. Перетащили вещи внутрь будки. И снова сидели, смотрели сквозь дождь на дорогу.
Минут через сорок автобус подъехал. Мы с трудом протащили в проходе рюкзак и байдарку, уселись. И тут, как всегда, на меня напал сон. Я не помнил дороги, не помнил, как долго мы ехали, словно рухнул в глубокую тёмную яму. Лишь чувствовал краем сознания, как бьётся висок о стекло на ухабах и как натужно вибрирует пол под ногами…
Очнулся, когда подъезжали к Калуге. Дождь перестал, все было мокрым и солнечным. Пёстрый город широко раскинулся на другом берегу Оки. Церкви, крыши домов, тёмные пятна деревьев, штырь телевышки, трубы окраины, полукруг колеса обозрения в парке, и набережная, вечно недостроенная и разрытая, и притулившиеся на склоне домишки Берендяковки – всё это, с детства знакомое, спросонья увиделось неожиданно ярко, свежо. Я жадно приник к окну, рассматривая город, с которым расстался, кажется, целую вечность назад, но который нисколько с тех пор не переменился. Как любил ты в своей Калуге эту её неизменную, юную дряхлость!
Глубокая дрёма, в которой ты ехал, что-то переменила в тебе. Всё, связанное с рекой и байдаркой, отдалилось, подёрнулось некою дымкой и сделалось прошлым. И то чувство потери, какое испытывал ты, расставаясь недавно с рекой, оно вдруг угасло. Напротив, ты с радостью чувствовал, что теперь стал полнее, богаче – на целый поход! Похоже, что и река, перейдя из реальности в память, обрела нечто важное – то, чего раньше в ней не было.
Ты с нетерпением ждал встречи с домом, с родными, с друзьями, как будто ты вёз из похода какое-то важное новое знание и хотел быстрее им поделиться.
Под мостом промелькнула река. Ты едва узнал её сверху: мелкую и неожиданно плоскую. Автобус, натужно гудя, тянул вверх по въездной магистрали.
XXVI. Река навсегда
В ноябрьских сумерках сидел у окна с чашкой чая в руке и слушал, как дождь настукивает по стеклу.
Думал: а каково же реке в предзимнюю непогоду? Наверное, тяжко. По-над пустынными берегами гуляет ветер, треплет омёт соломы на краю поля и несёт дождь соломин на кусты лозняка у воды. Река серая, вся перепахана и взъерошена ветром. Кажется, она пополнела в пустых берегах.
У переправы на песок свалены красные и белые буйки вместе с цепями и якорями. Они словно стая птиц, некогда ярких и сильных, а теперь потускневших, больных, неспособных к полёту. Дождь барабанит по бакенам.
Вон лошадь с телегой ступает по берегу. Худая соловая кляча вытягивает голову при каждом шаге, кашляет, трудно вздыхает: словно хочет вылезти то ли из тесного и надоевшего хомута, то ли из собственной кожи. Дождь сечёт ей по рёбрам и впалому крупу. Копыта скользят в колеях; телега, скрипя, волочится по грязи. Странно: возницы, хозяина почему-то не видно…
А вон человек отплывает от берега в лодке. Он в плащ-палатке – издалека похож на пастуха, – но пастухи в эту пору не плавают. Плоскодонка идёт тяжело – вода по скамейки залила её, – но человек, не боясь утонуть, упорно толкается шестом в дно. Шест увязает, мужик с трудом вырывает его из мягкого ила, переносит и вновь налегает. Лодка, бортами вровень с водой, медленно, перебивая течение, движется поперек реки. Откуда взялся этот мужик и что ему надо на том берегу? Но вот его лодка скрылась в холодном осеннем тумане…
Смотри-ка, а вон и погост: синева оград и крестов проступает на взгорке, в облетевших кустах. Одна из могилок свежа: ещё видны вмятины от лопат, прихлопавших глинистый холмик, и не выцвела красная лента на искусственном, ядовито-зелёном венке. Трава вкруг могилы примята и пересыпана рыжею глиной.
Какие печальные грёзы… Сумерки в комнате уже загустели – отраженье лица и руки в дверце шкафа исчезло, – и странно, что ты ещё жив и пока ещё что-то чувствуешь, думаешь и воображаешь. Чашка чая давно уж остыла, а я всё пытаюсь представить, какая осталась река – без меня…
…Над ней по-прежнему тянет ветер, и белые вспышки пены мелькают там-сям по плёсу. Небо затянуто войлоком низких туч. Но, бывает, и солнце пробьётся сквозь них, и его строгий свет озарит тучи снизу, а свинцовую реку сверху. И река заблестит, как старинное зеркало с вытертой амальгамой, – тусклым, сдержанным блеском. Солнце кажется лишним в этом ноябрьском озябшем мире: предметы, им озарённые, словно отталкивают его. Ни лужи, блестящие лаковым льдом, ни кусты, обнесённые инеем, ни седая трава, ни крыши домов опустевшей деревни – ничто не способно проснуться, оттаять, ожить и поверить предзимнему солнцу.
И только река, напряжённо клубясь меж осенних пустых берегов, принимала солнечный свет, соглашаясь течь вместе с ним, и от этого словно сама начинала светиться. Её блеск порой затмевал даже блеск солнца, которое множилось и растекалось по ветреной зыби реки ослепительной лавой. Всего лишь представив такую картину, ты щурился и прикрывал ладонью глаза, хоть в комнате, где ты сидел, давно были потёмки.
Но и всё-таки, как ни сияла река в твоём воображении, ты чувствовал, что она одинока… Кому нужен её ослепительный блеск, её сила, её красота, если некому ей восхититься? Река словно окликала тебя, звала возвратиться на её берега. Иначе, как будто она говорила тебе, будет поздно: я скоро усну подо льдом…
И ты, чтоб утешить не столько себя, сколько реку, мысленно ей обещал: я вернусь. Пережить только зиму, перетерпеть её стужу и слякоть, дождаться весны – и мы снова склонимся над картой и будем весело спорить о том, сколько взять спирта и сколько – тушёнки, и будем опять паковать рюкзаки, а потом, надрываясь, затаскивать их в переполненные электрички или автобусы. И опять на сухую траву, меж кротовин приречного луга, посыплются с грохотом стрингеры, вёсла, шпангоуты и фальшборта, чтоб из них появилась байдарка. И опять, подойдя к беспокойной и мутной весенней воде, ты опустишь ладони в её обжигающий холод, и скажешь: «Ну, здравствуй, река…»
1992 (2018)
История одного путешествия
Путешествий за жизнь накопилось немало: каждый год доводилось куда-нибудь съездить, сходить или сплавать. Но случилось, что из-за проблем с позвоночником я сделался «невыездным». Какие уж там рюкзаки и байдарки, когда и самого-то себя я носил еле-еле?
Но, когда уж совсем загрустил, я подумал: а разве болезнь – это не настоящее путешествие? Разве те перемены пространства, и времени, и тебя самого, что случаются в ходе болезни, не стоят того, чтоб их вспомнить и описать?
Зачем, в конце концов, мы путешествуем? Ведь не только затем, чтобы сменить декорации жизни; путешествуем мы для того, чтобы на фоне переменившейся вокруг нас обстановки встретить самих же себя. Что останется в нас, в наших душах, когда поменяются и пейзаж за окном поезда или автомобиля, и язык, на котором с тобой говорят, и те блюда, которыми потчуют гостя? В конце концов, цель наших странствий – мы сами; заберись хоть на Эверест или Северный полюс, пока не найдешь там, не встретишь себя самого, всё будешь считать путешествие неудавшимся, незавершенным.
Конечно, есть путешественники, стремящиеся не столько обрести самих себя в странствии, сколько, напротив, забыться в калейдоскопе новых стран, городов и людей и, таким образом, от самих же себя отдалиться. Когда человек не выносит себя самого, он может впасть в дромоманию, страсть к перемене мест; но разговор о причинах и следствиях этой измены себе завел бы нас слишком уж в сторону: возможно, что и Агасфер возник бы тогда в поле нашей беседы…
Предыстория такова. Большой любитель лыж, я и десятилетнюю дочку Дашу стал приучать к этому делу. Ей лыжи сразу понравились, и она так ухватисто, ловко бежала за мной по лыжне, словно не первый сезон стояла на лыжах.
А март выдался, будто специально для лыжников! В ночь подморозит, днем разогреет, да еще чуть подсыплет ночного снежку – и лыжня по утрам была словно припудрена снежным искрящимся пухом. Скольжение было отменным, и мы с женою и дочкой убегали порой далеко: не хотелось сворачивать к дому. Докатили как-то аж до Городни, где сохранилось имение Натальи Петровны Голициной, послужившей Пушкину прототипом Пиковой дамы. Да и денек был пушкинский: «Под голубыми небесами / Великолепными коврами, / Блестя на солнце, снег лежит», – а дом Пиковой дамы розовеет вдали, средь чернеющих лип…
На обратном пути Даша устала. Несколько раз она падала, рукавицы и шапка уж были мокры, и лицо девочки выражало страдание: «Да когда ж наконец мы доедем до дома?»
И я решил взять ее на буксир – точно так же, как когда-то меня, семилетнего, тащил по лыжне мой отец. Сцепил две лыжных палки, подал один конец дочери, за другой взялся сам, и мы покатили.
Я бежал быстро, отведя руку с палкой-буксиром назад, и чувствовал, как мой позвоночник похрустывает от такой напряженной и скрученной позы. Но еще не угасший спортивный азарт и, главное, радостный смех Даши, которой буксир очень нравился, это все не давало остановиться.
Пробежав так около километра, пришлось все-таки прекратить буксировку, потому что я чувствовал: с позвоночником что-то явно не то. До дома еще кое-как докатил, переоделся и полежал на полу. Боль вроде стихла, и я решил: все обошлось.
Но на самом-то деле все только начиналось. Среди ночи я проснулся от сильной и все нарастающей боли в спине, ягодице и левом бедре. Боль по характеру напоминала сильную судорогу, только, в отличие от судороги обыкновенной, она не прошла за минуту-другую, а длилась и длилась.
Что было делать? Ну, покатался я по полу, порычал-постонал, с одной стороны, не желая будить домашних, а с другой – понимая, что одному мне не справиться. Казалось, катался я долго – на самом же деле прошло минут пять.
Проснулась жена:
– Что с тобой?!
– Не знаю, – процедил я сквозь зубы. – Наверное, нерв ущемился…
Лена сделала мне укол обезболивающего, но это была, что называется, мертвому припарка. Боль чуть затихла минут на семь-восемь, а потом навалилась с новою силой: как будто укол ее лишь раззадорил.
– Вызывай, Лена, «скорую», – сдался я.
Бригада приехала быстро, минут через двадцать. Медиков, одетых в синюю униформу, я встретил, лежа на полу: о приличиях как-то не думалось.
– Что с вами, коллега? – присев рядом со мною на корточки, осведомилась женщина-доктор.
– Видимо, грыжа диска с компрессией нерва, – собрал я остатки врачебных, куда-то враз испарившихся знаний. – Болит очень сильно…
– Я вижу, – сказала с сочувствием доктор.
– Сделайте, если можно, укол посильнее и везите в больницу.
Неожиданно, прямо скажем, началось мое путешествие: мартовской ночью, на жестких холодных носилках УАЗа, который, лязгая и громыхая, катил по пустынной Калуге, а я, чтоб отвлечься от боли, старался представить: какой перекресток, какой поворот мы сейчас проезжаем и скоро ли – Господи, хоть бы скорее! – больница.
Так я стал пациентом неврологического отделения. Больница, где я оказался, в позапрошлом веке была известна как Хлюстинская богадельня. Она и сейчас оставалась, по сути, заведением «Бога для» – приютом измученных и несчастных людей. В неврологии лежало много стариков и старух, перенесших инсульт: или совсем обездвиженных, или хромающих еле-еле, по стеночке. На грубом, но точном медицинском жаргоне таких больных называют «валежником». Словно деревья в лесу, они уже отстояли свой век и рухнули, но жизнь еще теплилась в них, и Хлюстинская больница старалась, по мере возможностей, эту жизнь поддержать.
«Пациент», в переводе с английского, означает «терпеливый». В самом деле, терпеть было главной работой в больнице. Терпеть боль и тоску, морщиться от уколов и рук массажистки и, главное, терпеть собственную телесную немощь, столь пока непривычную.
Тяжелее всего была первая ночь. Не раз вспоминал я испанскую поговорку «День бел, ночь черна». Да, ночь черна – так черна, что не видно просвета ни в ней, ни в той боли, с которой даже укол промедола справлялся минут лишь на двадцать. Ни лежать, ни сидеть я не мог; боль немного стихала, лишь когда я ходил. Вот и приходилось ночь напролет ходить по больнице, по гулким, ночным, бесконечным ее коридорам.
Василий Великий молился: «Даруй мне, Господи, трезвенным умом и бодренным сердцем всю настоящего бытия ночь перейти…» «Ночь перейти, – бормотал и я про себя, ковыляя-хромая. – Вот именно что перейти…»
А перейти ее было непросто: уж очень был длинен и труден тот путь. Казалось, время течет по бредовому кругу, вливаясь само же в себя, повторяясь, как повторяются те коридоры и лестницы, по которым я брёл. Впервые в жизни я шел, ставя целью преодолеть не пространство, а время: мне было нужно дойти до рассвета. И, как случалось в походах сбиваться с пути и блуждать, потерявшись в пространстве, так же точно блуждал я во времени. Сколько ни смотрел на часы, уже запрещая себе этот частый нервический жест, время словно застыло, и утро не приближалось. «Может, быть, я иду не туда, не в том направлении – может, двигаюсь в прошлое?» – уже посещала меня диковатая мысль.
А прибавить сюда полусвет коридоров, вздохи и стоны больных по палатам да боль, что тащил я с собой, словно ношу, да прибавить усталость, уверен, что этот ночной переход вполне потянул бы на спортивную категорию сложности. Но главное было в другом – в той тоске, что сгущалась в душе. Казалось, что вся моя жизнь, в ее прошлом и будущем, точно так же мутна, беспросветна, бессмысленна, как этот тягостный путь по ночным коридорам больницы…
Больничное утро – особое и драгоценное время. О том, что ночь пройдена, говорит даже не утренний свет в темных окнах палат – о рассвете больным сообщают шаги, голоса медсестер, разносящих термометры и начинающих делать уколы. Эти звонкие, столь долгожданные голоса – словно утренний крик петухов деревенскому жителю: они возвещают о том, что ночь наконец отступает.
И все, что казалось таким безнадежным, мучительным, страшным – бледнеет, мельчает, теряет угрюмую силу. Уж на что бы, казалось, для боли нет разницы, ночь на дворе или день, но и та ощутимо слабеет к утру.
А мы, инвалидная наша команда – те из нас, разумеется, кто еще может ходить, – встречаем друг друга в дверях процедурного кабинета или у столика лаборантки особыми, радостно-солидарными взглядами: «Что ж, мол, друг, еще одну ночь мы с тобой отстояли, отбились…» Есть, правда, потери и в наших рядах: вон, в конце коридора каталка, и длинный белеющий сверток на ней.
Но зато поступает и пополнение: лифт из приемного поднимает носилки с краснолицей и тучной, натужно хрипящей старухой. С ней двое детей – или, может быть, внуков? – и санитарка громко кричит: «Эй вы, родственнички! Что ж вы стали как пни? А ну, помогайте ее перекладывать…»
С утра начинается наше лечение: уколы, капельницы, процедуры. Интересно и непривычно следить, как что-то делают с твоим телом: как его раскладывают по кушетке, колют иглами, давят и мнут, то вливают в него растворы из разных флаконов и ампул, то прикладывают гальванические пластины и пропускают сквозь тело ток. Но в глубине напряженного самосознания всегда живет ощущение, что твое тело – это не совсем ты. Нет, конечно, тебе оно близко, знакомо, оно неразлучно с тобой вот уж сорок два года; но ты чувствуешь, что твое существо помещается где-то в другом, не поддающемся точному определению месте. Эта суть, сердцевина – то самое, что называется «я», – конечно, зависит от тела, но все же ведет совершенно особую жизнь. Телу может быть плохо – его, скажем, мучают голод, усталость, – а душе, как ни странно, в такие минуты бывает порой хорошо. Или тело, напротив, в порядке, оно сыто, одето-обуто, и в нем ничего не болит, но душа изнывает в тоске, беспокойстве, томлении или печали.
Вот лежишь на столе, массажистка уверенно мнет твою поясницу – вот-вот, кажется, она разберет тебя на отдельные мышцы и кости, – а ты чувствуешь, как телесные ощущения приходят к тебе, все-таки со стороны. То, что гладит, и давит, и мнет массажистка, есть все же не ты, а какое-то внешнее (с тобой, разумеется, связанное) существо.
Этот опыт болезни действительно важен. Ибо что столь же ярко, доходчиво может нам показать: мы не сводимся к телу, а значит, скорее всего, не кончаемся с ним? В этом старом, но вновь освеженном и поэтому как бы впервые открывшемся знании содержится столько надежды и утешения, что уже ради этого стоит всерьез поболеть. И как ни странно, но в дни болезни я бывал весел чаще, чем когда был здоровым. И это веселье приходило ко мне, несмотря на усталость и боль, да и на множество разных житейских проблем, обостренных моим нездоровьем.
Больничная пища – особая тема. А уж в таком отделении, как неврология, где обычно лежат долго, неделями, обед становится чуть ли не главным событием суток. День делится на «до обеда» и «после». Меню предстоящих кормлений – любимая тема разговоров больных. Буфетчица, раздающая суп или кашу, очень значимый здесь человек. Ну, еще бы, она же кормилица, она заменяет для многих, лишенных неделями дома хозяйку.
Кастрюли и баки с едой поднимают на лифте. Сегодня нам всем повезло: по коридору, вместо привычного запаха хлорки или лекарств разносится упоительный запах горохового супа.
Почему лишь в больнице гороховый суп так хорош? Он так густ, ароматен, что хочется есть, закрывая глаза и постанывая от наслаждения. Жаль, что тарелка пустеет стремительно – ложка уже подбирает последние кубики рыжей моркови и кольца вареного лука, – и ловишь себя на желании диком для взрослого человека: взять да вылизать опустевшую эту тарелку!
Вот и говори после этого, что мы мало зависим от тела, и, в частности, от желудка. Не одно, впрочем, тело радуется больничной еде: ждет обеда и наша душа. В бесприютности голых больничных палат, коридоров и лестниц, в той казенной тоске, что всегда наполняет такие места, очень важно порой ощутить что-то теплое, как бы домашнее, то, что утешит тебя и согреет живым ощущением дома. Больничная пища поэтому символ уюта среди бесприютных и злых сквозняков, на которых так трудно больному…
Наевшись вкуснейшего супа, вздремнув наконец полчаса (еда – это лучшее из снотворных), я, поднабравшийся сил, продолжаю поход по больнице.
Сейчас, пока еще день, путешествовать много приятней, чем ночью. И настрой у тебя совершенно другой, и боль днем слабее, да и встречаешь не только таких же, как ты, бедолаг, едва волочащихся по коридору, но и, например, молодых медсестер.
Стараешься даже поменьше хромать: когда навстречу, стуча каблучками, в коротком халатике спешит местная фея. Красивые лица сестер неприступно строги – я же, мол, на работе, мне некогда думать о пустяках! – но все остальное – и запах духов, и тугое бедро в распахнувшемся снизу халате, и блеск юных глаз – говорит о другом. Тебя обдает словно ветром движения, юности, жизни, а следом сжимается сердце, поскольку вдруг чувствуешь, что тебя самого этот ветер навряд ли уже понесет…
Тут вступает еще одна тема: Эрос больницы. На первый взгляд она кажется неуместной: о том ли, мол, думать, когда захворал? И разве в больнице возможны какие-то токи эротики?
Не только возможны, но нота эротики именно здесь, в этом доме страдания, скорби и смерти, звучит с редкою силой.
И здесь нет кощунства. Здесь все нормально, насколько нормальна быть может болезнь, смерть, любовь. Не раз мне случалось услышать от разных людей, побывавших в критических ситуациях, что даже в палатах реанимации у них оставалось одно – не последнее ль в жизни? – желание: овладеть молодой медсестрой, что склонилась над ними.
Что это – бред умирающих? Или особое сладострастие смерти? Или груди сестры, что вот-вот, кажется, выпадут в вырез халата, они излучают такую живую и мощную силу, пробуждают такое желание жить, что как будто зовут умирающего: «Не уходи! Вернись в жизнь – там, куда ты уходишь, такого не будет…» Эрос здесь как бы вступает в последнюю схватку с Танатосом, и случается, богу любви удается вернуть человека, которого смерть уж считала своею добычей.
Это всё не фантазии и не досужие домыслы. Известно, что в лучших американских госпиталях, в отделениях кардиореанимации, работают сестрами в основном филиппинки – самые, может быть, сексапильные женщины в мире. И вот именно их сексапильность есть главный критерий в отборе на эту престижную и непростую работу. Американские кардиологи проверили и убедились: да, именно силы, которые будит Эрос, порой возвращают нас к жизни, и эти глубинные, тайные силы куда эффективней лекарств.
Есть и еще объяснение феномену такого предсмертного сладострастия. Организм, предназначенный гибели, как бы старается, даже в самый последний момент, оставить какой-нибудь след по себе, сохраниться хотя бы в потомстве. Тогда им, вот-вот отбывающим в нети, движет некий дух рода – дух, в котором, по убеждению Шопенгауэра, и заключается наша бытийная сущность. И биологи нам подтвердят: да, в природе, когда индивиды находятся в состоянии стресса – то есть им угрожает опасность исчезнуть, – тяга особей к совокуплению чаще всего возрастает, чтоб таким образом подстраховать популяцию от вымирания.
Так что связи Танатоса с Эросом очень сложны. То эти два божества откровенно враждуют, стремясь овладеть человеком всецело, то вдруг выступают в союзе. Порой даже кажется: стоит на сцену явиться Танатосу – тут же, как тень иль двойник, появляется Эрос.
Но и Танатос нередко сопутствует Эросу. Несомненно, что в содроганьях соития человек ощущает нечто потустороннее, смертное. Тот, кто исходит в конвульсиях «живейшего из наслаждений» (выражение Лоренса Стерна), пребывает, по сути, в агонии, в схватке с самим же собой. В этот длящийся миг он стремится исчезнуть, не быть – и действительно, на какое-то время почти исчезает…
Недаром то чувство тоски, оглушенности и пустоты, что медики именуют «depressio post coitatum», оно как бы нам говорит: да, ты умер, ты больше не нужен во всем этом мире, ты сделал свое и тебя как бы нет; то, что еще продолжает дышать – всего лишь пустая твоя оболочка…
Далеко мы, однако, ушли от тарелки с гороховым супом. Но где, как не в больнице, поговорить о серьезных вещах?
Время шло, и маршруты мои становились длиннее: я уже выходил из больницы, совершая прогулки по городу. Сидеть мне по-прежнему было нельзя, лежать я мог очень недолгое время, так что только ходьба была более-менее сносным для меня состоянием.
Так много, как в нынешнем марте, я еще никогда не ходил. Боялся за ноги: как они выдержат? Но от спортивного прошлого еще оставался запас, и мышцы, суставы и связки еще мало-мальски держали. «Ничего, – говорил я себе в утешение, – зато я теперь вроде киника: живу на ходу». О греческих школах киников и перипатетиков я знал очень мало – то, что последние, скажем, во главе с Аристотелем прогуливались вокруг храма Аполлона в Афинах и вели при этом разговоры о возвышенном, – но все равно, хоть и знал я немного, эти самые перипатетики-киники мне очень нравились. Недаром и слово «циник» – титул, которым так часто жалуют нас, докторов, – происходит все от того же «киника». Стало быть, в чем-то мы их наследники и продолжатели. Например, в том, что стараемся называть вещи своими именами – в этом ведь, кажется, и состоит наш врачебный цинизм?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































