Текст книги "Дом, дорога, река"
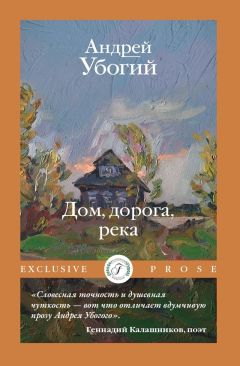
Автор книги: Андрей Убогий
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц)
XV. Непогода
Лишь ненадолго дождь притихал, но зато нарастал встречный ветер, морщил реку и почти останавливал лодку. Мы плыли уже неделю, погруженные в эти дожди, как в проклятье, и ни просвета, ни клочка синевы ещё не видели над собою. Ночи в холодной сырости не позволяли нам отдохнуть, мы уже с утра ощущали усталость, и гребли в состоянии непрерывного, плохо скрытого раздражения.
Река, изрытая оспинами дождя, казалась мелкой и скучной. Тяжелые мокрые заросли ивняка раскачивались под ветром, как клочья свалявшейся шерсти. Когда дождь припускал, его шум, словно вата, закладывал уши, и берега сразу же отдалялись от нас, теряясь за мутной завесой. Оставалось лишь то, что было перед глазами: брезентовый нос байдарки, свисающий в воду чальный конец, и тёмные волны, бьющиеся о форштевень. Они нахлёстывали на лодку и, разделяясь надвое, опадали обратно, в рябое тело реки. Под порывами ветра листья кувшинок в затонах вспрыгивали, становясь на ребро.
За излукой реки, на кочковатом лугу паслось стадо десятка в полтора тощих коров. Пастух стоял на пригорке, спиною к реке, тёмный набрякший подол его плащ-палатки лежал на траве.
– Эй, земляк! – крикнул я. – Деревня поблизости есть?
Пастух обернулся, покачиваясь, и мы увидели, что он совершенно пьян.
– А? – переспросил он, глупо улыбаясь и не понимая вопроса.
– Деревня, говорю, есть рядом?
– Чего? – Пастух пошатнулся и чуть не упал.
– Ничего! Коров не пропей…
Последнюю картошку мы доели вчера – надо было пополнить запасы. Дважды заходили в деревни, хотели купить, но молодую копать ещё не начинали, а из старых запасов хозяева не соглашались продать.
Скоро на левом берегу показалась деревня. По косогору лежали огромные ледниковые валуны, а выше по берегу прилепилось несколько неказистых домишек.
– Ну что, схожу насчет картошки?
– Сходи, – закашлявшись, отозвался товарищ. – Только ведь не дадут всё равно…
Он остался в лодке, а я зашагал по скользкой тропинке меж валунов. В деревне топились два дома. Растрёпанный, будто растерянный дым опускался от крыш к земле, висел серыми клочьями над косогором и пах горько и холодно, как на пожарище.
У крайнего дома большеголовый, нескладный мальчишка – босой, но в яркой оранжевой куртке – копошился в грязи. Его вид уже издалека пробуждал в душе странное беспокойство. Подойдя ближе, я понял, в чём дело: это был дауник. Большая голова на жирной короткой шее и заплывшие глазки производили жутковатое впечатление. Возраст бедняги было трудно определить: ему могло быть и семь, и пятнадцать, и двадцать лет. Дауник, мыча, с увлечением строил что-то в грязи – руками рыл ямки и складывал кучки – и даже не замечал дождя в азарте работы.
Обойдя дурачка стороной – отчего-то боясь, как бы он не заметил меня, – я подошёл к дому, в котором топилась печь. Через редкий забор увидел хозяйку: худая женщина в синем халате, в калошах на босу ногу подметала крыльцо. Веник из прутьев скрёб по закиданным грязью доскам, только размазывая глину по ним.
Я постучал о калитку:
– День добрый!
Хозяйка вздрогнула и испуганно обернулась:
– Чего надо?
– Да я насчёт картошки… Полведёрочка не найдется?
Мой ли вид, диковатый, небритый, так её напугал или и вправду картошки в доме не оставалось, но она так замахала руками и запричитала, как будто я предложил ей продать не картошку, а душу.
– Ой-ой, что ты! Какая картошка, Господь с тобою! Иди, иди, парень, отсюда – не до тебя сейчас…
Когда я вернулся к байдарке, Виталий всё понял без слов.
– Что, пусто? Ну, я ж говорил…
Мы толкнулись от берега, и течение медленно потянуло байдарку. Дождь глухо стучал в брезент. Было холодно, мокро, грести не хотелось. Казалось, что с каждым гребком погода делается хуже: словно мы заплывали всё глубже в ненастье. Ветер ударил так сильно, что волны реки сравнялись, разбившись в мелкую рябь. Дождь припустил снова. Мы гребли молча и остервенело – злые и на самих себя, и на целый мир.
Дело клонилось к вечеру, незаметно смеркалось. Видимо, лагерь придётся опять разбивать под дождем.
– Ну что, к берегу?
– Давай. Вон там, слева, вроде можно причалить.
Байдарка, развернувшись к струе правым бортом и закачавшись, тяжело вышла со стрежня в прибрежный затон, пересекла полосу мутной воды у береговой кромки и стукнулась килем о дно. Вылезая, я неосторожно схватился за нависшую ивняковую ветку – и целый водопад обрушился в лодку.
Костер не горел, хоть убейся. Влажные прутья лишь корчились и шипели. Снова и снова, с тупым упорством, я подносил огонёк к растопке – скоро трава вокруг была усыпана чёрно-белыми огарками спичек, – но огонь так и не занимался. Отстранив меня, за дело взялся Виталий, и тоже безуспешно. Похоже, опять нам предстояла ночь без костра…
Вдруг послышались голоса и шаги. Из-за берёз вышли двое парней в сапогах и штормовках. Похоже, тоже туристы.
– День добг'ый!
Один, коренастый, картавый, с чёрной бородкой, протянул руку мне, затем Виталию. Его спутник был высоким, худым; красная ленточка прихватывала на лбу его светлые длинные волосы.
– Да уж какой он там добрый… – отозвался я мрачно.
– Мы – то, собственно, что пг'ишли: может, вам помощь нужна?
Бородач обежал глазами поляну, увидел обгорелые спички, разбросанные по траве, и понимающе улыбнулся:
– Вот видишь, Семен, я же говог'ил: им сухие дг'ова пг'игодятся!
Молчаливый Семен вынул из-под брезентухи два пахучих сосновых полешка:
– Держите!
Мы аж растерялись.
– Ну, это… Может, спиртику тогда по глоточку? – Мой товарищ впервые за день посветлел лицом и улыбнулся.
– Это можно… Только костёр разведите сначала.
Сухие смолистые щепки занимались жадно и жарко. Сырые дрова стояли над ними шалашиком и подсыхали.
– Вы откуда, ребят? – спросил я гостей.
– Москвичи. А вы?
– Калужане. Идёте от Знаменки?
– Нет, от Всходов.
Товарищ тем временем достал фляжку, две кружки, стаканчик. Разлил спирт, мне досталось пить из фляжного колпачка.
– Ну что, за погоду?
– Да, и за встречу. Спасибо, ребята…
Выпили. В груди потеплело. Дождь сразу как-то перестал быть заметен.
– Ну, мы пошли: наши там ужин готовят, – будто оправдываясь, сказал белобрысый Семен. – Вы приходите попозже, у нас и гитара с собой…
Они уходили по тропе меж березами, переговариваясь и негромко смеясь. У высоко полыхающего костра уже было жарко стоять, а дождь над огнём на лету испарялся. Глянув на запад, над серой рекой и над лесом, я увидел, что в облачном небе прорезалась тонкая щель. Она была розовой, нежной, и тяжёлые тучи вокруг чуть заметно румянились.
– Гляди-ка, – показал я Виталию на небесный просвет.
– Ишь ты, и впрямь расчищает! Может, завтра под солнцем плыть будем?
XVI. Зной
Полдень, истома жары… Солнце недвижно зависло в зените, и небо вокруг него серое, словно вся его утренняя синева прогорела. Плывём то в безветрии, то налетит вдруг горячий порыв, сорвёт с берега облако пыли, и понесёт над рекою и лодкой. И снова безветрие, обморок зноя…
Река горячо блестит, плавится и кажется пополневшей от этого блеска. Лопасти вёсел с каждым гребком словно выхватывают из реки сгусток солнца. Быстрая светлая рябь бежит исподу по кустам ивняка, по лопастям вёсел и даже – ты чувствуешь это – по козырьку твоей шапочки.
Несмолкающий звон висит над рекой, над её берегами: это кузнечики пилят в траве над обрывом, да зудят овода, мелькая над лодкой. В висках толкается загустевшая, вязкая кровь.
Вдруг пот потечёт по лицу – тебя будто облили, – а потом он просохнет, и на лбу и щеках остаётся налёт мелкой соли. Зной словно стискивает тебя, выжимая из тела остатки влаги, и ты обретаешь небывалую ранее сухость и твердость. И ещё: что-то древнее, ветхозаветное нёс этот зной – вдруг мерещились прокалённые камни пустыни, акриды, овечьи отары, сухие колодцы и странники в рубище…
Река ли сделалась шире или это влияние зноя, но движение лодки теперь почти незаметно. Кажется, она завязла в густом раскалившемся полдне. Вот медленно-медленно наплывает отмель и стадо коров. Коровы стоят по грудь в жидком, струящемся блеске. Слышны редкие шумные вздохи, хлопанье мокрых хвостов по бокам. Проходим так близко, что рукой бы, кажется, дотянулся и потрогал за добрые морды. Глаза у животных печальны и густо облеплены оводами. Когда же коровы вздыхают, двойные ямки выдуваются в воде перед их ноздрями.
Овода замечают и нас, проплывающих мимо. Стадо уже позади, но над лодкою вьётся и вьётся, гудя басовито, их злобная туча… В оводах столько злобной отваги, что даже дремота зноя ненадолго нас оставляет. Начинается настоящая битва, которая будет длиться, ты знаешь, до последнего вражеского бойца. Овода безоглядно, бесстрашно кидаются, липнут на потное тело, и жалят коротко, зло! Сильно шлёпнешь ладонью – серое тельце аж хрустнет под пальцами, – но овода так живучи, что способны выдерживать и не такие удары. Вон, смотри: упав на воду, прибитый тобою овод сначала закружился, окружая себя двумя веерами ряби, но снова взлетел!
Наконец битва стихла. Большинство врагов перебито, но и мы изранены: на спине, животе, плечах вздулись зудящие волдыри. Снова не то плывём, не то тонем в мерном качании, звоне, дурмане. Берега просторны, пусты. Как раз начали убирать хлеба, и рокот комбайнов доносится то с одного, то с другого берега. Видно, как кобчики, трепеща, зависают над свежим жнивьем: полёвки, их пища, теперь стали много заметнее.
Словно уже не река, а густая, тягучая лава жары движется меж берегов… Скоро, кажется, ты и совсем пропадёшь под неярким, невзрачным, но беспощадно жарящим солнцем.
Самое время купаться. Кладёшь вдоль борта весло и снимаешь трусы. Привстав и балансируя, осторожно ложишься на нос байдарки. Горячий брезент шуршит под животом. Лодка опасно кренится, когда ты – ногами вперед – погружаешься в воду.
Мгновенно тебя обнимает прохлада и сумрак… Скользишь в глубину, в безопорную тьму, потом замедляешься и начинаешь всплывать. Задохнувшись, врываешься снова в сверкающий, радужный мир!
Темное, долгое тело байдарки медленно проплывает перед тобой.
– Ну, как водичка?
– Что надо!
Распластавшись, плыл вслед за лодкой. Перед лицом колебалась, ходила вверх-вниз стеклянная гладь реки. Солнце, в ней отражаясь, слепило. Иногда опускал лицо в реку и парил в зеленоватой, просвеченной солнцем водяной толще. Вдруг становилось темно, и ты настороженно вскидывал голову: тень обрыва тебя накрывала…
Скользил вдоль отёчной, синеющей глины. Обрыв местами был влажен, сочился. Река подмывала, точила его, вдруг прямо перед тобою булькнула в воду рыхлая черная глыба. Холодом тянуло от влажного среза земли. Выходы яркой, охряной глины проступали там-сям. Вверху щебетали, мелькали ласточки-береговушки.
Здесь плыл осторожно: мощь реки под обрывом всегда волновала. Вот река, зашумев, потекла вдруг навстречу, против самой же себя, и ты с трудом выгребал из клубка перепутанных струй…
Обрыв миновал – река выносила тебя вновь на солнце. Было радостно снова увидеть его ослепительный блеск. Когда плыл, берега отдалялись, а небо зато становилось огромным: прогнувшись, как парус, оно словно с трудом накрывало своим натянувшимся куполом весь омытый водою, ликующий мир…
Ты мог бы, наверное, плыть бесконечно. Сегодняшний день что-то странное сделал с тобой: сначала тебя прокалил огонь солнца, а затем освежила влага реки. Словно слиток металла в огромной печи, ты сначала был досуха выжжен и прокалён, покрыт коростой загара, а затем брошен в воду! Окалина тут же отмокла, отпала, и тот телесный остаток, что сохранился в тебе, он был уже словно какого-то нового качества. Таким свежим, как в этот сияющий день, ты раньше не был – и теперь сам себя с трудом узнавал.
Байдарка с Виталием, намного тебя обогнавшая, причалила на отмели впереди. Вдруг вспоминал, что ты не один, что товарищу тоже хочется искупаться. Перебивая струю поперёк, начинал грести к берегу. Сразу чувствовал мощь реки: течение грубо и равнодушно сносило тебя. Задевал вдруг коленом за что-то и нащупывал неожиданно близкое дно. Поднимался, шатаясь. Голова чуть кружилась; дно под ногами казалось нетвёрдым.
Шёл, взбивая ногами мелкую воду. Впереди летел веер сверкающих брызг. Чувство, что ты стал другим, ещё усилилось – ты, например, с удивлением, словно сам их не узнавая, видел свои потоньшавшие мокрые бедра. Вдруг мелькала диковатая мысль: показалось, что не только ты сам, но и товарищ может тебя не узнать…
Виталий, раскинувшийся на песке, поднимал голову на твои шаги:
– Ну, наконец-то! Уж я решил – до Юхнова поплывёшь…
«Нет, всё же узнал…» – думал ты с облегчением, но и с какою-то мимолётной досадой…
XVII. Гроза
Свет дня, окружавший плывущую лодку, неуловимо менялся. В нём появлялась пронзительность, яркость и напряженная грусть. Звуки делались резки, отчетливы и одиноки. Ведро звякало где-то в деревне на высоком, сеном пахнущем берегу. Тоскливо мычала корова. Лаяла собачонка, и её лай вдруг срывался в испуганное подвывание.
Духота все сильнее давила. Ласточки жались к воде, будто густеющий воздух был уже слишком плотен для них.
Ты оглядывался – и обмирал: густая, лиловая, страшная тьма нагоняла лодку! Синего, чистого неба оставалось все меньше. И солнце, будто зная о наползающей темноте, торопилось что-то последнее, важное высказать своим ярким, надрывным светом.
Лобастый, высокий край надвигавшейся тучи был словно окутан дымом: седые лохматые клочья клубились на фоне чернильной горы. Что-то древнее, дикое нас под себя подминало. Тьма, поглощавшая свет, возвращала всё к изначальному хаосу: синее небо свивалось, как свиток, перед напором густой темноты…
Душа наполнялась восторгом и ужасом. Весь мир словно падал ничком, обмирал. Уже не было слышно ни птиц, ни собак, ни стона коров в деревне. Кусты лозняка поникли в безветрии. Река неслась мимо них неслышно, угрюмо и мощно. Что-то общее было в потемневшей, свинцовой реке и в той тьме, что громоздилась над нею. Посреди тишины лишь родничок заливался, булькал в кустах, беззаботный и звонкий говор его был сейчас странен, как смех сумасшедшего…
Вот что-то сдвинулось туго в чернильном напрягшемся небе, потом заскрипело и вдруг покатилось, гремя, нарастая, пугая… Над лодкою грохот, как глыба, стремительно вырос – мы даже зажмурились – и разорвался сухим, оглушительным кашлем. Казалось, что-то посыпалось нам на головы: то ли дождь, то ли обломки неба?
Молния, белая и бесшумная, выпрыгнула из реки в нависшее чёрное небо. Что-то в нём зашипело и вдруг ударило с яростным треском! Вот ещё один сполох метнулся из чёрной реки к чёрной туче, и следом громко рвануло, рассыпалось, загрохотало…
Грохотало теперь беспрерывно. Туча словно тёрлась о землю отвиснувшим брюхом, и от этого сыпались искры. Мы сидели ни живы ни мертвы. Швы молний соединяли реку и небо то сзади нас, то совсем рядом с лодкой, то далеко впереди. Нам бы, конечно, причалить, но мы словно умом помутились от грохота. Положив вёсла поперёк лодки, втянув головы в плечи, мы сплавлялись, покорно отдавшись стихиям…
Гроза свирепела, но било, сверкало покуда всухую. Небо с треском рвалось, расползалось по невидимым швам. Река полыхала сумрачным красным огнём, отражая сверкание молний. Этот надрывный, сухой кашель грома и блеск молний были мучительны. Скорее бы, думалось, дождь!
…Ливень рухнул внезапно. Лодка вмиг оказалась посреди белого, ровного шума. Тяжелые капли замолотили по голове, по рукам, зазвенели по вёслам. Брезент лодки набряк, потемнел. Байдарка осела и потяжелела.
Берегов было не разглядеть, лишь нечётко мерещилось что-то размытое за пеленою дождя. Река из гладкой сделалась рыхлой, вспаханной ливнем. Капли дождя ударяли в неё, отскакивали – и вся поверхность реки была покрыта россыпью круглых катавшихся зёрен. Ливень накатывал волнами, то чуть слабел, то вновь нарастал, загораживал всё мутной шумной стеной. Белый дым брызг стлался по тёмной, изрытой воде.
Гроза еще била, но что-то уже отпустило, ослабло в напрягшемся мире. У тебя словно камень упал с души: казалось, что адское чёрное небо нам поначалу что-то иное готовило, угрожало немыслимой карой, но, слава Богу, всё только дождем обошлось…
Ты хватал весло и начинал торопливо грести. Напористая, тугая работа дождя тебя подгоняла. Погружённый в кипящую смесь похолодавшего воздуха и воды, ты был лихорадочно весел и теперь ничего не боялся. Меж рекою и небом осталась лишь узкая, ливнем залитая щель, а ты, насквозь мокрый, но странно живой и весёлый, грёб и грёб среди хаоса, грохота и остервененья грозы…
Сколько мы плыли под ливнем, в глухом рокотании грома? Кажется, долго. Река окрасилась у берегов жёлтой, глинистой мутью. Ракиты были измяты, всклокочены ливнем, с их вяло отвисших, наизнанку вывернутых листьев лилась вода. Ручьи, пенясь, бежали в каменистых разломах правого берега.
Гроза уходила. Молнии вспыхивали теперь далеко, и глухие раскаты грома уже едва доносились до нас. Полоса чистой, сияющей синевы засветилась на краю неба.
Дождь перестал как-то вдруг. Поверхность реки вмиг разгладилась. Лишь с нависших кустов и деревьев ещё сыпались частые капли. Гладь реки теперь вся дымилась. Пар валил и от лодки, и от наших плеч и голов, и от чёрно-белых коров на лугу, которые равнодушно, словно и не заметив грозы, с хрустом срывали дымящуюся отаву.
Вдруг просунулось в тучах и ярко ударило солнце! Всё мигом ожило и зашевелилось. Побежали круги от рыб, всплывавших со дна и хватавших плывущий мусор. Кулички, качаясь на тонких ножках, засеменили по отмели. Петух заорал вдалеке, радуясь солнцу, как на восходе. Босоногая девочка, оскользаясь на грязной тропе и смеясь, бежала к мосткам.
И скоро одна лишь река несла в себе память ненастья: она пополнела и замутилась. Ветки, листья, лохмотья травы ещё долго плыли, крутились по ней вокруг нашей лодки…
XVIII. Ведьма
Шли по жаре долго, измучились и уж не чаяли до воды, до тени добраться. Лямки рюкзаков давно мокрыми, словно мыльными, были от пота. Стоял Петров день, самый пик лета, в тот год сухого, горячего.
Шли поймой Угры, всё больше к реке приближаясь. Другой, дальний берег можно было угадать по его особенной недвижности: он почти не смещался, пока мы шагали. Дорога была торной, песчаной. Когда наступали в её колеи, ноги вязли и путались в песочном месиве, и мы старались идти по обочине, более-менее твёрдой. Неподалёку были Палатки – село, где сошлись в Великом стоянии русские и татары.
С невысокого взгорка открылась деревня: по-над берегом в ряд тянулись домишки. Знойный воздух струился, солнце палило нещадно. К деревне почти подбегали: за глоток воды и полжизни, казалось, не жалко. Колодезный сруб у крайнего дома был тёмен и стар; с теневой его стороны зеленела трава. Тяжело дыша, я заглянул в колодец, увидел неглубокое зеркало воды внизу, отражённое небо и контур своей головы. Веревка заскользила в потных ладонях, и помятое ведро шлёпнулось в воду, расплескав отражение по стенкам колодца.
Пили жадно, поначалу давясь каждым глотком. Хотелось налить в себя побольше ледяной влаги, впрок насытиться ею. Затем прилегли отдохнуть неподалёку, в тени под ракитой. Через дорогу стоял ветхий и покосившийся дом. Его подворье ничем не было отгорожено от дороги. Куры квохтали, купаясь в пыли. Нас клонило в дремоту, и скоро мы оба заснули…
Я очнулся от редких ударов и от бормотания, раздававшихся неподалёку. С трудом разлепил глаза и проморгался: во дворе дома напротив растрёпанная старуха пыталась разбить колуном полено. Она то и дело промахивалась, полено падало с подставленной плашки, но старуха упорно водружала его обратно и, хрипло дыша и ругаясь, ударяла снова. Она была тщедушна с виду, суха и темна лицом. И телогрейка, и валенки, и даже тёплый платок – это обилие тряпок, надетых в такую жару, делало её вид каким-то сказочно-нереальным. «Как чёртик из табакерки, – подумал я. – И откуда эта старуха взялась?»
Не сразу смогли мы с товарищем пересилить дремоту, но кое-как встали.
– Здорово, мать! Помочь, что ли?
Она покосилась и посмотрела на нас недоверчиво, но в то же время и с любопытством.
– Тоже мне, помощнички… – Она посопела, как бы раздумывая. – А то нешто попробуйте – вон, у вас хари какие здоровые…
Мы переглянулись и расхохотались.
– Чего ржёте, дурни? – Старуха надулась, но тотчас рассмеялась сама, визгливо и тонко.
Колун пришлось долго насаживать на топорище, а то он болтался, держась на одном честном слове. Потом, меняя друг друга, мы кололи дрова.
Пока работали, старуха ни секунды не стояла спокойно. Кряхтя и сопя, она суетилась вокруг, причитала, ругалась, давала советы и только что не лезла под топор.
– Мать, ну куда ж ты суёшься? Вот оттяпаю голову – будешь знать…
– Хе-хе-хе… Оттяпаешь – новая отрастёть…
И продолжала скакать по двору, то подбирая отскочивший сколок полена, то забегая в хату и скоро выскакивая обратно.
Потом, ненадолго остановившись, стала, вздыхая, чесать бока:
– Охо-хо… Старость, едриттвою…
Чей – то красный петух неожиданно спрыгнул с ограды на подворье старухи. И это вызвало в ней странную вспышку ярости.
– У-у, падла! – завопила она и кинулась прогонять птицу.
Короткая схватка вспыхнула у забора, петух хрипло закричал, забил крыльями, и полетели, кружась, его красно-чёрные перья. Бабка ещё наподдала ногой, и петух, перевернувшись через голову, упал за оградой.
Старуха возвращалась довольная:
– Во гад! Повадился на моем дворе пастись…
– Что, мешает он тебе?
Старуха вроде бы озадачилась:
– Мешает? Да не, кажись… Ну, один хрен, будет теперь знать – во как врезала ему, под жопу прямо!
Мы снова принялись за дрова. Колун был теперь у приятеля, а я присел, со старухою рядом, на шаткую скамеечку возле дома.
И дом, и подворье производили странное впечатление. Давно стояла жара, а двор всё равно был сырым и грязным. Помятое цинковое корыто, черенок от лопаты, горка печной золы, разбитая рама от пчелиного улья, старый дымарь, пустые консервные банки, гнилые картошины, разорванная калоша – всё было раскидано в беспорядке, а накренившийся дом равнодушно смотрел на это своими подслеповатыми окнами. Из его приоткрытой двери тянуло загадочным холодом.
Старуха вертелась, елозила, раскачивая скамейку, то рассматривала пристально свои растоптанные валенки, то подмигивала мне, то высмаркивалась о кривой тёмный палец. Её морщинистое лицо не имело постоянного выражения, оно непрерывно гримасничало и менялось, как будто не одна, а множество разных старух сидело рядом со мною.
– Одна живешь?
Она усмехнулась, махнула рукой, ничего не ответила.
– Ну, а это… Как с кормежкой, с продуктами у вас?
– Обожрёсся – морда треснет… – как-то неопределённо, загадкою, отозвалась старуха.
Потом запустила руку за пазуху, куда-то в засаленные лохмотья, и заскребла там яростно, с хрустом.
– Смотри, пальцы не обломай.
– Чево?
– Чешешься, говорю, больно сладко. Аж завидки берут.
– Да, поскрестись – это я люблю… Опять же, с весны не банилась. Всё времени нет: то одно, то другое. Дрова еще эти! – Она со злостью откинула длинную щепку, подобранную у ног.
Деревяшка пролетела через весь двор, крутясь, с неожиданной силой.
– Ну, а церковь-то хоть поблизости есть? Помолиться есть где?
– Во, удумал! Какая тебе церковь? Вон, соседку через забор облаяла – считай, помолилась. А то церковь ему подавай… Небось и так обойдёсся…
Потом, в свою очередь, я махал колуном. Топорище было кривым, но лежало в ладонях удобно. Сам же колун, старый и выщербленный, напоминал доисторическое орудие – что-то вроде каменного топора. Работа, несмотря на жару, увлекала, и было жаль видеть, что поленьев остаётся всё меньше и меньше.
Скоро закончил. Мы с товарищем подобрали раскиданные дрова, сложили их в поленницу, а старуха вдруг подевалась куда-то. Мы поозирались, заглянули за угол дома, но её нигде не было: она как провалилась.
Потом вдруг старуха выскочила на крыльцо, весёлая и запыхавшаяся. В руках она держала бутыль, заткнутую тряпкой, и две жестяные кружки. Её лицо даже, кажется, помолодело.
Конечно, безумием было выпивать в полдень, в такую жару. Но старуха так по-свойски сунула мне в руку кружку, так весело подмигнула, что язык не повернулся ей отказать.
– Что, мать, магарыч пить будем? Ну ладно, давай понемножку…
Она налила мне, брызгая и не попадая нетвердой рукой, полкружки мутного самогона. Налила и себе ровно столько же – и выпила, не дожидаясь меня.
– А, это… Заесть нечем, что ли?
Впрочем, зря и спрашивал. С трудом, задыхаясь, проглотил свою порцию. Хлебно-сивушный запах окутал меня, жар растёкся по телу. А старуха уже наливала товарищу. Сама снова выпила, с ним на пару: легко, словно воду, она хватанула сивуху, и мутная влага потекла по её подбородку. Старуха утёрлась и крякнула от удовольствия. Потом, бормоча и пошатываясь, скрылась в таинственном сумраке дома, и мы её больше не видели…
Снова шли по жаре, по пустынной угорской пойме. Деревня скоро пропала из глаз: её словно и не было. Может, и эта чудная старуха привиделась нам? Вдоль пыльной дороги тянулись пустые поля.
Мы всё больше хмелели. Ещё эта жара, и тяжелые рюкзаки за плечами; мы шли пошатываясь, в голове стоял шум и звон, и вокруг всё казалось приснившимся, зыбким и нереальным. По пунцовому лицу товарища крупными каплями скатывался пот. Он пыхтел, бормоча:
– Вот же, ведьма! Опоила-таки…
И правда, мир вокруг делался призрачным. Уже не предметы реальности составляли его сердцевину – не кусты, не трава, не мягкая пыль дороги, не дальний берег Угры, – а ощущенье родства с этим тающим миром, и томление знойного полдня, и чувство тоски оттого, что ты не способен понять: почему же всё то, что сейчас на глазах исчезает и тает, остаётся твоею единственной и несокрушимой опорой?
Дорога пошла под уклон и стала на глазах исчезать, затягиваясь травой. Видно, машины и трактора сюда заезжали редко. Колеи скоро сровнялись и были заметны лишь тем, что по ним, по плотной земле трава росла низкая, чахлая. Река приближалась.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































