Текст книги "Дом, дорога, река"
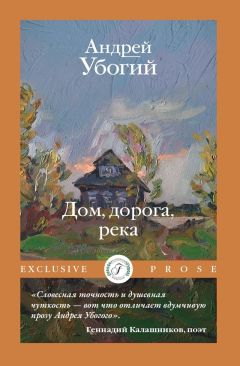
Автор книги: Андрей Убогий
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 28 страниц)
IX. Вино бытия
В этом всем для меня
Заключен настоящий смысл.
Я хочу рассказать —
Но уже я забыл слова…
Тао Юань-Мин
И все-таки: что есть для нас чашка чая? То, что написано в кулинарных книгах – десятки и сотни страниц о лечебных, питательных свойствах чая, – кажется недостаточным в отношении столь глубинного феномена. Помню время, рубеж восьмидесятых – девяностых годов, когда вместе с обнищанием жизни возникла угроза, что и чай вдруг исчезнет из нашего повседневного рациона. И почти ужас охватывал меня при мыслях о возможном лишении чая! Угроза остаться без чаепитий была, как теперь понимаешь, угрозой не просто желудку, но как бы самому нашему существованию. Словно бы, отказавшись от чайного ритуала, мы лишимся каркаса, подпирающего нашу шаткую жизнь.
А ритуал, даже в самом своем затрапезном и кухонном виде, нам совершенно необходим. Вот горелка, на ней закипающий чайник; вот коробка заварки и ложечка, которую ты быстро протер полотенцем; вот твоя чашка, заварочный чайник – и все те бездумно-привычные, как рокировка для шахматиста, передвижения этих фигур на белеющем поле стола…
Суть ритуала, наверное, и состоит в том отрешенном и вдумчивом созерцании, когда, выполняя привычные действия, попадаешь в особенный ритм и в момент резонанса души с этим ритмом встречаешься сам с собой.
Без ритуала – в том числе чайного – человек сиротлив и несчастен. И, только включившись в некое ритуальное действие (а ведь и вся жизнь, по сути, есть цепь ритуалов), чувствуешь, что существуешь уже не отдельно от всех, но что твой одинокий голос как бы сливается с пением хора…
Недаром, скажем, в Японии чайная церемония возводится в культовый ранг. Действительно, ритуал чаепития чем-то напоминает молитву. Ведь религиозный взгляд предполагает, что за очевидной реальностью жизни стоит еще некая сверхреальность; и она-то является истинным, сущностным содержанием мира. Кант это выразил термином «ноуменальный». Слышать голос ноуменального, дорожа всякой возможностью соприкоснуться с истинным, не подверженным смерти и тлению миром, это и значит быть человеком религиозным. Именно в этом смысле настоящее чаепитие превосходит само же себя и становится чем-то сакральным. Остановиться, прислушаться к миру и самому себе, обратить свой взгляд в глубину вещей и явлений – все это возможно именно при чаепитии.
А эффект обретения сил и желания жить после выпитой чашки? Кажется, это нельзя объяснить одними лишь витаминами и кофеином: удивительный этот эффект имеет словно не биохимическую, а онтологическую природу. Благодаря чаю мы прорываемся к родникам бытия, дышим воздухом ноуменального мира. Чай для нас – как живая вода; надолго лишенные чая, мы высыхаем, совсем как те жители Гималаев, которые, по уверениям путешественников, умирали, лишенные ежедневных горячих пиал.
Порою, в плохие минуты я даже чувствую, что недостоин держать в руках этот дымящийся, нежный бутон – чашку чая. Иногда же, напротив, я воспринимаю чай как надежного друга, как верного спутника по непростому жизненному пути.
А каких только мыслей и образов не возникает на протяжении чаепития! Кажется, целый мир заключен внутри этой вот чашки – и ты путешествуешь по нему, как по страницам увлекательного романа.
Вот Тибет, каменистые кручи, снег, ветер и стадо мохнатых яков, пасущееся на склоне (камни – слышите? – сыплются из-под копыт), и четкий контур буддийского монастыря на фоне бесстрастного синего неба…
Вот вид из окна вагончика, резво бегущего из Киото: японские, словно игрушечные, деревеньки, горбатые мостики, конус Фудзи вдали и проплывшая мимо любимая героиня Басё – ветка цветущей сливы…
Вот Китай: согнувшиеся человечки в широких шляпах, отблески солнца в рисовой мелкой воде, а чуть дальше – склон чайной плантации и цепочка сборщиц с большими корзинами за плечами…
Вот туманная Англия: дождь, на каминных часах восемь минут шестого, и отблески пламени пляшут на худом лице доктора, старого холостяка, пьющего липтонский чай после трудного дня, проведенного в клинике…
А вот и наш родной курский полдень: зной, летний сад, и купчиха Екатерина Измайлова в тенечке под яблоней у самовара – подушки небрежно разбросаны по атласному одеялу, – и она томно глядит из-под белой руки: не идет ли ее мил-сердечный дружок?..
X. Чаепитие с вечностью
Пьет свой утренний чай
Настоятель в спокойствии важном.
Хризантемы в саду.
Басё
Погожая осень, холодное утро. Слышен хриплый, длящийся крик петуха на деревне. В тени дома трава седая от инея; а дальше она ослепительно, влажно сверкает. От меня солнце скрыто кроною липы: сквозь лимонное золото листьев светит сочная синева. Делаю шаг, другой: слепящий свет солнца, дробясь, катится в липовой кроне – он словно бы повторяет каждый мой шаг.
Чашка чая дымится в руке. Где же, думаю, мне ее выпить: здесь ли, у дома, или, может, в саду?
В сад ведет влажная и заросшая тропка. Иду, отодвигая свободной рукой побеги мокрой малины. Слева светятся золотые шары. Закачавшись, синица хотела присесть на желтый цветок, но, увидев меня, улетела. Сливы, матовые от росы, сизыми пятнами проступают сквозь зелень. Кот Вильям вскочил на ствол яблони, оглянулся и спрыгнул – и проскакал, подняв хвост, впереди по тропе.
Солнце горит нестерпимо. Кажется, ветви и листья, скамейка и жерди забора, седые росистые грядки – вот-вот растворятся в потоках света. Небо тяжелое, сочное; длинные проблески паутины тянутся по его синеве.
Но вспоминаю о чашке чая – и тороплюсь пригубить терпкую горечь. Холодным утром чай остывает стремительно: едва успеваешь сделать два-три горячих глотка. Этого, впрочем, достаточно: в груди уже потеплело, а взгляд поплыл над кустами, заборами, крышами. Все, что было сегодняшним утром – синева и огромное солнце, золотые шары, чашка чая, – все это вместе как будто нажало на клавишу в сердце и извлекло из него чистый, радостный звук.
Как хороша эта ранняя осень! Обильный и жаркий, телесный груз лета погружал душу в какой-то обморок; теперь жедуша просыпается.
Чай для меня – осенний напиток: его музыка звучит в унисон чистой музыке сентября. Да, его благородная горечь звенит, наполняя тебя благодарностью ко всему, что уже состоялось. И вот здесь, посреди осеннего сада, с чашкой чая в руке, вдруг понимаешь, что значат слова Фауста об остановленном, вечном мгновении. Ведь если мгновенье наполнено созерцанием или молитвой, то оно, как созревшее яблоко в этом осеннем саду, срывается с дерева времени и падает в вечность.
Может, именно райское чаепитие и есть образ вечности? Ведь рай представляется нам двояко: то как далекое, смутное воспоминание, то как мечта. Иногда померещится, что я уже был когда-то в раю и пил там именно чай вот таким же сияющим утром, какое меня окружает сегодня. И была тогда, кажется, тоже ранняя осень: помню сизые сливы и золотые шары, паутину на фоне синего неба – помню, кажется, даже кота, который лениво разлегся на жерди забора…
А то вдруг, уставший, издерганный жизнью, я больше не помню, а только надеюсь, что буду когда-нибудь пить в саду утренний чай, и солнце будет вот так же протягивать иглы лучей сквозь лимонное золото липы, и веселые птахи будут шмыгать в кустах, и облако пара будет медленно таять над чашкой… И в душе моей, как и сегодня, зазвучит бархатисто-тягучая нота – густой ее звук будет чистым и долгим, – и я вдруг почувствую: время и смерть есть не более чем миражи…
1996 г.
Пёс
Даше
I
Помнишь, Даша, как мы выбирали собаку: сколько велось разговоров и споров о разных собачьих породах и о том, какая из них подошла бы нашей семье?
Конечно, мечта о щенке жила в тебе сызмала – кто из детей не мечтает о нём? – но мы с твоей мамой решили: пусть дочке исполнится десять, чтобы уход за питомцем лежал и на подросшей девочке тоже, и вот тогда мы решимся принять в дом щенка. И помнишь, ты признавалась, как долго не верила в то, что обещание исполнится, и мечта воплотится?
Интересно, а откуда возникла в твоей детской душе мечта о собаке? Может, прямо из жизни, в которой нас окружает немало четвероногих? Ведь мы обитаем на тихой окраине города, и трудно выйти из дома, не встретив собаку; и трудно, конечно, видя так много собак – кем-то любуясь, кого-то остерегаясь, кого-то пытаясь погладить, – не подумать: а что же у нас у самих до сих пор нет щенка? Ведь наши гены, хранящие память о первобытных временах, не могут не нашёптывать нам и о том, что человек без собаки куда более уязвим, беззащитен и слаб, нежели тот, кто имеет рядом четвероногого друга. В известном смысле человек без собаки не вполне человек: он ещё не отдалился от дикой природы настолько, что может поставить меж ней и собой некий защитный буфер в виде собаки, а с другой стороны, у него не осталось живых мостов, соединяющих с древней родиной.
Собака и есть этот мост, эта связь, которая позволяет нам слышать голос и зов природы, осознавая и то, насколько мы от неё отдалились. Антропологи могут, конечно, поднять меня на смех, но мне кажется, что без важной детали «собака» картина под названием «гомо сапиенс» была бы незавершённой.
Или, Даша, мечта о собаке окрепла в тебе, пяти-, шестилетней, в те вечера, когда я рассказывал немудрёную сказку, в которой собака являлась спасителем человека? Эта сказка вызывала в тебе неизменный восторг. «Жила у одного человека собака, – начинал я, – и она его очень любила…» Ты широко раскрывала глаза, ожидая буквально каждого следующего слова. Причём волновалась ты не в предчувствии неизвестных событий – история пересказывалась из вечера в вечер, – а оттого, что боялась, не изменю ли я что-либо в ней. «И вот пошёл человек зимой в горы», – говорил я; а ты добавляла: «На охоту!» – «Да, на охоту, – спешил я исправиться, – и собака, как всегда, пошла с ним…»
Затем следовал рассказ о том, как охотник упал, сломал ногу и остался лежать на снегу, замерзая. Но он успел крикнуть своей верной подруге: «Приведи людей мне на помощь!» Собака со всех ног, одолевая вьюгу и тьму, побежала в селение, где жил охотник, и тут наступала кульминация всей истории. «Прибежав в деревню, – рассказывал я, сам отчего-то волнуясь, – собака бегала от дома к дому и во весь голос скулила и выла…» – «Скулила, выла! – подхватывала ты, сама чуть ли не подвывая, как та собака, – скулила, вы-ыла!»
Что было дальше, понятно. Деревенские жители узнали собаку, догадались, что с её хозяином случилось несчастье, и спешно снарядили спасательную экспедицию. Вела ночную процессию – с факелами, лопатами и носилками, – понятное дело, всё та же собака. Охотника, уже чуть живого, благополучно нашли, откопали и отогрели, принесли в деревню, а собака с тех пор стала героем.
Вот что было в той сказке такого, что вызывало в тебе и волнение и умиление? Конечно, собака. Представление о том, каким должен быть истинный друг и какова настоящая верность, возможно, вошло в твою душу вместе с образом той безымянной собаки из незатейливой сказки отца.
Но был, думаю, и ещё один источник мечты о собаке: это книги, которые ты с увлеченьем читала и в которых встречалось немало собак. А поскольку наша семья в высшей степени литературоцентрична – в ней одних писателей двое! – то собаки, живущие в литературе, не могли не влиять на душу впечатлительного и много читающего ребёнка.
А уж наша русская классика куда как богата собаками! Возглавляет этот собачий литературный «парад», пожалуй, Каштанка, которой её хозяин говаривал: «Ты, Каштанка, супротив человека – всё равно что плотник супротив столяра…» А следом за нею жалобно поскуливает Муму, из последних сил настигают матёрого русака борзые Ругай, Ерза и Милка, ходит на задних лапах белый пудель Арто, вздрагивает во сне Чанг, часто бьётся собачье сердце голодного Шарика, несёт службу верный Руслан, вслепую идёт по звериному следу Арктур – гончий пёс, шевелит чёрным ухом белый Бим и охраняет границу пограничный пёс Алый…
И все эти собаки, что скулят, лают, тявкают, воют, а то и рычат на страницах русской литературы, герои всегда положительные, вызывающие не просто сочувствие и умиление, но порою и слёзы читателя. И вот парадокс: не будь в нашей литературной классике такого количества четвероногих героев, она отчасти утратила бы своё человеческое лицо.
Но годы летели, и твой, Даша, возраст приближался к заветным десяти годам: времени, когда мы решили обзавестись собакой. И вот тут, если помнишь, книги художественные были потеснены литературой по собаководству: ведь нам предстояло и выбрать породу собаки, и получить начальные сведения по уходу за ней.
Читая те книги вместе с тобой, я был изумлён обилием разнообразных собачьих пород, существующих в мире. «Как, – думал я, – от единого волкоподобного предка могло произойти такое множество разных существ? И неужели всё это близкие родственники? И этот, внушающий ужас, громадный мастиф с брылястой слюнявою мордой, и эта порочно изогнутая левретка, и эта стремительная борзая, во время гона похожая на летящую птицу, и коротконогая такса, ныряющая в барсучью нору, и стриженый пудель на цирковой арене, и мохнатый добряк-сенбернар, и уродливый мопс, и симпатяга-дворняжка, виляющая хвостом: неужели это всё представители одного рода-племени?»
Да, непросто нам было выбрать подходящую нашей семье породу: глаза разбегались, а мысли путались, и у каждого члена семьи было своё мнение об идеальной собаке. Но я опускаю сейчас эти все разговоры и споры и называю породу, которая примирила нас всех. Это шнауцер – лохматый пёс средних размеров, которого на его исторической родине, в Южной Германии, называли «собакой кучера». Нам понравилось, что средний шнауцер – собака универсальная. Три главные собачьи роли – быть сторожем, охотником и пастухом – миттельшнауцер исполняет прекрасно. Правда, ни в охотнике, ни в пастухе мы не нуждались, да и сторожить в доме было особенно нечего, но такая универсальность собаки позволяла надеяться, что и к жизни в нашей семье, не имевшей «собачьего» опыта, пёс сумеет хорошо приспособиться.
Итак, выбор был сделан, но оказалось, что не так-то и просто найти щенка миттельшнауцера. Ни в нашей Калуге, ни в соседней Туле их на ту пору не оказалось; пришлось, майским днём 2006 года отправляться за щенком аж в Первопрестольную.
II
А пока мы втроём – я, Лена и Даша – едем на электричке в Москву, я попробую вспомнить, какие собаки были в моём собственном детстве.
И опять – это надо же! – всё начинается с литературы. Только-только выучившись читать, я так полюбил один стишок о собаке из детской книжки, что охотно декламировал его всем, кто приходил к нам в гости. «Я нашёл в канаве серого щенка, – произносил я восторженным голосом, – и в котяшье блюдце налил молока…»
Помню, что слово «котяшье» неизменно вызывало смех слушателей – мне это нравилось, – и я нарочно не стал исправляться, даже когда осознал свою речевую ошибку. Дальше стишок рассказывал, как щенок вырос, как к мальчику приехал его старший брат-пограничник и решил взять Дозора (так звали пса) с собой на заставу. Мальчик, конечно, страдал, расставаясь с четвероногим другом, но чем не пожертвуешь ради любимого брата и ради защиты Родины? А на границе отважный Дозор не только спас жизнь своему новому хозяину, но и задержал злодея-нарушителя. Этот стишок глубоко запал в мою детскую душу, и образ отважной собаки, готовой отдать за хозяина жизнь, лёг, можно сказать, в фундамент первоначальных ребяческих представлений о нравственности.
Но живой, настоящей собаки у меня в детстве не было, зато была игрушечная плюшевая собачка, с которой я засыпал, заботливо сунув её под подушку. Коричневые уши скоро вытерлись до белизны и истрепались, но плюшевый друг дорог был мне и потрёпанным. Трудно поверить, но эта собачка сохранилась доселе, только уже, разумеется, не у меня под подушкой, а на полке старых детских игрушек. До сих пор на сердце теплеет, когда я вижу её и словно встречаюсь с самим же собой, пятилетним.
Ребёнку необходимо кого-то любить, причём конкретно и осязаемо, с возможностью тискать, ласкать, обнимать предмет своей детской любви. Думаю, что на этой глубинной потребности и основана тяга детей к щенкам и котятам, как бы пробным объектам любви, направляющим и формирующим душу ребёнка. И я точно знаю, что моё отношение к той коричневой плюшевой собачонке было уже любовью, пусть зачаточной, слабой и не сознающей себя, как любовь. Так в бутоне уже существует цветок, а в завязи – будущий плод; вот и чувство, что я испытывал к той собачке, я называю любовью, ничуть не смущаясь невзрачностью предмета, на котором она остановила свой выбор.
Разве не так же бывает и в отношениях между людьми? Любовь живёт в сердце любящего: это луч, исходящий из нашей души и заставляющий тех, кого он озарил, преображаться в животворящем свете любви.
Написал сейчас слово «животворящий» и вспомнил: а ведь моя любовь и впрямь оживила ту плюшевую собачку! Щенка мне родители, правда, не подарили, но до хомяка снизошли. Да, у нас в доме проявился хомяк Хома (названный в честь Хомы Брута из «Вия»: мы же помним, что значит литература для нашей семьи), и он поразительно напоминал мою игрушечную собачонку. И плюшевой мягкостью шёрстки, и блеском бусинок-глаз, и даже формой, размером и цветом коротколапого тельца. Можно было подумать, собачка волшебным образом раздвоилась, и её оживший двойник теперь шуршал газетами в трёхлитровой стеклянной банке, где мы его поселили.
И вот что характерно: к собачке с тех пор я заметно остыл – луч любви переместился на новый объект, – но и осознал, что любить живое существо много сложнее, чем тискать бесчувственную игрушку. Хомяка уж не сунешь к себе под подушку и не понянчишься с ним, как тебе хочется: у живого свой нрав и свои интересы. Так что любовь, как я вдруг узнал, это ещё и заботы, тревога, обязанности по отношению к другому. А этот «другой», он, кстати, может быть и совсем равнодушен к тебе, как был равнодушен хомяк ко всему, что не касалось еды или рваных газет, в которые он закапывался, скрываясь от моих назойливых глаз и рук.
Очень скоро Хома проявил свою независимость и равнодушие ко мне тем, что просто-напросто удрал, когда я вынес его погулять на лужайке у дома. Горевал я, признаться, недолго: мне уж наскучило наблюдать, как хомяк дни напролёт или спал, зарывшись в клочья газет, или грыз хлебные корки, или набивал рисом свои защёчные мешки, отчего его вес и размер увеличивались по меньшей мере вдвое.
Я нашёл утешение в дворовых собаках Потапе и Джере. Эти дворняжки были общими для жителей нашей пригородной деревни Бушмановка: и дети, и взрослые старались их подкормить или, по крайней мере, ласково потрепать по загривку, чему эти собаки никогда не противились. Рыжий Потап отдалённо напоминал сеттера – он был лопоух и лохмат, – а в коротконогой брюнетке Джере, несомненно, текла кровь таксы.
Как отличалась их внешность, так был различен и характер дворняжек. Потап был простецким парнем, никогда не скрывавшим своих чувств и намерений. Уж если он был чему рад, то выражал свою радость бурно и неукротимо, а если на кого злился, Бушмановка оглашалась его громким лаем. А хитрая Джера – о, это была ещё та штучка! Что такое «дипломатичное» поведение, я впервые узнал, наблюдая за ней.
Кормились дворовые наши собаки тем, что пошлёт им собачий бог руками жителей нашей окраины. Потап просто-напросто принимал всё, что ему дают, благодарно размахивая рыжим флагом хвоста. А вот Джера, та постигала порядки и правила, царящие между людьми, и копировала их с комической точностью. Она знала: чтобы получить от людей что-либо, полагалось сначала подать «заявление». Она подбирала любую бумажку – обрывок картонки или газеты или скомканную коробку от папирос – и, держа её в хитрой и словно бы улыбавшейся пасти, подносила своё «заявление» к ногам человека, который должен был его «рассмотреть». Всё её длинное чёрное тело при этом угодливо извивалось, а лапки – и так-то короткие – были почтительно полусогнуты. В общем, Джера вела себя, как подобострастный проситель в каком-нибудь гоголевском департаменте.
Но этим хитрость искушённой в политических тонкостях Джеры не ограничивалась. Случалось, что получивший собачье «заявление» человек решал, смеха ради, сунуть Джере вместо лакомого кусочка что-нибудь несъедобное: щепку или пустой спичечный коробок. Так вот Джера и эту издевательскую подачку принимала с выражением глубочайшей признательности – с благодарным поскуливанием, припаданьем к земле и восторженной дрожью длинного тела. Она хватала зубами ту дрянь, что ей сунули, относила подачку на порядочное расстояние и только там, вдалеке от глаз «благодетеля», с презрением выплёвывала её.
Так что прямой смысл выражения «хочешь жить – умей вертеться» я осознал уже в детстве, наблюдая за подобострастно и неутомимо вертящейся Джерой. Простодушному парню Потапу подобные хитрости даже и в голову не приходили. Устроиться в жизни он, похоже, так и не сумел, зато сумел геройски погибнуть под колёсами автомобиля, когда пытался прогнать это грозно рычащее чудище с нашей тихой окраины. Помню, как мы, дети, со слезами его хоронили и написали на могильной фанерке: «Здесь лежит верная собака Потап».
Так что собаки в моём детстве всё-таки были; а то, что они являлись общими – или ничейными, – ничуть не мешало моей любви к ним.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































