Текст книги "Дом, дорога, река"
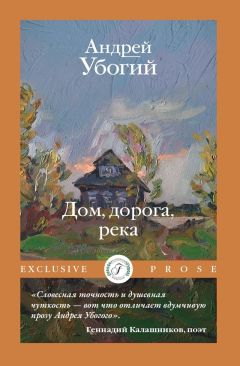
Автор книги: Андрей Убогий
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц)
Но жизнь, как ей и положено, продолжалась. У нас с Еленой рос сын – сидя возле его кроватки и покачивая её, когда Димка плакал, я и написал свою первую повесть, – и я сутками работал в больнице, а после дежурств, возбуждённый усталостью и недосыпом, шёл париться в наши калужские бани.
Появление их вот на этих страницах ничуть не случайно. Парилки Калуги сыграли важную роль не только во всей моей жизни – не знаю, как бы я выдерживал все её тяготы, не оказывайся время от времени под берёзовым веником, на горячем полке, – но именно бани, можно сказать, открыли мне двери в литературу.
А было так. На одном из Пушкинских праздников в Полотняном Заводе – это главное из событий калужской культурной жизни – я разговорился с Мариной Улыбышевой, поэтессой из Омска, как раз к тому времени перебравшейся в нашу Калугу. И, помню, начал рассказывать ей про калужские бани – действительно, уникальные бани, со своими особыми правилами, особой манерою париться, с веками отлаженным ритуалом и с особенным, можно сказать, мировоззрением. Я так увлёкся рассказом, что начал уже и размахивать воображаемым веником: меня подхватило, как говорилось встарь, крыло вдохновения. Марина слушала, то широко открывая глаза, то смеясь, пока наконец не сказала:
– Слушай, да ты вот про это самое и напиши!
Я удивлённо замолк, и в меня вдруг вошло осознанье того, до чего же громадная сила и истина заключается в этом немудрёном совете. Эта фраза, по сути, решила всю мою литературную жизнь и судьбу: я понял, что писать нужно только о том, что ты любишь. И я словно увидел – в каком-то пока размывчатом контуре и перспективе – образы всех своих будущих книг. И пусть предмет описаний в них будет самым обыденно-скромным – таким, например, как калужские бани, – но, если ты искренне любишь то, о чём пишешь, ты всегда найдёшь в этом предмете истину и красоту. И, что ещё важно, такой литературе не нужно ничего, кроме неё самой: она сама есть собственная цель. То есть не нужно ни публикаций, ни гонораров, ни славы – нужна лишь возможность писать то, что ты хочешь, по свободному зову души.
И вот как-то, в отпуске – выдался погожий сентябрь – я поехал с отцом в его родной Тим, небольшой посёлок на Курщине, где тогда ещё, слава Богу, жила моя бабушка Мария Павловна. Была у нас и конкретная задача – выкопать бабушкину картошку, – но, кроме того, я надеялся взяться там за очерк о банях Калуги.
Жить и писать я устроился в дровяном сарае; половина его, от пола и до потолка, была забита дубовыми чурками – будущим топливом бабушкиной печи, – а в другой половине едва помещались кровать, стул и стол под синей клеёнкой. Лучшего места для жизни и для работы у меня никогда не бывало: главное, я там был совершенно один, ничто бытовое меня не отвлекало (предметам быта в сарайчике просто-напросто не было места), и, кроме того, на крышу время от времени с глухим стуком падали и катились антоновские яблоки, наполнявшие весь сарай своим упоительным запахом.
Я просыпался, едва начинало светать, от петушиного крика и бормотания горлинок… и ещё от желания поскорее сесть за работу. Пока закипал чайник, я делал в саду некое подобие утренней зарядки. Было ясно, свежо, и смородинные кусты, стоило задеть их рукой, осыпались дождём ледяной росы. Трудно сказать, что пахло сильнее: эти потревоженные смородинные кусты, пожухлая ботва на картофельных грядах или антоновские яблоки, которые словно светились в траве под деревьями? Но скоро ко всем этим бодрым утренним запахам добавлялся ещё один: запах крепкого чая. И это был знак, что пора усаживаться за стол. На его синей клеёнке появлялись стопка тетрадных листов, дешёвая шариковая авторучка и чайная чашка, белая, в красный горошек, до краёв полная терпким дымящимся настоем. Вот на этих трёх китах – бумага, ручка и чашка чаю – и держалось моё утреннее мироустройство. Сделав пару глотков, я брал авторучку, медленно приближал её к синим клеткам бумаги – и окружающее отдалялось, а затем и вовсе переставало существовать. Больше не было ни дровяного сарая, ни синей клеёнки шаткого столика, а была приоткрытая дверца банной печи, малиново-сумрачный свет, исходящий от раскалённых камней, было звяканье шайки и плеск воды в ней, был бросок – и короткий, глухой выдох пара, от которого сумрак парной содрогался, а парильщики, тесно сидевшие на нижнем порожке, ещё сильнее склонялись и прятали лица в колени…
Ничего подобного раньше со мною не происходило. Мне больше не приходилось мучиться немотой и бессилием, подбирая слова, нет, слова теперь сами легко находили меня и вели за собой. Что писать, как писать – теперь вовсе не думалось: текст ложился строка за строкой так легко, как будто он и раньше существовал вот на этих тетрадных страницах и теперь проступал на бумаге, как проявляются симпатические чернила.
Поразительно, но тот текст о банях, что я написал в эти бодрые, ясные утра в Тиму, мне вовсе не приходилось править – это при том, что обычно правлю я много и мои рукописи пестрят помарками. За утро я писал по одной небольшой главе; всех глав получилось четырнадцать – вот и вышло, что за две недели отпуска я как раз закончил банную рукопись. Когда ставил точку и откидывался на спинку стула, завершая очередную главу, то с удивлением видел, что вместо туманного зябкого утра в Тиму царит уже солнечный и почти жаркий день. Петухи замолкали, зато горлинки бормотали почти беспрерывно; на кухне, через двор от сарая, гудел бабушкин примус, и сама она во фланелевом тёмно-вишнёвом халате хлопотала у разделочного стола, готовя нам с отцом завтрак. Я до сладкого хруста потягивался, выходил из сарая, подбирал с земли яблоко и сочно вгрызался в его сладкокислую мякоть, с наслаждением чувствуя, что уж это-то яблоко я, без сомнения, заслужил.
После завтрака мы с отцом копали картошку, а после, смыв пыль и пот, шли в центр посёлка, к пивному ларьку. И вот эти пивные прогулки по Тиму, они были тоже честно заслужены – той утреннею работой, возбужденье которой ещё длилось во мне. И поэтому всё, что я видел, казалось особенно ярким и выпуклым, новым: можно было подумать, что я, отработав свои три-четыре часа, каким-то мистическим образом соучаствовал и в сотворении того ясного полдня в Тиму, по которому мы с отцом сейчас медленно шли, поддавая ногами сухую листву тополей. Отец, как тимской старожил, знал почти всех в посёлке и сопровождал прогулку рассказами о послевоенном детстве и о судьбах тех поселян, рядом с которыми ему довелось жить. Эти рассказы складывались в своей совокупности в целое эпическое полотно; до сих пор мне кажется, что отец мог бы выстроить из послевоенного Тима что-то вроде фолкнеровской Йокнопатофы, сложить неторопливо-подробную сагу об этих, степных и былинных, местах.
Да и в том, как мы ждали очереди у пивного ларька, как потом пили пиво, тоже было нечто эпическое. Всё происходило подробно и неторопливо, как в истинном эпосе. Ведь эпосу спешить некуда: он всегда пребывает у цели, а целью ему служит жизнь. Вот мы и наблюдали неторопливо-подробную поселковую жизнь, сами являясь её неотъемлемой частью. За ларьком был широкий, как поле, пустырь; на краю его были сложены бетонные плиты – на них мы и сидели, как на скамьях античного театра, – а через пустырь брели поселковые жители, их продвиженье в пространстве напоминало прохождение ими их собственной жизни. Кто-то шёл бодро (таких было мало), другой плёлся устало; кто-то шагал налегке, а кто-то тащил мешок неудобной поклажи; кто-то выписывал пьяные петли, а кто-то шагал напряжённо, как будто преследуя ускользавшую цель. Но все – молодые и старые, мужики, бабы, дети, – все они одолевали простор пустыря с очевидным усилием, отдавая ему – пустырю и простору – часть своей жизни. И вот это общее усилие преодоления, оно оставалось как будто висеть над пожухлой травой – над гусятником и подорожником, над полынью и пижмой – как некий длящийся и едва слышный звук, как невидимый след человеческой жизни; и ты понимал, что твоё ощущение этого звука (в ином состоянии вовсе неслышного) – это и есть твоё чувство родины…
В ту погожую осень в Тиму я обрёл главное: собственный голос. Это и впрямь было похоже на исцеление от немоты: когда, после невнятных мычаний, после попыток хоть что-то сказать и отчаяния от невозможности выразить то, что ты хочешь, речь потекла, как прорвавшийся через запруду ручей, торопливо и жадно хватая и унося с собой всё, что попалось ему на пути.
Но и всё-таки, хоть я выше и написал о разлуке с литературною жизнью, я чувствовал: собственная книга мне необходима. Пусть самая скромная, пусть вышедшая мизерным тиражом, но книга была бы тем пропуском в жизнь (причём вовсе не «литературную», а настоящую), без которого я продолжал бы чувствовать собственную невоплощённость и как бы неполноценность. Признаюсь, для меня, молодого, все люди делились даже не столько по национальным или половым признакам, сколько по признаку куда более важному: человек написал свою книгу или он так и прожил жизнь без собственной книги. И это деление, на первый взгляд столь надуманно-произвольное, несёт в себе, если вдуматься, глубокий онтологический смысл. Человек с собственной книгой – это тот, кто сумел воплотить (пусть неполно и приблизительно, бледно и слабо) то творческое начало, что Создатель вложил в нас, когда мы появились на свет. Причём «книга» вовсе не обязательно именно книга: в её роли может выступить песня или картина, построенный дом или исполненный танец, научная формула или благоухающий сад. Под «книгой» я понимаю любой воплощённый и закреплённый в реальности творческий акт, но именно воплощённый, а не оставшийся в области чистой мечты и потенции. И я до сих пор думаю, что человек, проживший свою жизнь без «книги», не исполнил возложенной Богом задачи.
А уж если ты занимаешься литературой уже десять лет – в молодости этот срок почти равен вечности, – но у тебя ещё нет собственной книги, то ты начинаешь задумываться: а существуешь ли ты вообще? Может быть, то, что ты пишешь – и что тебе даже снится ночами в виде ползущей перед глазами полосы бесконечного текста – есть морок и бред, есть какое-то лишь помешательство, от которого следует освободиться? Но когда ты бросал свою «писанину» и неделю-другую не садился к столу, жизнь становилась совсем уж пуста и бессмысленна.
И вот именно книга, о которой так грезилось, она, как ты верил, могла бы прорвать пелену твоего затянувшегося «полусуществования» и явиться твоей дверью в мир. Но какая там книга, когда вот они, две папки с рукописями, возвращёнными из московских издательств, и вот они, два письма (они и доселе лежат где-то в старых бумагах), из которых ясно, что в обозримом будущем никакой моей книги не выйдет.
Но тогда, может быть, взять да издать её самому? Времена изменились, и не только в худшую сторону: теперь издание собственной книги перестало быть делом подсудным и рассматриваться почти как попытка государственного переворота. И если уж полноценную книгу издать мне не под силу – где взять деньги доктору, которому месяцами не платят зарплату и чья семья едва сводит концы с концами? – то не попробовать ли издать что-то вроде брошюры: вот, например, те банные очерки, что я так увлечённо писал в Тиму?
Идея возникла, и дело было за малым: как её осуществить? И вот тут меня снова выручила медицина. Среди пациентов оказались и те, кто работал в типографии, и те, кто имел отношение к производству бумаги. Не стану описывать многочисленных встреч, разговоров и согласований, которыми я занимался осенью 1990 года, вспомню лишь несколько эпизодов той осени, которые до сих пор греют память и душу.
За рулоном дешёвой бумаги я отправился в Кондрово – посёлок, где ещё со времён Пушкина и Гончаровой велось бумажное производство. Может, когда-нибудь я опишу эту гулкость фабричных цехов, эти чаны, где мокнет и хлюпает макулатура, опишу сквозняки, полумрак, рёв погрузчиков-каров, опишу блеск и вращение мокрых цилиндров, по которым нескончаемо льётся бумажное полотно. Но тогда мне был нужен итог всего этого сложного процесса: огромные рулоны бумаги, стоявшие у дверей погрузочного цеха. Весил такой рулон килограммов триста – четыреста; но я видел, как ловко рабочие катают их по цеху, кантуют, ставят на попа и вновь валят набок, чтобы перекатить на новое место. Полюбовавшись на эти богатырские игры, я пошёл в заводоуправление, нашёл там директора, и тот как-то очень легко выписал мне бумагу.
– Забирай! – сказал он дружелюбно. – Вы помогаете нам, а мы вам!
Я, конечно, был счастлив, но как же мне было доставить бумагу в Калугу, за пятьдесят вёрст отсюда? Ни машины, ни денег, чтобы нанять грузовик, у меня не было. Я стоял, растерявшись, в приёмной директора, держа в руках драгоценную накладную на триста пятьдесят килограммов бумаги, и мне стала являться диковатая мысль: а не докатить ли мне свой рулон до Калуги, шагая да подталкивая его по обочине шоссе? Ведь я видел, как рабочие сноровисто катают бумагу и за смену «накатывают», возможно, несколько километров; так что ж я не прокачу пятьдесят? Ну, пусть на это уйдёт дня три-четыре – неужели я не потружусь для первой собственной книги? Воображение заработало, и я живо представил себе и затяжные подъёмы, когда придётся через каждые десять шагов подпирать тяжёлый рулон бруском-башмаком и стоять, привалясь к нему и отдыхая; представил дожди, которые я буду пережидать, укрывая себя и бумагу полиэтиленовой плёнкой; представил ночёвки, когда я буду отрывать от рулона клочки для растопки костра; представил, как будут сигналить и помирать со смеху водители всех попутных и встречных машин, свидетели этой комичной картины, когда человек, словно жук-скарабей за навозным комком, шагает-корячится за огромным рулоном бумаги…
Но не случилось мне совершить этот подвиг жука-скарабея, о чём я, признаться, немного жалею. Одна из общительных женщин-снабженцев, получавшая бумагу для макаронной, помнится, фабрики, заметила мою растерянность, выяснила, в чём дело, и рассмеялась:
– Не горюй, парень! В моём грузовике найдётся место и для твоего рулона. Вот сейчас пообедаем в здешней столовой да и поедем…
С доставки рулона бумаги в Калугу и началась работа по изданию «Космоса бани». Типография, где делали книгу, была маленькой, набор был ручным, а тамошняя книгопечатная машина была если не детищем, то уж, наверное, прямым правнуком станка Гуттенберга. Теперь-то подобное можно увидеть только в музеях полиграфии; на словах очень трудно описать эту всю восхитительно настоящую, ощутимо-реальную технологию печатного дела. Но только в такой архаической типографии я мог удостоиться радости видеть то, что мало кто видел: текст собственной книги, отлитый в металле.
Это было едва ли не главным впечатлением всей моей жизни. Зайдя в очередной раз в типографию – а заходил я нередко: то постоять за плечом наборщицы, то принести клише с рисунками (иллюстрировал книгу я сам), то просто побыть в атмосфере рождения книги, – я увидел огромный, метра три на четыре, верстальный стол, на котором мерцало горячее серебристо-свинцовое озеро.
– Что это? – спросил я изумлённо у директора типографии.
– Это? – улыбнулась она. – А это, Андрей, набор вашей книги. Любуйтесь!
Передать, что испытывал я в те минуты, почти невозможно: разум не поспевал осмысливать то, что я чувствовал, а чувства растерянно вопрошали рассудок: что же это такое? Неужели те самые строки, что ложились на тетрадные листы под запах антоновки на рассвете тимских ясных дней, теперь отлиты в металле и торжественно-жарко мерцают, как бы сознавая свою завершённость и полноту? Неужели те мысли и чувства, что клубились во мне, когда я вспоминал гулкость мыльного зала, запах берёзовых веников или сумрачный жар раскалённой парильной печи, – неужели всё это теперь перешло из туманного мира идей в осязаемо-плотный, вещественный мир объективной реальности?
Можно сказать, что в этот момент я воочию видел и чувствовал связь меж платоновским миром идей и реальною жизнью. И я долго-долго, в каком-то блаженном оцепенении, смотрел на отлитый в металле текст, впервые со всей очевидностью чувствуя, что я наконец-то стал автором книги, то есть как бы впервые и сам появился на свет…
2017 г.
Дом
I
Первый дом? Уж не этот ли: мне года три, я в постели – и, согнув ноги углом, натягиваю одеяло между коленями и головой? И тотчас внутри, под шатром одеяла, возникает особенный мир: таинственный, сумрачный, тёплый, уютный. Всё непонятное, даже враждебное – всё осталось снаружи; здесь же, в уюте и сумраке – только ты сам и твоя сокровенная жизнь…
Не в этом ли и состоит смысл жилища: отгородиться от внешнего мира, столь часто чуждого и равнодушного, и создать собственный мир – тот, в котором ты сможешь не просто согреться или отдохнуть, но сможешь стать самим собой? Поэтому, строя дом – создавая границу меж внешним и внутренним, – каждый, в сущности, строит себя.
Но вернёмся под одеяло, в тот первый дом, который был в жизни каждого. Замечаете, как в нём тепло? А ведь единственной печкой, которая обогревает нас, служим мы сами: наши сердце и лёгкие, наша горячая кровь согревают пространство нашего первожилища. И если, бывает, рука иль нога нечаянно выпросталась наружу, мы спешим скорей спрятать её, да ещё поплотней подоткнуть одеяло, чтоб холод наружного мира не похищал драгоценное внутреннее тепло. И чем холоднее снаружи, тем лучше, уютней бывало внутри. Помните, в том полумраке под складками, что провисали меж лбом и коленями и порой осторожно касались лица, там даже пространство и время были иными? Точнее сказать, их – пространства и времени – не было вовсе: они словно ещё не возникли и не отделились одно от другого. Наверное, нечто подобное было в материнской утробе: и сонный покой защищённости, и отсутствие времени и пространства, и бесконечное чувство доверия тому тёплому сумраку, что нас окружал и хранил. По-настоящему это и был наш первый дом; а все те дома, что нам суждено будет строить и обживать в течение будущей жизни, окажутся лишь его несовершенными и приблизительными подобиями. Но кто помнит свою внутриутробную жизнь? А вот гнёздышко под шатром одеяла памятно и знакомо любому; если же кто-то и подзабыл, как в нём уютно жилось, так ведь нетрудно и снова построить его.
Вот только, скорее всего, долго вы в этом жилище не пролежите: какая-то дрожь беспокойства вас будет выталкивать в мир. И сложно понять, где источник тоски и тревоги, что понуждает нас выбираться из-под одеяла? То ли это томится сама наша жизнь, чей избыток не помещается в тесном и сумрачном коконе? То ли смутная эта тоска и стремленье вовне есть звучащий в душе отголосок приказа, который услышал наш предок Адам, когда он, со своей непутёвой подругой, был изгнан из рая? Или безотчётная эта тревога, порой почти страх, что нас заставляет, отбросив покров одеяла, открыть себя миру, вернуться в него, есть предчувствие будущей с этим миром разлуки? И шатёр одеяла, который, с одной стороны, напоминает о самом первом жилище – о материнской утробе, – он же пророчит и о жилище последнем: о домовине?
Дом из песка, наверное, тоже был в жизни у каждого: уж если не в собственном детстве, так в той песочнице, где увлечённо возились дети иль внуки, или на морском берегу, где мы наблюдали за играми детворы, возводящей песчаные замки.
Солнце было раскалено добела, море лениво накатывало и отступало от берега, пляжный гомон был сонно-однообразен, его нарушали лишь резкие крики разносчиков пива и пахлавы, и ты всегда удивлялся азарту и живости тех загорелых детей, которые невзирая на пекло трудились на узкой полоске меж морем и сушей. Да что дети, если порою и взрослые, неожиданно для самих себя впавшие в детство, могли к ним присоединиться – и ползать на четвереньках, и загребать песок, и лепить башенки, ровики, стены, а потом вдруг хватать ведёрко и бежать с ним к воде, чтоб скорей увлажнить быстро сохнущий замок. Но всё же дети в тех играх обычно играли заглавную роль: они указывали родителям, где копать ров, где ставить башню и где проделывать замковые ворота. Словно именно дети, которые ближе нас к раю и сказке, лучше помнят и знают, какими должны быть сказочные дома.
Но дома из песка – всего лишь дома из песка. Хорошо, если ты ушёл с пляжа раньше строителей замка, если же нет – тебе, скорее всего, предстоит стать свидетелем его гибели. И вовсе не солнце, не ветер, не море разрушат его; нет, всё будет куда прозаичнее и беспощадней. Откуда-нибудь возникает ватага безумных подростков. Поразительно, но они возникают всегда и везде, где есть что-то хрупкое и беззащитное, словно эти подростки и существуют лишь для того, чтоб нести разрушение. Индусы сказали бы: это слуги Шивы, беспощадного и смертоносного божества.
И вот эти подростки, как смерч, проносятся берегом моря, визжа и кривляясь и, конечно, не только не обегая хрупких башенок, стен и мостов, но как раз норовя на них наступить. И в мгновение ока всё кончено: не успеваешь ни крикнуть, ни двинуть рукой, как замок, которым ты только что любовался, сровняли с песком…
Смерч из подростков, всё так же визжа и кривляясь, уносится дальше, искать новых целей для разрушения, а ты остаёшься сидеть у песчаных руин с таким чувством горя в душе, как будто вот только что, у тебя на глазах, не просто разрушили то, что разрушилось бы и само по себе, под воздействием солнца и ветра, но надругались над чем-то священным. В сущности, ты увидел сейчас, в сжатом виде, сюжет всей истории человечества: то, как в ней разрушение торжествует над созиданием. Сначала строители с усердием и прилежанием созидают что-либо, а потом с диким визгом проносятся варвары и оставляют после себя руины. Вся человеческая история и говорит в основном о бунтах и войнах, восстаниях и революциях, то есть о разрушении домов.
Ещё удивительно, что люди продолжают строить дома, что печальный финал, неизбежный для каждого дома (не придут варвары – вместо них поработают время и силы природы), не останавливает кропотливой работы строителей.
Первый дом, который я осознал как именно дом, была хата моего прадеда, Дениса Максимовича Попова. Он стоял на нижнем планте (так, по-местному, называлась улица) деревни Выгорное, что на Курщине.
Главное отличие южнорусских хат от северных изб было в том, что строительного леса на Юге всегда не хватало и дома собирались из тонких, коротких бревешек, которые приходилось снаружи обмазывать глиной или кизяком, получался гибрид деревянной избы и глинобитной хижины, отражавший ту сложную смесь Юга, Севера, Запада и Востока, какой и являлась вся русская жизнь.
В хате прадеда было всё, чему полагалось быть в классической русской избе. Были холодные сени с чуланом и собственно хата, где главной была, разумеется, печь. Располагалась она против двери, и «женская» половина, со всеми ухватами и чугунками, была именно там, у печи. «Мужской» же угол был справа от входа, ближе к окну. По-настоящему в этом – красном – углу полагалось стоять иконам, но безбожное время их не терпело. Впрочем, по материнским рассказам я знаю, что Богородичная икона в хате всё же имелась, она была поднята на чердак, где и пережидала тяжёлое время гонений на веру.
Что запомнилось мне из того недолгого времени, что я прожил в хате прадеда? Воспоминаний не так уж и много, но зато это самые первые воспоминания, и на них, как на фундамент, легли все позднейшие впечатления жизни. Вот глухая зима, я на лавке возле окна – даже маленький, я понимаю, что окно тоже маленькое, – и вижу сугроб во дворе, по которому топчутся куры. И есть в этом зрелище – двор, сугроб, куры – что-то уютное, но и вместе с тем очень тоскливое. Суетно-мелкое копошение кур словно показывает мне, какой может быть жизнь, целиком погружённая в мелкие бытовые заботы, и тоскливо мне именно оттого, что я не желаю себе такой вот куриной и мелочной жизни…
Ещё помню матицу на потолке, она потемневшая, чуть прогнувшаяся, со вбитым крюком, на котором когда-то висела детская люлька. Точно не знаю, качались ли в той люльке моя матушка и её сёстры, Галя и Света, но потолочную матицу сёстры Поповы видели точно. И, наверное, тоже испытывали от её созерцания такое же чувство покоя и защищённости, что потом, много после, испытывал я, когда тянул к этой матице руку и не верил, что стану настолько большим, что смогу до неё дотянуться.
Вспоминается ножка кровати, за которую я ухватился, когда испугался фотографа. Может, я испугался его, как незнакомого человека, а может, опасался процесса фотографирования, как такового. Дети, как и животные, чувствуют больше, чем могут выразить; вот и мой давний испуг перед круглым, упорно следящим за мной, немигающим глазом фотообъектива выражал неосознанный детский протест против того, чтоб отторгнуть, отнять у меня мой собственный облик. Как будто фотограф вторгался в то сокровенное, чего он касаться не должен, как будто в тот самый миг, как мой взгляд и лицо останутся в недрах фотографического аппарата, я потеряю какую-то часть самого же себя. Нет, всё же недаром в исламе, иудаизме и в некоторых первобытных культурах существует запрет на изображение человека, ведь образ, отделённый от первоисточника, может стать двойником – и кто знает, в каких непростых отношениях эта копия будет находиться с оригиналом?
Разумеется, в три младенческих года, когда в меня целился глаз объектива, я об этом не думал, но фотографа всё равно опасался. Я стоял, ухватившись за кроватную ножку, и даже думал, не ускользнуть ли мне под кровать – уж очень заманчив был сумрак, где никакой бы фотограф меня не достал, – но всё же сдержался и выстоял до конца съёмок. Когда же фотограф ушёл, я залез на кровать и начал отвинчивать металлические шарики с её спинки – те блестящие шарики, в которых смешно отражалось моё приплюснутое и расплывающееся лицо.
Хотя, с другой стороны, что я так уж накинулся на фотографию? Даёт она нам много больше, чем отнимает, а всевозможные искажения, приблизительность и неполнота присущи любому виду искусства. В конце концов, на этих страницах, где я пробую воскресить свои воспоминания о доме прадеда в Выгорном, неточностей и огрехов куда больше, чем в том фотоснимке у ножки кровати. Так что спасибо тебе, деревенский фотограф, за то, что ты честно хотел покрасивее снять того мальчика, который спустя пятьдесят один год будет описывать то, как он, ухватившись за ножку кровати, испуганно и напряжённо смотрел в объектив.
Дом Дениса Максимовича был хоть и хатой, нохатой просторной и, в целом, не бедной. И крыт он был шифером, и полы были в нём набраны из широченных досок, и крыльцо было высоким, как бы парящим и над двором, и над проходившею рядом дорогой.
А всего через два дома по нижнему планту стояла хата Нинки, нашей дальней родственницы, жившей одиноко и трудно. И вот это была уже настоящая мазанка, жилище почти первобытное по затрапезности, бедности и тесноте. Ведь мазанка – это плетень из лозы, обмазанный глиной с навозом. Покрыта она была соломой, самым дешёвым строительным материалом тех мест. Помню, издалека Нинкин дом походил на этакий гриб под округлой соломенной шляпкой – гриб, на облезлой от времени ножке которого имелось оконце и низкая дверь. Эта дверь, утеплённая чем только можно – одеялом и старой фуфайкой, драной клеёнкой, полосками войлока, – была ещё для надёжности перехвачена крест-накрест прибитыми брезентовыми вожжами, иначе всё то, что висело на двери, непременно осыпалось бы с неё. Глянешь мельком на эту дверь – а такие, обитые разнообразным тряпьём двери были у многих, – и она вдруг покажется спиной ветхой, согбенной старушки, которая сунулась в хату, да ненароком застряла в дверном проёме.
Дверь открывалась с кряхтеньем и жалобным скрипом. В полутёмных сенях стояли вёдра с водою – колодец на низах огородов у речки, из которого их наполняли, так и назывался «Нинкин». А затем раздавался скрип ещё одной двери, которая вела в саму хату. В жаркий полдень – а я заходил туда только летом – было очень приятно ступать босыми ногами по земляному прохладному полу.
Что было в той хате? Печь, лавка, стол, ворох тряпья на кровати в углу да окошко размером в четыре ладони. Вездесущий картофельный запах исходил и от чугунка, что стоял на загнётке печи, и от ведра возле входа, в котором всё та же картошка, но только помельче, ждала, когда её потолкут курам или поросёнку. И хоть мебели в этом жилище почти не имелось, но было так тесно, что не повернёшься. И это ещё на дворе было лето; а что же творилось зимой, когда всё свободное место возле печи бывало завалено мёрзлой соломой? Ведь больше в тех курских краях топить было нечем – дрова или уголь раздобыть было трудно, – и только солома спасала людей в холода. Топка печи набивалась её золотистым, шуршащим, ломавшимся ворохом; потом подносился огонь, и этот соломенный ворох сначала наполнялся молочным дымом, потом в дыму промелькивал алый, трепещущий проблеск, а потом вдруг и печь, и вся хата озарялись враз вспыхнувшим пламенем! Какое-то время докрасна раскалённые стержни соломы ещё сохраняли свою хрупкую архитектуру, но скоро рушились, и в топке печи оставался лишь слой невесомого серого пепла.
Не берусь даже сказать, сколько охапок заиндевелой соломы приходилось Нинке затаскивать в хату, а после заталкивать в печь, чтобы хоть сколько-нибудь протопить своё занесённое снегом жилище. Но хорошо представляю себе, как гудел жаркий огонь, бросавший алые блики на гору соломы, лежавшую возле печи, как искры летели в трубу, а хозяйка, отворачиваясь от жара, заметала в совок те дымные красные брызги, что вылетали из топки и падали на пол. Ещё хорошо, что полы в той хате были земляными, а стены глиняными, а то бы Нинкина хатка не пережила при топке соломой и одну зиму.
На чём только держалась тогдашняя деревенская жизнь! На каких-то курушках-гнилушках, верёвочках, щепочках, на соломе и на коровьем навозе, на ивовой лозе и на глине, на полусопревшем тряпье – на чём-то таком, что уже и само было почти прахом. И сколько было таких вот, как Нинкина, хат – с земляными полами и кровлями из соломы, с дверьми, утеплёнными всяким случайным тряпьём, и с одинокими бабами, что коротали в них долгие зимы…
Пожить в хате прадеда довелось недолго. Мне ещё не исполнилось пяти лет, как я вместе с родителями переселился в другие места, и вместо привычных стен хаты жизнь продолжилась в стенах кирпичного дома. Я бы, может, и вовсе не вспомнил об этом переселении – мало ли где, кто, когда и как жил? – если бы ныне, полвека спустя, не увидел, насколько всеобщим, охватившим не только страну, но и всю нашу планету было подобное перемещение. Повсеместный исход в города и разрыв с традиционными формами жизни стал всечеловеческим и глубоко драматичным событием. Всюду, на всех континентах, люди оставляли дома, в которых она появились на свет и в которых жили их предки, чтобы в новых домах и на новых местах искать себе лучшую долю.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































