Текст книги "Дом, дорога, река"
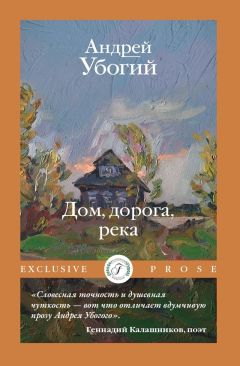
Автор книги: Андрей Убогий
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)
VI
Поход начинается с карты. Сидеть над ней можно часами – и созерцание превращается в странствие. Что-то важное говорят душе топографические значки, эти цифры и буквы, сетка дорог и тропинок и контуры замкнутых горизонталей, которые напоминают годичные кольца на срезе дерева… Всегда представляешь, как в реальности выглядит то, что помечено знаками карты. Вот крупа деревень, что всегда гуще посыпана возле рек, а на самом-то деле там можно увидеть дома над излучиной по каменистому берегу, подзатопленные плоскодонки, мостки и стирающих баб, дымы от топящихся банек, бредущее стадо, слоистый туман над картофельным полем… Вот пунктиром отбитые тропы в лесу, но в реальности их отыскать невозможно – приходится лезть, как лосю, напролом. Вот часто положены кольца горизонталей: это сухие холмы с волокнистою длинной травой. Если на этом пригорке не окажется кладбища, то можно устроить отличный ночлег: ни тебе комаров, ни густого тумана. Вот здесь, скорее всего, непролазные заросли в пойме реки; здесь, в заболоченном хвойном лесу, частокол мертвых елей, и здесь неожиданно, с хлопаньем, взлетит из-под ног грузный тетерев…
Иногда кажется, в сам-то поход можно уже не ходить – хватит и созерцания карты.
Почему так томится, так ноет душа над потрепанной старой двухверсткой? В этом томлении вспоминается как бы то, что было еще до начала земного пути. Некий «я» – тот, еще неродившийся «я», – словно тоже сидел, долго грезил над некою картой, ему еще предстояло свершить окончательный выбор. Он должен был выбрать земную судьбу – заявить о маршруте еще неначавшейся жизни. Быть может, тогда, в смутных сумерках предбытия, уже зародилась любовь к этим пыльным дорогам и тропам, по которым и ныне влачится мое утомленное тело?
Но пора собираться. Прячу карту в пакет, туда же кладу карандаш и блокнот, нитки с иголкой, бинт, комок ваты, облатку с таблетками аспирина и капроновый шнур. Рюкзаку, с которым хожу до сих пор, сорок три года. Еще отец купил его на одну из первых рабочих получек, году в пятьдесят шестом. И вот он доныне нам служит, уже поистершийся, выцветший до белизны.
Что взять из одежды, кроме того, что надену? Две пары носков, толстых и тонких. Может, взять три? Все же ноги – первейшее дело в походе. Обязательно легкую кепочку с козырьком: по жаре без нее далеко не уйдешь. Старый, истершийся на локтях свитерок для ночлега. На случай дождя есть прорезиненный плащ с капюшоном – лет двенадцать назад купил его в «Военторге». Занимает он полрюкзака и довольно тяжел, зато как приятно бывает его развернуть, когда первые гвозди дождя уже вбиты в дорожную пыль, и накрыться военною этой накидкой, и продолжить ходьбу посерьезневшим, строгим, размеренным шагом…
Так, с одеждой покончили. Нож не забыть наточить. Обязательно спички: несколько коробков, да в пакетах, да в разных местах рюкзака. Хорошо бы и старых газет на растопку. Понимаю, что баловство, что можно надрать бересты или наломать сушняка из чащобы еловых ветвей. Но в конце перехода, случается, так устаешь, что возиться с растопкой, да еще в мокром лесу иль на голом речном берегу сил уже не остается.
Наконец, кладу жестяную любимую кружку. Она дочерна закоптилась, помялась; к ней подвязана дужка из проволоки, чтобы подвешивать над костром. До чего хороша! Хоть собирай в нее милостыню, хоть заваривай чай, хоть свари в ней грибы или несколько раковин пресноводных беззубок.
Внутрь кружки кладу пакет с чаем. Это весь мой припас-провиант. Случается, правда, беру сухарей, чтоб сбить самый острый голод. А остальную еду мне подарит дорога. Голодать никогда не случалось. То надергаешь из болотца рогоза, наломаешь молоденьких пазушных листьев, похожих на зубы дракона, и сваришь душевный супец; то, катая в ладонях колосья, налущишь восковых зерен пшеницы – и мучнистою сладкою кашей наполнится рот. То залезешь в малинник или черничник – и выйдешь минут через сорок, искусанный комарами, с фиолетово-синими пальцами и с таким же, наверное, ртом…
Живя на границе меж прошлым и будущим, мы не можем удержать бытия в настоящем. Мы непрерывно летим по касательной к жизни, из былого в грядущее, а точку касания не назвать даже краткой, ибо она исчезающе, невесомо мала. Те буквы, что были написаны в эти секунды, уже невозвратное прошлое; то, что я напишу спустя миг, еще несвершенное будущее. Как поместиться меж двух жерновов, перетирающих в пыль нашу жизнь, как удержать миг реальности? Мы живем, словно в бреду: в любую секунду находимся либо в прошлом, среди воспоминаний, либо в грезах о будущем. И в том, и в другом случае мы общаемся с призраками, а объекты реальности часто не могут пробиться к нам сквозь туман субъективных иллюзий.
И в этом-то смысле дорога – одно из волшебных лекарств. В начале любого похода, с первых шагов, изменяется восприятие мира. Буддист применил бы особое слово «сатори», то бишь просветление. Да, это вправду похоже на то, как будто с глаз сняли повязку. Мир молодеет, свежеет. Словно ты неожиданно выпал из поезда времени – и отчетливо, как бы впервые, увидел щебеночный склон, мать-и-мачеху, шпалы и радужный отблеск мазута – увидел все так подробно и крупно, что понял: этот мир никуда не исчезнет, он останется здесь, в настоящем…
Дорога есть способ борьбы не только с пространством, но и со временем. Кажется: лишь когда я иду по дороге, я в действительном смысле живу. И больше того, лишь во время ходьбы я уверен в реальности мира. Дорога спасает не только меня – ради этого, может, не стоило б ей и стараться, – но спасает от времени весь окружающий мир. Ведь если хотя бы одна пара глаз может видеть все с точки зрения вечности, значит, есть эта самая точка, и для мира есть шанс этой вечности принадлежать.
Но что толку молоть языком? Лучше встать да пойти. И почувствовать всем существом, что мир есть обочина некой дороги, что сердцевину, ядро бытия составляет стремление мира стать чем-то иным, нежели то, что он есть. Только дорога – как скажет философ, бытие в его становлении – и есть настоящая жизнь, жизнь живая…
Вы замечали, что ноги шагают в одном ритме с сердцем? Само сердце как будто стучит о дорожную пыль и бредет сквозь марево зноя…
Потом, уже после похода, сама-то ходьба вспоминается мало. Помнишь привалы, ночлеги, купанья в реке, разговоры и встречи, внезапные ливни, костры и озноб в предрассветном тумане… А то главное, из чего поход состоит, в памяти как-то тускнеет – ходьба забывается быстро, как сон.
Но в ней есть своя мистика, есть нечто, что погружает идущего в состояние транса. Душа засыпает и пробуждается одновременно. Укачанный зноем, ты сонно плывешь над дорогой – забыто и время, и цель путешествия, даже усталость забыта, – но тут же приходят и яркие, свежие мысли, вспоминается то, что уже не надеялся вспомнить.
Бывает, во время ходьбы говоришь сам с собой. Или, точней, с тем невидимым, кто – в этом ты совершенно уверен – тебя видит и слушает. Со стороны ты похож на безумца. То вдруг нахмуришься, то засмеешься, то что-нибудь скажешь, то насторожишься, словно пытаясь расслышать ответ. Бывает, и песню споешь иль загнешь анекдот, да и сам засмеешься, как будто услышал впервые.
А с кем ты ведешь бесконечные эти беседы? Кто, кроме пыли, травы, кроме жалобных чибисов, слышит полубезумные речи? Но тот, кому надо, услышит и поймет, несмотря на сумбур, все, что ты хочешь сказать…
Идти хорошо, коль дорога не очень разбита: если не пылью, а мелкою травкой покрыты обочины. Подорожник, полынка, змеиный горец, клеверок, лебеда да ромашка – всегдашние спутники пеших походов. И насколько родней человеку дорожная эта трава, чем, скажем, обильная зелень болотного луга или мшистое царство лесной непролазной чащобы. Полынь-подорожник, ромашка да донник – они как бы сделали шаг из природы навстречу людям; они первыми ощутили ту жажду смысла, которая и привела их к дороге.
Впрочем, и пыль хороша. Хорошо опускать утомленные стопы в этот осадок белесого неба. Пыль, как сухая вода, заливает выбоины и колеи. Вон вдалеке загудел грузовик – и словно завеса поднялась над полем. Там, в пыли, не видно границ меж землею и небом; это память о тех временах, когда обе тверди были единым, клубящимся облаком пыли…
О многом случается думать, шагая в пыли. О том, например, что одна только пыль остается для вечности, что время не только не властно над нею, но время само превращается в пыль. Как дробится земля на корпускулы пыли, так и века рассыпаются в прах до мельчайших частиц, неделимых мгновений: из них-то как раз и составлена вечность. Пыль – колыбель и могила, омега и альфа, начало всего и всему же конец, пыль есть то, что оставим мы после себя и что вечно в себе сохранит сокровенную тайну дороги…
Но кроме пыли и трав есть еще непременные спутники: овода. Они поднимаются, как самолеты, с земли и атакуют с решительной злобой! Их укусы, как угли, обжигают во время ходьбы. Там, где гоняют коров, и где оводов всегда много, идешь напряженно. Пространство тогда превращается в гудящую зыбкую сеть, и с интервалом в одну-две секунды в тебя ударяется серая пуля…
И до чего живучи гундосые бестии! Ударишь его, паразита, ладонью, раскатаешь в хрустящий комок, бросишь под ноги, а он, как бессмертный Кощей, вновь взлетает!
Овода – воплощенная злоба. Может быть, это бесы являются в облике подлых тварей? Как я сострадаю коровам… Аж плохо становится, только представишь себя на месте какой-нибудь Милки иль Зорьки в жаркий день на лугу, внутри грозно гудящей и вьющейся тучи. И как с коровами вдруг случается «зык», когда они, не разбирая дороги, с ревом ломятся сквозь кусты, – так, бывало, и я, бестолково махая руками, пускался бежать. Да что проку? То-то небось хохотали злодеи: давай-давай, парень, попробуй от нас спастись!
Против них одно средство: презрение. Как ни странно, на оводов это действует. Их укусы уже не так жгут, и в конце концов овода теряют к тебе интерес. Как будто их цель и была только в том, чтоб тебя напугать и унизить, чтоб надругаться не столько над телом, но в основном над душою. И если одолеть в себе панику, прекратить суетливое хлопанье по бокам, по спине и по шее – овода отступаются…
Мир меняется, когда в нем возникает дорога. Вот представьте себе непролазную чащу, бороды мха и наросты лишайника на стволах, запах прели, трухлявые пни, паутину, пружинящий мягкий подстил под ногами – там муравейники, корни, грибницы, труха и опавшие листья – и представьте себе человека, забредшего в эту чащобу. Его окружает бессмысленный хаос природы, который готов растворить человека, размазать его по бесчисленным глоткам, желудкам, корням.
Чащоба дремучего леса и сама-то страдает от той круговерти, от коловращения органических жерновов, которые все перемалывают в себе, но во вращении которых не видно ни смысла, ни цели. Зачем копошатся и ползают, чавкают, поедают друг друга, совокупляются и умирают все эти неисчислимые мириады существ? Зачем эти сети корней, что опутали землю, без устали кормят зеленые листья, гонят к ним соки земли, а затем сами питаются трупами этих же листьев? Не знаю, как вас, а меня в чаще леса одолевает тоска. И она совпадает с какой-то всеобщей тоской, с желанием мира найти в себе некий просвет…
Но вот лес редеет, деревья расходятся, над головой открывается небо – и выходишь на старую, в лужах, дорогу. Как описать этот вздох облегчения?! Да и лес – посмотри! – рад дороге не меньше тебя. Куда-то уходит угрюмость чащобы: как будто на мрачном лице появляется вдруг улыбка. Вот ветерок прошумел по подлеску, стряхнул с листьев остатки дождя; вот солнце упало на мокрую зелень, забилось в сетях задрожавшей листвы и просыпалось сквозь, до земли, до травы, где осталось гореть ярко-красными искрами земляники… Лес сразу ожил, встрепенулся, задвигался и задышал. Он почувствовал: раз есть дорога и она нас куда-то ведет – значит, есть в мире что-то и кроме дремучей чащобы…
Случалось бродить и звериными тропами. Правда, нечасто – я не охотник, – но все же, сбиваясь с пути, забредал я и в топи, и в буреломы.
Помню, шел вдоль Угры. Ничто вроде бы не сулило приключения. Впереди, за чащобою хмызника, в топкой низине, я уже видел палатки на склоне высокого берега – к ним и хотелось бы выйти. Решил двинуться напрямик, сквозь чащобу. К тому же какие-то тропки ныряли в лозняк – значит, кто-то ходил здесь. Но когда я шагнул в эту сырость, в крапивные джунгли, когда комары поднялись, как звенящий туман, когда под ногами захлюпала торфяная, покрытая ржавчиной, жижа, я понял, что тропы-то были кабаньи… С каждым шагом я погружался в урему, в такие места, где, может быть, отродясь не ступала нога человека. Но тропы-то были! Они-то и не давали вернуться, они словно заманивали: «Ну что ты, не бойся, вот-вот идти станет легче…»
Ноги вязли уже по колена. Комары, обезумевшие от неожиданной легкой добычи, серым слоем ложились на шею, на руки. Хотя день был ясным, но здесь жили сумерки. Продираться сквозь заросли было так тяжело, что в азарте усилия некогда было подумать: безумец, куда ты идешь? Грязь под ногами была ледяной: сквозь торфяные наносы пробивались бесчисленные родники. Разрывая какие-то стебли, то и дело поперхиваясь комарами, утопая в податливом торфе, яростно и бестолково я бился в зеленых сетях. А тропы, что заманили меня в этот ад, будто смеясь надо мною, то разделяясь, то снова сходясь, увлекали все дальше в болотные дебри.
Хорошо, что я вдруг упал. Встал из грязи с трудом, перепачкавшись, но зато наконец-то одумался. Сквозь комариный назойливый звон пробивалось журчанье и плеск: неподалеку несла свои воды Угра.
Но даже к ней удалось пробиться не сразу. Чащоба держала так цепко, что я был без сил, когда наконец-то ногами почувствовал теплые воды реки. Лозняк нависал над водою – тело мое еще было в плену, – но речная, свободная ширь уже открывалась глазам. Сдернув рюкзак и подняв его над головой, обрывая последние цепкие щупальца хмеля, я упал в реку, и тотчас меня понесло, подхватило течение. Как было радостно плыть, ускользая из плена уремы!
По человечьим тропинкам ходить все же много приятней. С нежностью отношусь я к незрелым, молоденьким этим дорогам. Они то вьются по склону, то прячутся в мокрой траве, то с каждым шагом взрослеют, мужают, становятся шире или, напротив, тоньшают, и вдруг пропадают меж кочками луга под крики мятущихся чибисов… Общенье с тропинками радует, но утомляет. Не знаешь, чего от нее ожидать, что вдруг взбредет в ее голову. Или поманит-поманит – и бросит, словно капризная девушка; или вдруг быстро состарится, станет проселком – и тебе самому уж придется оставить ее и искать себе новой, молоденькой спутницы…
Вон стожок на лугу, у обочины. Не пора ли устроить привал, приготовить чаек, подремать под мышиные шорохи-писки? А то уже ноги гудят, как столбы телеграфа, и скука усталости застилает рассеянный взгляд.
Устроимся здесь, с теневой стороны. Стащим на землю охапку соломы, сбросим рюкзак да потянемся всласть…
Так, первым делом чайку. Ручеек побулькивает в овражке через дорогу. С кружкой в руке спускаюсь сквозь заросли сныти. Где же ручей? Ага, вот он, меж торфяных черных кочек поблескивает вода. Осторожно, ступив на поваленный стволик ракиты, зачерпываю из ручья. Вода совершенно прозрачна: листья на дне видны даже лучше, чем на берегу.
Теперь костерок. Нужен-то он небольшой: хватит нескольких сучьев, подобранных возле дороги. Для растопки срываю пук пыльной засохшей травы да походя поднимаю папиросную выцветшую коробку: прошлым летом здесь кто-то покуривал «Приму».
Скоро вода забурлила. Пока чай настаивается, разуваюсь и разминаю гудящие стопы. Вот блаженство! Когда сел, привалился к стожку, отхлебнул горький чай – взгляд поплыл по-над пожнями, над золотистой стерней. Может, мы терпим, куда-то идем, устаем только ради привала? Ради вот этих минут, когда тело лежит, наполняясь истомой, а душа уплывает в лиловую мглу горизонта, в манящую даль?
А потом погружаешься в сон. Дорожные сны, при всей их непрочности – то зудят над лицом комары, то озябнут ноги, то какой-то комок или корень надавит под ребра, – эти сны все же слаще, чем сны на перине. Иногда словно валишься в яму – и там, в глубине, пропадаешь. Иногда тебя словно раскачивают на громадных качелях: куда-то летишь, но затем возвращаешься снова в реальность. Приоткроешь глаза: видны глыбки земли и сухая коровья лепешка, паук-сенокосец, перебежавший по ней. Дальние сосны – не больше метелок травы. А затем улетаешь назад, в хаотичную смесь смутных образов и голосов…
…Просыпаешься, а глаза твои влажны от слез. И на душе так легко, будто во сне ты покаялся и причастился. С наслаждением тянешься, скользя пятками по соломе. Видишь синий просвет меж тугих облаков; стрижи неустанно мелькают вверху, и небесная синь мгновенно сгущается вслед пролетающим птицам. Слышно, как ветер шуршит, задирая вихры на макушке стожка. И все, что ты видишь спросонья, кажется новым, проснувшимся вместе с тобою: дымок над кострищем и птица-овсянка, пригнувшая яркий малиновый шар бодяка, и дождь из соломин, что ветер понес над дорогой, и куст лозняка, показавший изнанку серебряных листьев…
Шел в Оптину и уже подходил к Перемышлю. Долина Оки изнывала от зноя. Поселок был виден вдали: сады и домишки, как миражи, дрожали в струящемся мареве.
Но дорога брала все правей: она огибала широкую чашу приокского топкого луга. Эта петля прибавляла не менее трех километров пути. Интересно, нельзя ли пройти напрямик?
Сутулый старик ворошил сено обочь поднимавшейся в гору дороги. Порывы горячего ветра несли травяной легкий сор. Старик делал шаг, цеплял граблями линялые космы травы и резко, как будто сердясь, переворачивал их. Седая щетина блестела на темных, обветренных скулах.
– Слышь, дед! Через луг, напрямик, я пройду?
Старик не спеша обернулся, посмотрел на меня, потом, щурясь, долго смотрел вдаль над кочками луга, потом его взгляд возвратился ко мне. Дед оценивал даже не столько дорогу, сколько меня, ходока. Наконец он серьезно и твердо сказал:
– Значит так, парень. Если х… чить – пройдешь!
И я пошагал напрямик…
Давно хотел посетить Коренную пустынь, что на Курщине. В тех местах я родился; бледное небо подстепья и черная, жирная, словно масло, земля – та земля и то небо, меж которыми я прошел по своим первым дорогам.
Но был и еще мотив, результат, может быть, совпаденья, случайности – той случайности, что, по Пушкину, есть орудие Провидения. Поселок, выросший возле обители и называвшийся ранее «станция Коренная», после Второй мировой войны был назван «Свобода». Когда я об этом узнал, то некая тайная связь укорененности (коренная же пустынь!) и свободы как будто на миг перестала быть тайной.
Свобода… Как мало ее в нашей жизни, и как мы тоскуем по ней и в глубине души верим, что мир есть лишь плен, но что родина наша – свобода. В пространствах свободы – я понимаю, что слово «пространство» не очень-то здесь и уместно, что оно уже несет мысль о границе, – но все же «там», а не «здесь» лежит наш исток. Покинув свободу, мы пали к ногам объективной причинности, смерти и времени; но каждый из пленников таит в себе мысль о побеге. Душа ищет спасительный выход, тот путь, который, ведя нас вперед, возвратит нас туда, где мы были когда-то…
И вот я сказал кассирше на Северной автостанции Курска: «Один билет на Свободу, пожалуйста». Она улыбнулась, улыбка ее была чуть виноватой. Кассирша словно бы догадалась, что за свобода была мне нужна, и понимала: за восемь рублей билет на такую свободу продать она мне не могла. Но я был рад и тому серому листику, что лег на тарелочку в полукруглом окошке.
Еще было рано, но утренний зной уже затопил автостанцию. Ровно в восемь подъехал раздрыганный пыльный автобус, мы – полудюжина пассажиров – расселись по жестким сиденьям и покатили по Курску.
Я люблю этот город, его светлые улицы, ветер и пыль, что гуляют по ним, и чувство степной древней воли, которое оживает в душе, когда смотришь вдаль с курских холмов. Улицы падают вниз – и как будто летишь, вслед за взглядом, к сиреневой мгле горизонта. «А мои-ти куряни – сведоми кмети…» – всегда вспоминается «Слово», и гордость и сладкая горечь сжимают вдруг сердце…
Подъехали к площади Перекальского, обогнули здание мединститута и покатили вниз, вдоль трамвайных путей, к мосту через Тускарь. Несмотря на второй месяц засухи, река почти не обмелела. У тоннелей около железнодорожных путей автобус остановился и быстро наполнился возбужденными, потными дачниками. Разговоры были одни: о небывалой, пугающей суши. Под причитанья о засухе мы и выехали из Курска.
Дорога шла меж свекольных и кукурузных полей. Их чахлая зелень уж, кажется, и не надеялась выжить. Прерываясь, тянулись полосы лесопосадок. Солнце било в окно; пыль, висевшая густо в горячем салоне, делала видимыми косые солнечные лучи. Скоро пейзаж оживился, дорога поднялась на холм. Свежепобеленная и по-южному коренастая церковь проплыла мимо автобуса.
– Это еще не Свобода? – с надеждой спросил я соседку.
– Нет, это Тазово. Свобода будет минут через десять.
Осеняясь крестом, я ступил за ворота. Редкие сосны не закрывали вольного вида: спуска к реке, полосы серебристых ракит, бледно-зеленого поля овсов и далеких полей, перелесков и сел, что пестрели до самого горизонта.
Женский скит, примыкавший к обители, был, как видно, устроен недавно: следы новоселья – доски, поддоны, корыта из-под раствора – попадались на глаза. Светлое трехэтажное здание, в котором жили послушницы и монахини, нарядно белело на склоне. Когда я спустился к нему, то почувствовал запах жареных блинчиков. Зазвякал большой колоколец, созывавший сестер к завтраку. Жестяной этот звук казался одновременно казенным, но и уютно-домашним. Внизу рокотал «Беларусь»; озабоченно-радостные голоса доносились от птичника, с хоздвора.
Я постоял перед домом, глядя на длинный пруд, протянувшийся у подножья холма.
– Здесь богатые ловли, – сказал коренастый чернобородый мужчина, оказавшийся рядом. – Всю епархию карасями снабжают.
Он же вызвался проводить меня к монастырю.
– Мне самому туда надо, – пояснил бородач. – С батюшкой нужно поговорить.
По длинной лестнице мы спустились, пошли вдоль пруда. Над водою торчали удилища рыбаков.
– Дикие люди, – сказал мой попутчик, посмотрев на рыбачивших, видимо местных, парней. – Сколько их ни гонял настоятель, все равно сюда ходят. А еще хотят, чтобы Бог им дождичка дал… Да за наши грехи нас огнем спалить надо!
С интересом посматривал я на случайного спутника. Лет пятидесяти, с выраженьем лица озабоченно-гневным, он не был похож ни на послушника, ни на мирского вполне человека. Кто же он – трудник? Или просто паломник, как я?
– Я тут живу недалече, дом строю, – пояснил он, угадав мои мысли. – Игумен благословил.
Дорога вела нас над Тускарью. Солнце стояло уже высоко над ракитами.
– Вот, смотри: здесь недавно чудо свершилось! – Мой спутник замедлил шаги, указал на часовенку, под которой журчала вода, и трижды поспешно, с поклонами, перекрестился.
– Там источник?
– Да, живоцелебный. – Лицо провожатого из гневного сделалось умиленным, и он на ходу стал рассказывать. – Приехали слепорожденные, мать и дочь лет двенадцати. Ну, привели их сюда. Помолившись, попили они сей водицы. Дочь говорит: «Ой, мама, вода-то сла-адкая!» И увидела, как сама Богородица стоит перед ней, улыбается и так медленно-медленно поднимается к небу… Понимаешь, слепая – увидела! Ну, закричала: «Мама, мама, смотри!» – и прозрела!
– А как же мать?
– Что с матерью стало, не знаю, – честно признался рассказчик.
Дорога, которой мы шли, была удивительно хороша. Ракиты, ольхи, молодые клены и ясени бросали ажурную тень, а их кроны светились на фоне синевшего неба. Тускарь чернела в провалах кустов. Нарастал тот полуденный звон – треск стрекоз, басовитые взмахи промчавшихся пчел, зудение мух, комариный дискант, вдруг коровье густое мычанье на том берегу и сухие сыпучие пилы кузнечиков, суетливо точивших нагревшийся воздух, – нарастал тот полуденный звон, что всегда совпадает с зенитом июльского дня.
Дорога пошла вверх по склону, кровь сильней зашумела в висках, и скоро мы вышли на открытое место. Сияние купола и нарядные пестрые стены монастырского главного храма увиделись прежде всего. А потом взгляд упал на чугунное изваяние: сутулый большой человек, воздев руки, стоял на коленях – то ли молясь за землю, лежавшую перед ним, то ли отечески благословляя ее. Это был памятник Серафиму Саровскому.
– Святое местушко… – умиленно сказал провожатый.
Распрощавшись с ним, я спустился по лестнице. Внизу, у стены небольшого храма, было много людей. Из стены выходила труба, струя светлой, сверкавшей на солнце воды падала в деревянный бассейн. Именно этот источник забил из корней дерева в ту минуту, когда неизвестный охотник поднял лежащую здесь икону. Это случилось семьсот лет назад, и с тех пор ни на миг не стихал животворный поток корневой светлой влаги.
Люди крестились и подставляли бутыли под тугую струю. Подставил и я свою руку под мускулистую, скрученную наподобие корня струю. Ладонь обожгло, ледяные сверкавшие брызги окропили лицо. Вода несла столько света и силы, что даже солнце, стоявшее в пыльном зените, казалось усталым и тусклым по сравнению с блеском воды.
Чуть в стороне от источника народ совершал омовения в Тускари. Вот пожилая простоволосая женщина в длинной белой рубахе осторожно зашла в воду, перекрестилась и трижды – и «Во имя Отца, Сына и Духа Святаго!» – с головой окунулась в реку. Ее рубаха вздулась пузырем, а потом облепила худое нескладное тело.
За женщиной, держась за руки, в воду вбежали две девочки лет десяти, потом, опираясь на палку, вошел толстый старик, потом девушка в ярком купальнике – и всё новые люди, кто робко и осторожно, а кто смело бросаясь вперед головой, погружались в целебные воды. Тускарь была как Иордан: люди надеялись смыть в ее водах свои немощи и грехи.
Смущаясь купаться среди многолюдья, я зашел ниже, в кусты. Раздевался так медленно и так аккуратно укладывал на берегу запылившуюся одежду, как будто собрался уплыть далеко и совсем не вернуться. Клены и ясени чуть качались от ветра, то синева, то искристое солнце врывалось в прогалы листвы.
Раздевшись, с недоумением я осмотрел свое тело. Загорело оно «по-крестьянски», лишь выше пояса. Белые ноги сиротливо стояли на мятой траве. Вдруг показалось, что это все – руки, ноги, живот – как бы лишнее, что я мог бы, как снял и сложил одежду, снять это тело, оставить его на берегу, а сам бы, избавясь от лишней обузы, свободно поплыл по реке.
Так оно, в сущности, и получилось. Когда я прыгнул, ударился грудью о воду и ушел в зазвеневшую, зыбко-стеклянную толщу реки, я как бы выпрыгнул сам из себя! Под водой, в колыхавшемся сумраке, над барханами дна, валунами и полем волнистой травы заскользила одна невесомая тень, отголосок, мираж, почти не имеющий тела. Томленье в груди вскоре заставило вынырнуть и вдохнуть, но казалось, что я лишен плоти и река понесла одну мою душу.
Я нарочно почти что не греб, чтоб не спугнуть это редкое чувство. И какое-то время – минут, может, пять – я действительно был свободен! То погружаясь в стеклянную толщу воды, то подвсплывая, скользя под нависшие ветви ракит, невесомо вращаясь, не чувствуя тела, я скользил, исчезая и наконец обретая себя…
Мне казалось: я понял тогда, что такое свобода – как близко она, но и как далека, – как, казалось бы, прост, но и как бесконечно огромен тот шаг, что выводит нас всех, беглецов из мирского томящего плена, в пространства свободы…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































