Текст книги "Дом, дорога, река"
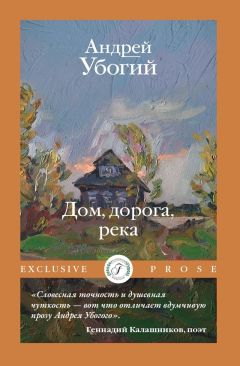
Автор книги: Андрей Убогий
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
VII
Зачем я пишу? Чего я хочу от исчерканной серой страницы, почему нельзя просто жить, просто думать, возиться в саду и работать в больнице, а после дежурства пойти и попариться в бане? Почему жизнь сама по себе оставляет какую-то словно прореху – чувство ошибки, обмана и пустоты?
Бывает, несколько месяцев не садишься к бумагам. Это обычно случается летом, когда множество разных забот – огородно-садовых, хозяйственных, денежных, прочих – так завалит тебя, что закрутишься, словно вошь на гребенке. И вот в эти-то дни, когда напряжение жизни становится так велико, она, жизнь, неудержимо и странно пустеет…
Но когда угрызения смутной вины все ж заставят тебя сесть к столу, жизнь понемногу начнет возвращаться. Неважно, получится что-нибудь в эти часы или нет – само усилие написания текста выводит тебя на единственно правильный путь. В таинственной точке рождения текста сходятся средство и цель, результат и процесс – сходятся путь к ускользающей жизни и сама эта жизнь…
Сама рукопись книги «Дороги» есть, конечно, дорога, есть длинный и сбивчивый путь продвижения от первичной тоски несвершенности и неполноты к сознанью (быть может, и ложному), что теперь, когда большая часть пути позади, во мне больше жизни, чем в тот давний день, когда началось путешествие.
Быть может, создание текста есть способ вернуться в утерянный рай, в то начальное место, где мы были когда-то, но откуда извергло нас грехопадение? И писание есть, по сути, молитва, попытка исправить ошибку земного, отпавшего от Божества бытия? Может быть, текст – это путь очищения и покаяния? А уж какими словами приносит его человек, не так уж, наверное, важно. Что говорил блудный сын, когда падал он на колени перед отцом, да и слышал ли, разобрал ли отец сквозь рыданья его покаянную речь? Важно лишь, чтоб оно, возвращение, было, чтоб не угасла в нас эта тяга Домой…
Когда-то дороги вели меня прочь из дома; теперь же приходит пора для иного, центростремительного, движения.
В молодости я был уверен, что центр жизни – там, вдалеке, за чертой горизонта. Само собой разумелось, что здесь, на окраине, ты находишься временно, но когда-нибудь непременно окажешься – там. Приедешь, бывало, в Москву и думаешь: вот ты приблизился к сердцевине жизни, и все, что возможно хорошего: любовь и успех, воплощенье желаний, какая-то небывалая дружба и яркая жизнь, – сбудется именно здесь, на этих серых асфальтовых стогнах, возле державных торжественных стен…
Но все изменилось. Теперь, после редких отъездов в столицу, возвращаюсь в бушмановский дом с ясным чувством, что наконец-то я выбираюсь к центру действительной жизни. Именно здесь, где растут мои дети и старятся мать и отец, где земля нам рожает картошку и свеклу, где случается иногда написать две-три страницы, – именно здесь средоточие, сердце всего.
Теперь мне важней, чем уехать куда-то, сходить за картошкою в погреб. Когда, утопая в глубоком, нападавшем за ночь снегу, отмыкаешь погребку и отлепляешь примерзшую дверь, а затем наклоняешься, чтобы поднять крышку люка, достать пенопластовый утеплитель, откинуть еще одну крышку, когда не спеша выполняешь все это, к душе вдруг нисходит покой. Смотришь, как вместе с тобою морозный клубящийся пар опускается в погреб. Стенки лаза выстланы инеем. Лампочка тускло, загадочно светит в углу. Картошка, как серые камни, лежит в закромах. Мерцают ряды огуречных разнокалиберных банок. Перекрытия – ржавые трубы – покрыты тяжелыми каплями конденсата.
Главное, здесь, под землей, тишина. Может быть, и не столько картошка нужна мне сейчас, а таинственный звук тишины, когда слышишь, как кровь монотонно толкается в уши. Иного движенья и звука здесь нет – здесь царит почти небытийный покой. Это словно зазор между жизнью и смертью; в погребе начинает казаться, что есть еще третье, особое состояние: когда жизнь не ушла, она только уснула, а смерть, подойдя на полшага, боится нарушить глубокий, торжественный сон…
Кирпичная красная кладка сумрачна – швы с раствором насуплены, как чьи-то брови. Погреб как будто сурово тебя вопрошает: кто ты есть и откуда взялся? Здесь, под землею, имеет значение только самая суть – только то, что способно вести разговор с тишиной. И, кажется, погружения в погреб есть проба того, что когда-то придется исполнить всерьез и надолго.
Спускаясь под землю, я словно слышу кряхтенье старух, моих прапрабабок, которые, причитая и охая, так же вот погружались в свои погреба. Здесь, ниже уровня почвы, текут родовые незримые токи. Земля их хранит, как хранила когда-то крестьянскую пищу.
Вспоминается тимской погреб бабушки. Спускаться в него приходилось чаще всего в предобеденный час, в самое пекло. Дверная ручка и дужка замка были так горячи, что жгли пальцы. Вот со стуком откинута легкая дверца, поднята крышка люка – и ты погружаешься в сумрак. Земляные ступени прохладные – приятно о них опираться ладонью. Задеваешь за стены, сухая земля осыпается на бумажные крышки многочисленных банок с вареньем и стучит по ним, как по маленьким барабанам. Думаешь: как же грузная, старая бабушка пробирается здесь?
Привыкнув к потемкам, видишь закром с остатками прошлогодней картошки, земляные сыпучие стены с крысиными норами, которые бабушка позатыкала тряпьем, видишь и цель своего погружения – банку сметаны.
Но не торопишься. Хочется здесь постоять и додумать ту мысль, что живет, ожидая тебя, на дне погреба, она так глубока, что способна явиться лишь в тишине и недвижности, в толще земли…
О чем эта мысль, я сказать не могу, ибо ни разу ее не дождался. Я чувствовал несколько раз ее приближенье, но в тот самый миг, как, казалось, она уж готова была озарить мою душу, я с постыдною спешкой начинал выкарабкиваться наверх!
Может, поэтому мне так нужен погреб, нужны погруженья в его глубину, чтобы когда-нибудь вновь я почувствовал приближенье таинственной мысли – и тогда наконец-то дождался б ее?
Сижу над своей «родословной» – разрозненными листками, на которых для памяти делал когда-то пометки. Кажется, стоишь на скрещенье дорог, на степном перекрестке, пытаясь увидеть, откуда явился я в мир. Родовые пути, расходясь и сливаясь, все тянутся с Юга, из курских или кубанских степей. В преданьях семьи есть история о гречанке, пришедшей пешком в село Выгорное, что на Курщине, с одним лишь цветастым ковром на плече. Крестьяне Герасимовы дали ей кров, а в скором времени кто-то из них взял ее в жены. Эта гречанка была прабабкой моего прадеда – семь родовых колен, около двух веков прошло с того дня, когда южная гостья, пригнувшись, вошла в сени хаты и попросила напиться. Ей дали ковш с той холодной, из нижних колодцев, водою, которую пил потом я, ее дальний потомок. Глоток ледяной, перебившей дыханье воды после долгой дороги по зною – то, что у нас с нею общее. В этой точке, как в точке причастия, сходятся все представители рода, пусть даже века отделяют нас друг от друга.
Вот предки по матери. Род Поповых, насколько возможно создать его обобщенный портрет, – род неспешных, ленивых, склонных не к действию, а к созерцанью людей. (Это, впрочем, относится только к мужской его части.) Прадед, который прожил девяносто три года, последние тридцать лет жизни возился на пасеке или сидел в палисаднике и смотрел на дорогу. С ленцою был и его отец, Максим Прокопьевич. Жил он бедно, почти не заботился о хозяйстве, и за его сыновей не хотели отдавать девок из богатых семей. Не хотели, но отдавали: за Дениса выдали красавицу Домну, дочь Тимофея Герасимова. Так белесые курские кудри Поповых были закрашены южною чернотой.
По отцовской же линии вижу смешенье казачьих и курских крестьянских кровей. Сохранилась фотография отцовского деда, кубанца Афанасия, сделанная незадолго до его гибели на войне с германцами. Папаха и бурка, ряды газырей – все, как у бравого казака, – но печальный, тоскующий взгляд. Знал ли он о своей скорой смерти или просто был склонен к тоске? Погиб и он, погиб – но уже на Второй мировой – и его сын Василий, мой дед. Жестокий век не щадил казаков. Да что казаков, крестьянский род Панюковых, род моей бабушки по отцу, послал на войну четырёх сыновей, а вернулся один лишь Георгий. Даже нельзя проследить, долговечны ли были мужчины в отцовском роду: все погибали солдатскою смертью.
Сколько судеб сошлось в перепутанных, сложных ветвях родословного древа! А что от всего сохранилось? Каракули на истертых листках, да моя ненадежная память, да ощущение странного ветра, который гудит над страницами родословных замет. И сейчас, вместе с чувством причастности роду, возникает упорная боль одиночества, даже сиротства. Чем больше я чувствую общность со множеством мне неизвестных, давно уж покойных людей, тем более изумляюсь. Для чего было нужно все это смешение судеб, кипение родовых, сложно спутанных сил? Для чего совершалось долгое странствие рода по дорогам эпох? Неужели затем, чтобы именно я наконец появился на свет и сейчас думал о том, для чего я родился? Души предков словно обратились ко мне с вопросом: «Скажи наконец для чего же все было?!»
Но я так одинок и растерян, что не в силах сказать то важнейшее слово, которого ждут от меня поколения предков и даже потомков. И родовое огромное колесо, которое как бы запнулось на мне, как на камушке пыльной дороги – и с надеждой прислушалось в миг остановки – вот-вот соскочит, покатится дальше, и на этот раз не узнав, куда и зачем оно катится…
Одно из отраднейших воспоминаний – то, как мы с отцом пили пиво в Тиму. Обычно приезжали к бабушке в начале осени, чтобы помочь с огородом, с картошкой. Утро проводили за письменными столами – отец в доме, я в дощатом сарайчике во дворе, – затем два или три часа работали в огороде, а перед обедом шли выпить пива.
Тим расположен на высоком холме; горизонт теряется в дымке сентябрьского жаркого дня, лоскуты черно-желтых полей тают в мареве, а небо кажется низким: рукою дотянешься. Идешь поселковою улицей, мимо заборов и палисадников, водоразборных колонок, скамеек, видишь весь затрапез полунищей и мелочной жизни – и вдруг меж домами открывается даль! Как разителен этот контраст поселкового быта с былинной, огромною волей и степью…
Отцу были знакомы каждый дом и судьба почти каждого жителя; он так много рассказывал о земляках, что мне начинало казаться, будто я тоже провел детство в Тиму.
Улица подводила нас к парку и кинотеатру. Колесо обозрения, тир, старый пруд – все дремало в безлюдье, в пятнистой тени тополей. Проходим котельную, возле которой искрится гора антрацита, и выходим на площадь. Она кажется полем, идем по ней долго, и ветер несет тополиные жухлые листья и пыль.
Пивная все ближе. С дороги ее не увидишь, надо свернуть за угол мебельного магазина. Земля здесь истоптана и усыпана множеством рыбьих скелетов, окурков, бутылочных пробок. Вот и небольшая зеленая будка, которую местный художник с наивною смелостью размалевал персонажами басни «Квартет». Аляповатые звери – козел, осел, мартышка, медведь, – кажется, так нарезались пивом, что им уже не до музыки.
За пивной будкой – пустырь. Он зарос той сухою и мелкою травкой, какой зарастают степные курганы. И небо над ним, как над степью: широкое, низкое. Птицы не то что летят, но как будто идут по нему, слышится мерный свист их устало махающих крыльев. Отделяет пустырь от поселка с одной стороны ряд кирпичных сараев (в которых хранятся пивные запасы), а с другой – нагроможденья бетонных плит.
Очереди, как таковой, у ларька не бывает. Мужики толпятся перед окошком, и те, кто поближе, суют в него трехлитровые банки. Каждый старается оттереть, отодвинуть соседа, но при этом все сдержанно вежливы и добродушны. Это напоминает кормленье птенцов: все галдят и толкутся и разевают иссохшие рты, а Шурка, хозяйка ларька, раздает трехлитровые, пеной облитые банки. Гудит мат-перемат, дощатые стены дрожат от напора толпы, но Шурке, грудастой, ухватистой бабе, это все нипочем. Иногда, чтобы показать свою беспредельную власть над тимским мужиком, она громко кричит:
– Да ну вас усех к щертям, горлопаны, охальники! Закрываюсь – и делайтя, шо хотитя!
Пивная струя бьет из крана почти непрерывно.
Когда она слабеет и утончается, Шурка кричит:
– Ну, хто посильнее? Кащайте!
За право подкачивать воздух в бочку здесь спорят: помощнику наливают без очереди. Как только зачмокает мотоциклетный насос, пивная струя напрягается и толстеет.
Отстояв в толпе минут двадцать, я несу две тяжелые банки к отцу. Садимся на теплую землю, спиною к шершавым бетонным плитам, и начинаем неспешный пивной разговор. Густая ячменная влага сладкой горечью тешит язык. Скоро и первый хмель – пьем-то мы на пустой желудок – кружит голову.
Солнце медленно льет свой пронзительный свет, зажигая осколки бутылок в траве. Летит одинокая галка: ты уже трижды успел глотнуть пива, а птица вот только сейчас добралась до зенита. Жизнь замедлилась, стала вязкой и очень глубокой. Любая ничтожная мелочь – метелка травы или камень, обрывок газеты, изогнутый прут арматуры, торчащий из серой плиты, – вдруг становится как бы значительней, больше самой себя…
А скоро – еще и полбанки не выпили мы на двоих – закрылось окошко ларька. Шурка вышла, неся пред собою огромную зыбкую грудь, и зашагала к сараям. Мужики потянулись за нею. Видимо, кончилось пиво, и нужно было забрать полдюжины бочек со склада.
Вот Шурка и шесть ее спутников скрылись в сарае, и мужики, один за другим, стали выкатывать пузатые светлые бочки. Подождав в тени, пока Шурка повесит на двери амбарный замок, все шестеро выкатили бочонки на солнце. Ослепительно вспыхнул металл: каждый, казалось, толкает не бочку, а солнечный сгусток!
Шесть пылающих солнц, громыхая, катились через пустырь, и шесть мужиков, наклоняясь на каждом шагу, усердно толкали сиявшие эти светила. Отчего-то вдруг вспомнились Древний Египет и жуки-скарабеи, «катящие солнце». И как будто вся суть, вся история человечества предстала сейчас на тимском пустыре! Вот они мы – одновременно навозники и титаны, золотари, но и спутники Солнца, пивные жуки-мужики, что свершают космической мощи работу…
Часто ли видим мы звезды? Может быть, лишь в морозные зимние ночи, когда выносим из дому мусорное ведро?
После тепла ступить в ночной холод – все равно что нырнуть в родниковую воду. Глаза начинают слезиться, ресницы смерзаются. Звезд немыслимо много в безлунной ночи: крупною солью посыпана твердь. Но, смутившись нечеловеческой их красоты, в первый миг опускаешь глаза. Ты еще слишком сыт и горяч – и еще не готов посмотреть в лицо Космоса. Надо хотя бы озябнуть как следует…
Ступаешь по снегу с оглушительным хрустом и визгом. Лицо обдирает наждак затвердевшего воздуха. Дужка ведра подмерзает к ладони. Грозная ночь! С мира как будто вдруг сняли крышу – и открылись знобящие выси.
Слышна кисловатая вонь: за углом двадцать третьего дома чернеют два мусорных ящика. Неожиданно два кота с диким воем, сверкая глазами, выпрыгивают оттуда. Я в сердцах бормочу: «Чтоб вы сдохли!» – и опрокидываю ведро. Мусор сыплется в черный зев бака.
И вот только теперь, с опустевшим ведром – сам как бы тоже очистившись, – поднимаешь глаза. От мусорных баков взгляд взмывает туда, где сияют граненые зерна январских торжественных звезд.
Ну, здравствуй, небесный охотник, привет тебе, друг Орион! Давненько, давненько не виделись: то я пропадал на дежурствах, то ты был сокрыт в облаках. Здорова ли пара твоих Гончих Псов, не устал ли ты гнать по небесному своду Медведиц, Большую и Малую? Вижу, вижу, что у тебя все в порядке: ярко сияет в ночи твой алмазный, застегнутый наискось пояс.
Здравствуй и ты, косолапая тетка-Медведица. Ишь, как вольготно раскинулась ты над ветвями берез, как лоснится морозная звездная шерсть, как бесшумно шагаешь ты в черных бархатах неба… Звезда посредине изогнутой ручки ковша всегда вызывает особенный интерес. Как известно, с ней рядом горит неприметная звездочка – и, пока человек может видеть ее, он еще зорок и молод. Ну и где ж ты, малютка, сегодня? Проморгавшись, я вижу, что рядом с крупной звездою небо как будто пробито серебряной тонкой иглой.
А вон там, к юго-западу, низко горит одинокий и царственный Сириус. Трагической гордости полон его переливчатый блеск. Как принц, удаленный в изгнанье, Сириус словно томится избытком своей красоты и одиночества. Он и рад бы его обменять на частицу тепла, на единый приветливый взгляд, но целую вечность никто не решится нарушить покоя изгнанника…
То ли дело – Плеяды! Им, подругам, не скучно в ночи: они бесконечный ведут разговор, оживленно мигают в зените январского неба. И я до сих пор не могу сосчитать, сколько звезд в той пригоршне алмазов. Их то шесть, то вдруг девять – а Бунин, я помню, описывал семь, – да еще Млечный Путь протекает как раз по зениту, и его индевелая зыбь размывает Плеяды, мешает считать их лучистые зерна.
Но уже ломит шею. Опуская лицо снова к мусорным бакам, я вижу их совершенно другими глазами. Вдруг понимаешь: насыпанный в баки, морозом прихваченный мусор есть не меньшее чудо, чем звездное небо. Что-то важное хочет сказать тебе эта груда объедков, кусков, лоскутов. В этом хаосе, в калейдоскопе частиц продолжается некая жизнь: мощь бесформенной мусорной плазмы таит в себе как бы возможность иных, освеженных распадом миров. Кожура и лохмотья бумаги, суставы изломанных зонтичных спиц, чьи-то берцовые кости, подметки, остатки прокисшего супа, бинты в пятнах высохшей крови, колготки, трусы, части розовых кукол, изгрызенных то ли собаками, то ли детьми… Наша жизнь непрерывно, с чудовищной скоростью превращается в хлам, но в ней сохраняется неразменный остаток, который становится только прочней оттого, что растет груда мусора, разливается море частиц – тех частиц, что не могут отнять даже малую толику целого…
Созерцание мусора и удручает, и радует. И в такие морозные ночи, когда над деревней стоят дымовые хвосты, когда мутный свет фонарей поднимается к небу столбами, когда птицы, случается, замертво падают в снег, не пробив затвердевший от холода воздух, – в такие-то ночи и чувствуешь: словно некая ось, упираясь одним концом в мусор, поднимается к тверди и крепится там, среди звездных сияющих шестерен, и на этой морозной оси с одышкой и хрустом вращается все мироздание!
Породнились мы и с калужской землей: четыре года назад схоронили здесь бабушку.
Вечером ясного майского дня копал ей могилу. Кладбище выходило к долине реки, на просторное, вольное место. Калужка текла за густой полосою ракитника; вдалеке, за полями и перелесками, были видны городские окраины.
Никогда не копал таких ям: длинных, в рост человека. Сначала рубил и откладывал дерн, затем пошла рыжая глина, и было так странно и жутко забрасывать ею зеленую траву… Медленно, словно в тяжелую воду, я погружался в землю. По колени, по пояс, по грудь – и все труднее было выбрасывать глину. Когда наклонялся, перед глазами была темно-рыжая осыпь земли, ворсины корней и следы от ударов лопаты; когда, выпрямляясь, выкладывал глину наружу, видел небо. Наземный же мир исчезал: он мелькал пред глазами, как призрачно-тонкая грань. Так пловец, уходящий под воду при каждом гребке, то видит небо, то погружается в сумрак воды.
Я копал – словно плыл меж землею и небом. По мере того как углублялась могила, сменился и грунт. Чистый белый песок, ни разу не видевший солнца, стал вылетать со дна ямы. «Хорошо ей тут будет лежать – сухо…» – подумал я то, что, наверное, думают все в таких случаях. И впервые подумал о смерти бабушки как о том, что уже совершилось, о чем уже можно и вспомнить…
Она умирала, кажется, без мучений – в полубреду. Не узнавая нас, близких, она подзывала давно уж умерших людей, среди которых прошло ее детство. Ее отец, мать и братья являлись в предсмертных томительных снах. И она окликала их, словно боялась, что ее позабудут, оставят одну. Она возвращалась к началу: воспоминания детства остались единственной, тонкой прослойкой, что отделяла теперь от иного. Жаль, что этих воспоминаний было немного, и душа не могла задержаться, подольше пожить в своем детстве.
…Неужели последним, итоговым впечатленьем души станет самое первое воспоминание? Неужели опять меня будет нести вдоль забора отец и я буду смотреть на мелькание досок со странной надеждой, с желаньем проникнуть туда, за ограду? Как будто лишь там, куда до поры я не в силах попасть, меня ожидает покой, утешенье и радость. И когда оборвется мелькание досок, когда распахнется манящий проём, мы шагнем за ограду – и скажут стоящие возле кровати: «Он умер…»
Хоронили бабушку в знойный, сияющий полдень. Погребальный автобус дребезжал на ухабах; пыль висела в салоне; все, кто сидел по скамьям, старались не смотреть на синий брус гроба, стоявший в ногах.
Проехали кладбище, остановились у крайних могил. До нашей ямы идти было метров сто. Конечно, не этот путь был последним для бабушки – она уже отходила земные дороги, – это последнее перемещение тела имело значение только для нас.
Как-то буднично и суетливо были пройдены те сто метров. Вынули гроб, подняли его на плечи – запах сосны стал сильнее на солнце – и понесли. Помню, едва не споткнулся о ржавый тросик, лежавший в пыли. Я тогда не испытывал никаких особенных чувств. Вряд ли причиною было бездушие. Просто то, что лежало в гробу, имело не более общего с бабушкой, чем ее дом и одежда. Это был прах – и отношенье к нему было мертвым. «И возвратится персть в землю, яко же бе, и возвратится душа к Богу, иже и даде ея…» Мы возвращали земле ее прах, ее «персть», мы торопились исполнить печальную эту работу, но в глубине души жило чувство почти что отрадное. Перед тем как гроб был закрыт, я посмотрел на иссохший, платочком обвязанный лик и подумал: «Нет, это не бабушка». Ничего от нее не осталось в этом строгом и незнакомом лице.
Но где же тогда была бабушка? Уверенный, что она не исчезла, я даже украдкой оглядывался, надеясь увидеть какой-то намек и подсказку.
Облака – или это казалось? – таили отгадку. Высокие белые горы торжественно плыли по небу. Их тени скользили по кладбищу, лугу, долине реки. Облака словно что-то хотели сказать нам, суетившимся возле могилы. Их бессловесный хор нес душе весть утешения. Особенно были пронзительны те моменты, когда облако наплывало на солнечный диск – и солнце за миг перед тем, как скрыться, бросало на землю сияющий веер лучей! Это было прощанье – с надеждой на встречу; и некая связь между тем, что случилось у нас на земле, и высоким небесным прощаньем мерещилась снова и снова. Спустя же короткое время облако тихо сходило с чела негасимого солнца – и вновь к нам летел сноп бессмертных лучей…
И вот я иду не один, но с детьми и женою. Меж полей, жарким днем, мы шагаем в любимое место: Красный Городок. Я назвал его «русским раем» – за редкое равновесие природного и человеческого. Здесь было поместье Натальи Петровны Голицыной – той, с кого Пушкин писал старую графиню в «Пиковой даме».
Дом Пиковой дамы виден издалека. На холме, на фоне белесого неба, темнеет полоска зелени – это липы старого парка, – а в зелень, как розовый камень в оправу, вставлен старинный помещичий дом. Он соразмерен полям, холмам, небу, паре кружащихся воронов – соразмерен и нам четверым, шагающим по дороге.
Точнее, шагает нас трое: Даша, трехлетняя дочка, сидит у меня на плечах. Ее укачало, сморило; как уставший наездник, она сползает с седла то в одну, то в другую сторону. Дима, сын – ему одиннадцать лет, – тоже, вижу, сомлел. Ничего, скоро отдых, купание. А вот жена, как ни странно, жару и ходьбу переносит неплохо. Казалось, она уж давно бы должна умолять о привале, но Лена шагает себе да шагает. Щеки только зарозовели, да светлые пряди прилипли к вискам.
Я привез ее на Бушмановку из Магнитогорска: как водится исстари, взял себе женку из дальней деревни. Ее родина – Южный Урал, рубеж меж башкирскою степью и Яицким войском, старинной казачьей землею. Емельян Пугачев бушевал в тех краях. И вот уже – трудно поверить! – двенадцатый год мы с женой плывем в одной лодке. Всяко, конечно, бывало, но мы, слава Богу, пока на плаву…
Несу дочку Дашу, как когда-то меня нес отец, но только не доски забора, а вольная летняя ширь, блеск и роскошь полудня открыта ее полусонным глазам. Вдруг и ей этот миг закрепится на целую жизнь, станет первым осознанным воспоминанием? Хоть бы, думаю, это случилось, хоть бы душа ее вольно росла меж гудящих от зноя полей… Этот первый мазок, который жизнь кладет на холст нашей памяти, значит немало. Он задает настроение, цвет и тональность всей будущей жизни. Так пусть не унылый забор будет памятен Даше, а бледная синь запыленного неба, кружащийся крестик высокого коршуна, и дорога, и шорох овсов, и та нега полдневного русского зноя, в которой плывешь, как в счастливом хмелю…
Дима, сын, загребает ногами дорожную пыль и хлестает прутком по головкам репейника, по мохнатым багровым шарам бодяка. Он, конечно, устал, но мысль о рыбалке подбадривает его.
…Помнишь, Дима, как утром удили мы окуней в пруду пиковой дамы? Один здешний житель указал нам местечко в охвостье пруда, где всегда стоит окуневая стайка. Оконце чистой, атласной воды было от берега метрах в пятнадцати, поэтому нам пришлось зайти в воду. Стопы вязли в податливом иле, прудовой донный газ, поднимаясь сквозь теплую воду, щекотал ноги, и пузыри его лопались на поверхности. Над ряской, над красными поплавками висели, дрожа, потом исчезали и вновь появлялись стрекозы. Солнце светило нам в правую щеку; разноцветные капли росы загорались на ветках прибрежных ракит. Пруд весь дымился в косых, уже знойных, лучах.
А как замечательно жадно клевал тогда окунь! Ловили мы на живца; было видно, как поплавок беспокойно дрожит от движений уклейки. Ждать приходилось недолго: резко и наискось поплавок шел под воду! Димка, ахнув, вытаскивал снасть – и сверкающий, красно-сине-зеленый, отчаянно бьющийся окунь летел в наши руки…
Дело было даже и не в окунях, хоть велик был азарт той удачливой ловли. Дело было в пронзительно-остром, почти болевом ощущении счастья, гармонии, полноты. Блики солнца на кожистых мокрых полях колыхавшейся ряски, остатки тумана, который клубился в тени нависавших кустов, и розовый дом над прудом, и пара стремительных горлинок, пролетевших над нами, плеск утиной кормившейся стаи, мельтешение химически-синих стрекоз и след самолета в безоблачном небе – это все было таким, каким может быть только в раю. Дима, счастливый, взволнованный, глаз не сводил с поплавка – я же млел в этой роскоши позднего утра…
…После купания, чуть обсохнув, садились перекусить. Семейные завтраки на траве были всегда одинаковы – хлеб, лук, сало, вареные яйца – и неизменно вкусны. Это была, можно сказать, пища как таковая – нечто прекрасное и совершенное в своей простоте. Так же был совершенен и летний сияющий день, и старинный голицинский пруд с его утками, ряской, с густым обрамленьем ракит и черемух. В том, что нас окружало, была достигнута высшая точка гармонии. И мы четверо – я, жена, сын и дочь – тоже каким-то таинственным образом были причастны тому золотому сечению жизни, входили в него как детали единой, большой и прекрасной картины. Больше того, мы сейчас составляли ее сердцевину, ее магнетический центр. Кто, как не мы, были рады и солнцу, и блеску – кто с такой благодарностью принимал все дары русского рая?
Кружка воды… Не дает мне покоя та кружка воды, которую пил я когда-то в жару в полутемных сенях деревенского нашего дома. Как сейчас вижу земляной гладкий пол, словно намыленный там, где пролилась вода, два ведра на скамье и зеленую кружку на мокрой фанерке, которой прикрыто ведро. Тому уж лет тридцать, но я помню все так отчетливо, что в самой этой яркости воспоминаний заключен важный смысл.
Рассказывали, как умирал Иван Денисович Попов, мой двоюродный дед. Сам родом из Выгорного, он прожил жизнь в Харькове, был вполне городским человеком. Когда же он умирал, то последнее, что было им сказано: «Ничего не хочу… Хочу кружку воды там, в сенях…» Кружка воды в тех же самых сенях выгорновского нашего дома, что так памятна мне, она же мерещилась и ему перед самою смертью. Иван Денисович чувствовал, что возвращается, только остаток еще тлевшей жизни мешал ему взять наконец ту холодную кружку, припасть к ней и утолить застарелую жажду…
По сути, вся наша жизнь – возвращение. Мы должны, пройдя через жизненный сумрак, вернуться туда, откуда мы родом. Мир нам дан как задача, но он не есть наша цель. В душе каждый хочет вернуться в первоначальную точку, в тот миг, когда еще не свершилось грехопаденье. Я верю: отбыв мировую повинность, солдатскую тяготу жизни, пройдя эмпирический сумрачный лес, мы, как блудные дети, вернемся. И, быть может, мне снова дарована будет та самая, детская кружка воды?
Напившись, поставив ее на фанерку, я выйду опять на крыльцо, на сухой яркий свет, и увижу дорогу – ту самую, пыльную, в две колеи, по которой ушел я когда-то. Ну, что ж, походил-походил – и вернулся…
Не спеша я пройду по меже на низы огородов, повторяя тот путь, по которому некогда шел пятилетний испуганно-радостный мальчик. Метелки травы защекочут колени, фонари оранжевых тыкв загорятся меж гряд, и повсюду, искрясь, заблестят паутинные нити. Этими Божьими швами сейчас воедино собран весь мир; отныне, ты знаешь, вовеки пребудет его полнота, его, неподвластная смерти и времени, жизнь.
Потом подбегу к срубу Нинкиного колодца. И опять, как когда-то, перевесившись внутрь обомшелого влажного сруба, увижу на фоне бездонного неба лицо удивленного мальчика…
1998–1999 гг.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































