Текст книги "Дом, дорога, река"
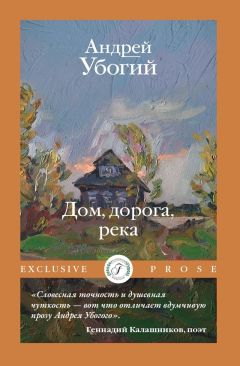
Автор книги: Андрей Убогий
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц)
В черногорской Будве наш отель выходил окнами на небольшую площадь, где допоздна меж столиков уличного кафе играли музыканты и выступали танцоры. Но куда привлекательнее и танцев, и музыки были черногорские девушки. Они неспешно прохаживались взад-вперёд, порою присаживались за столики, чтобы выпить вина или кофе, а затем продолжали свой летний ночной променад. Окно отеля, из которого я на них любовался, создавало эффект театральной рампы: я был отгорожен от гуляющих девушек, их жизнь протекала мимо моей и никак с ней не пересекалась, но в то же самое время я как бы бродил по ночным, полным неги улицам Будвы вместе со смуглыми и длинноногими красавицами.
Отели, в которых я жил, были разными, от совсем нищенских до роскошных. Правда, в последние можно было попасть лишь по ошибке, как это случилось в итальянской Ферраре. При заселении нашей туристической группы возникла путаница, и нас с женой и дочерью вместо скромной ночлежки определили в прямо-таки королевские апартаменты. Уже одна их прихожая была полноценным гостиничным номером, не говоря о громадной ванной комнате, которую вполне можно было сдавать под публичные бани, или огромной спальне, где под высоченными потолками даже летающим птицам нашлось бы достаточно места. И с тех пор в нашей семье прижился речевой оборот, обозначающий крайнюю степень роскоши: «Не хуже, чем в Ферраре».
Зато в Индии – где мне доводилось спать и просто под небом, среди нищих, коров и бродячих собак, – я четыре дня жил в крошечном номере, по скудности обстановки напоминавшем тюремную камеру. В этом номере были: деревянный топчан из неструганых досок, табурет со стоящим на нём вентилятором (который, естественно, не работал), и ещё в стены было вбито несколько гвоздей, на которые я повесил рюкзак и одежду. Но, как ни странно, этой мебели – топчана, гвоздей и табурета – мне хватало вполне, и я не испытывал ни малейшего неудобства, когда после купания в Ганге и обеда, состоявшего из грозди бананов, я засыпал на топчане, и ни москиты, ни скорпионы не нарушали мой сладкий сон.
Любимым же местом в отелях для меня всегда были не номера, не рестораны, слишком обременительные для моего кошелька, а холлы, через которые, то затихая, то оживляясь, протекал почти непрерывный поток посетителей. Люди входили и выходили, шагали то налегке, то с поклажей, несли рюкзаки или катили сумки на колёсах, иногда задерживались и что-то сердито выговаривали персоналу или, развалясь, коротали время в удобнейших креслах (почему-то удобнее кресел, чем в холлах отелей, я нигде не встречал) – в общем, люди жили своей кочевою жизнью, а я с интересом эту жизнь наблюдал. Где ещё, как не в холле большого отеля, можно увидеть настоящий парад человечества? Тут и непременные толпы японцев, обвешанных фотоаппаратами, и громогласные сытые немцы, и чопорные англичане, и французы с их нежно-картавою речью, и горячо жестикулирующие итальянцы, и испанцы, напоминающие наших брутальных южан, и негры, лоснящиеся, как сапожная вакса, и тяжёлые сербы, и белобрысые шведы – словом, множество языков и народов пройдут перед тобой за те полчаса, что ты просидишь в холле отеля.
С этой темы – парад человечества в холле отеля – легко перейти к разговору о том, какое великое множество разнообразных домов существует на свете.
Вот, например, эскимосское иглу. Восхищает уже одно то, что люди когда-то решили: такое жилище возможно. Сделать снег материалом для дома означало явить и отвагу, и наблюдательность, и волю к жизни. В эскимосском жилище многое необыкновенно. Например, то, что стены из снега попускают и воздух, и свет, так что дом эскимоса днём не нуждается ни в освещении, ни в вентиляции. А отопление? Трудно поверить, но язычка пламени, что качается над плошкой тюленьего жира, хватает, чтоб обогреть иглу до температуры плюс двадцать градусов в то время, когда снаружи лютуют тридцатиградусные морозы. И в такой вот снежной пещере, под завыванье метелей, под призрачным светом полярных сияний, шла обычная жизнь эскимосов. Шились одежды из шкур, резались моржовые бивни, рассказывались какие-нибудь предания, зачинались, рождались и росли дети – и всё это в условиях, для человеческой жизни немыслимых.
По сравнению с эскимосами жизнь кочевых степняков – монголов, казахов, калмыков – может казаться просто курортной. Хотя хорош курорт! Тут и зимние стужи, и летняя сушь, и, главное, ветер: он дует и ночью и днём, он, кажется, выдувает и душу, и мозг человека, который дерзнул жить в степи. Вот для защиты от этого ветра, безжалостного и вездесущего, в основном-то и служат степные жилища. У нас в Азии это юрта или кибитка – разборный каркас, обтянутый войлоком, – а где-нибудь в Африке, среди барханов Сахары, это полог из верблюжьих шкур, под которым семья бедуина находит защиту от ветра и солнца.
Такой тип жилища мы называем палаткой. В традиционных культурах их видов немало. Это и уже упомянутые юрта с кибиткой, и чум, и яранга, и типи индейцев Великой равнины, и вигвамы, знакомые нам по романам Фенимора Купера. В этих жилищах главное – их простота и мобильность. Сегодня такой дом стоит себе где-нибудь в тундре или прерии, завтра простыли и угли в его очаге, и сам его след; такое жилище не будешь особо жалеть и оплакивать, ведь при нужде можно быстро построить другое.
Не забудем и о кибитках цыган – телегах с навесом, домах на колёсах. В них можно жить, не просто перекочёвывая с места на место, ведя с собой песни, коней и медведей, но можно существовать в непрерывном движении. Если главное качество дома – его неподвижность, то кибитка цыган есть такое же чудо, каким было бы, скажем, бредущее дерево.
Но есть и иной способ жить. Не идти по степям за отарами или табунами, не подчиняться порывам степного бездомного ветра, но пускать корни в землю, на которой живёшь. Так возникает землянка, древнейшее из славянских, германских и скандинавских жилищ. Почувствовав власть земли, её тягу и силу, люди стали искать в ней защиту и буквально погружаться в неё.
Живут ли в землянках сейчас? Да живут, и не только солдаты и бездомные жертвы войны. Так, на севере Африки есть троглодиты-берберы, которые зарываются в рыхлую землю и тем защищают себя от палящего зноя Сахары. Поселение троглодитов являет собою огромную круглую яму, из которой во все стороны прокопаны комнаты-норы. Если хозяйке норы нужна, скажем, полка для утвари, она просто-напросто откапывает ещё одну нишу в стене.
Но, как ни спокойно, ни тихо в землянке, как ни спасает она от невзгод, люди всё-таки не подземные жители, и их тянет к свету, воздуху, солнцу. И вот землянка начинает как бы вырастать из земли: сначала на два-три бревенчатых сруба, а затем и во весь человеческий рост. Так появляется то, что мы и привыкли считать полноценным домом.
Традиционная русская рубленая изба – это целый мир из людей и животных, из разного рода припасов, ремесленных приспособлений и обрядовых украшений. Изба – это, можно сказать, Россия в миниатюре, с её языческим прошлым, сменённым на христианство, с её преданиями и песнями, с её способом выживать и строить свои отношения с миром и Богом.
Но, чем южнее, тем меньше строевого леса, и на юге России изба превращается в хату, гибрид северного деревянного и степного саманного дома. Деревянный остов южной хаты набран обычно даже не из полноценных брёвен – где их взять в украинских или южнорусских степях? – а из тонких, коротких бревёшек. Но зато изнутри и снаружи этот деревянный каркас обмазан глиной с навозом, крыт сверху соломой, и в итоге получается дом очень милого вида. А если хата ещё и недавно побелена и наличники освежены голубой или жёлтою краской, то глаз от неё не оторвать.
Совсем же в степях, где леса нет вообще, ставились мазанки, каркасом стен в них служил плетень из лозы или тростника. Но, конечно, главный строительный материал степей – это саман: рубленая солома, перемешанная с навозом и глиной. Саманное жилище, в сущности, усовершенствованный шалаш, дом из травы. И жизнь в таком доме чем-то напоминает жизнь птицы в гнезде. Приют вроде есть, но он ненадёжен и хрупок; непогода – дожди и ветра – разрушают такое гнездо, и его ежегодно приходится подправлять; но зато из саманного дома легче вылететь и пуститься по белому свету, чтобы искать себе лучшую долю.
Кроме лесов и степей есть ещё горы, и там средь камней живут тоже люди. Понятно, что и жилища они строят из того, что есть под рукой – из природного камня. Разновидностей каменных традиционных жилищ немало: это и трулло Южной Италии, и круглые пальясо горной Испании, и сакли Кавказа. Каково жить в таком доме, не знаю. Но несомненно, жилище влияет на душу живущего в нём человека. Думаю, что жизнь в холодном каменном доме тоже какая-то «каменная». Уже одно то, что жестокие обычаи кровной мести зародились именно в горных местностях, среди каменных стен, многое говорят о душе и характере горных жилищ.
Какие ещё есть дома? Вот, к примеру, жилища на сваях: такие дома строят в Полинезии. Конечно, там, где накатывают тропические дожди или океанские приливы, там волей-неволей приходится приподнимать дом над землёй. В Индонезии, например, до сих пор строят хижины буквально на деревьях. И дом на сваях – или тем паче древесная хижина – со временем сам становится своего рода деревом. Из его свай тянутся корни и молодые побеги, птицы гнездятся на лиственных кровлях, а стены скрипят под порывами ветра, точь-в-точь как древесные стволы.
Но самые знаменитые в мире дома на сваях – конечно, дома Венеции: целый город шагнул в море и расцвёл на зеленоватой воде лагуны. И когда стоишь на Сан-Марко, прислонясь плечом к одной из розоватых колонн Дворца дожей, и смотришь на яркую, в солнечных бликах, воду лагуны, то кажется, город, качаясь, плывёт в окружении лаковых чёрных гондол, вапоретто и грузовых катеров, плывёт в той мерцающей дымке, которая даже в погожие дни укрывает Венецию…
А теперь поговорим об Аркаиме. Среди множества разных домов, придуманных и построенных человеком, был и такой: дом-город, возведённый ариями в бронзовом веке на просторах южноуральских степей.
И размечали, и строили Аркаим с первобытной и гениальною простотой. В землю вбивался кол, вокруг которого, привязав его на длинном сыромятном ремне, гнали коня. Конь скакал, ремень наматывался на кол – и скоро посреди ковыльной степи проявлялась круглая вытоптанная площадка, на которой и возводили дом-город.
Птицам, летящим над степью, Аркаим, должно быть, казался похожим на большое тележное колесо. Его ободом был бревенчато-земляной вал, а стены домов сходились к центру, наподобие спиц колеса: стена одного дома являлась стеной и соседнего. Местом же общих собраний жильцов (считают, что жителей в Аркаиме было от трёх до пяти тысяч) служила небольшая центральная площадь – как бы колёсная втулка.
Как жилось древним ариям? Наверное, тесно: в одном отсеке круглого дома-города помещалась большая семья, от тридцати до пятидесяти человек. Зато надёжно решался вопрос с обороною Аркаима: жители были обязаны защищать свой собственный сектор наружной стены – что-то около пяти метров, – а уж семья из пятидесяти человек вполне могла выставить для нужд обороны десяток крепких мужчин.
Интересно, что в каждом из аркаимских жилищ было множество разных печей. Были печи варочные и отопительные, сделанные в виде длинных лежанок, были печи для обжига глины – аркаимцы уже освоили лепную керамику, – были печи металлургические, в которых плавили бронзу для наконечников стрел, и, наконец, были печи жертвенно-ритуальные, перед которыми огнепоклонники-арии выясняли свои отношения с высшими силами.
Но сейчас хочется сказать о другом: о том, что понятие «дом» в Аркаиме было неотделимо от понятия «город», а «город» был неотделим от «государства». В самом деле: у аркаимцев были вожди и законы, язык и предания, религия и независимость, было войско, была территория, на которой они существовали, то есть были все атрибуты полноценного, самодостаточного и суверенного государства. И все его граждане жили в одном-единственном доме!
Но Аркаим – не единственный пример дома, являвшегося одновременно и городом, и государством. Кто бывал во Флоренции и видел средневековые цеховые дома, тот со мной согласится: средневековый ремесленный цех был своего рода городом в городе и государством внутри государства. Цех, занимавший сумрачный каменный дом, похожий на крепость, имел жёсткую социальную иерархию, имел свод законов, нарушение которых каралось строго и неотвратимо, цех вступал в договорные отношения как с другими цехами, так и с городскими властями, цех имел определённые географические, политические и экономические границы, цех, наконец, должен был выставлять ополчение при нападении внешних врагов или в случае внутренних междоусобиц, то есть он имел и свою армию.
Поэтому, стоя на флорентийской улочке где-нибудь недалеко от Дуомо, с его знаменитым куполом Брунеллески («Дуомо», кстати, переводится тоже как «дом» – вот как ветвится и множится наша тема), и окидывая взором эту сумрачную громаду – цеховой дом Средневековья, – мы видим перед собою именно дом-государство.
Так что «дом» всегда много больше, чем просто стены и кровля, да комнаты с мебелью. Дом – ещё и уклад, и традиции быта, и память о тех, кто жил в этом доме до нас. Истинный дом всегда больше себя самого, как и настоящая жизнь человека всегда много больше тех места и времени, что отводятся ей в тесных рамках физического существования.
Когда мы рассуждали о разных домах, существующих в мире, мы ничего не сказали о кораблях, лодках, яхтах – тоже домах, но плывущих по водам. Пусть это и не дома на всю жизнь, такие, где растут дети и старятся их родители и где одно поколение сменяет другое, но даже временный дом – тоже дом: в конце концов, все дома в нашем временном мире не вечны.
О каких-нибудь яхтах или круизных лайнерах мне сказать нечего – я на них не бывал, – а вот с байдарками я знаком хорошо. И сборка байдарки – где-нибудь на берегу весенней реки, посреди муравейников или кротовин, под трели жаворонка или щёлканье соловьёв – тоже своего рода строительство дома.
Отчего-то всегда торопясь и волнуясь – хотя никто нас не подгонял, – мы разносили детали лодки по сухой прошлогодней траве, раскладывали кильсоны, стрингеры и шпангоуты, на ходу вспоминая забытые за зиму навыки сборки байдарки. Корма и нос словно тянулись друг к другу, но пока не могли дотянуться – дуги шпангоутов пересекались блестящими трубками стрингеров, – а потом наступал момент, когда каркас лодки нужно было вставлять в чехол оболочки. Этот чехол – или «шкура», на жаргоне туристов, – был пошит из резины с брезентом; он был тяжёл и слежался за зиму так, что его складки разлипались со скрипом и хрустом.
А сколько заплат пятнало днище заслуженной, не один сезон отходившей байдарки! И едва ли не каждая из этих заплат, словно кнопка, включала воспоминания, связанные именно с ней: как, когда, на каком перекате ваш «Таймень» был пробит корягой или острым камнем, как вода начинала тугою струёй бить сквозь днище и стремительно прибывала меж чёрных, заляпанных глиной и рыбьей слизью бортов, как байдарка кренилась, тонула и как в суете начинались аварийно-спасательные работы. А потом, насквозь мокрые, но возбуждённые неожиданным приключением, мы принимались заклеивать рану байдарки. Труднее всего было высушить днище, и если нас угораздило пробить лодку в дождь, то её ремонт становился нелёгкой задачей. Немало было израсходовано зажигалок, чьим огоньком мы пытались прогреть, просушить края влажной пробоины; немало резины было изрезано и клея изведено, чтобы лодка получила на днище – словно орден на ветеранскую грудь – очередную заплату. Приходилось пускать на заплаты даже голенища сапог – а что делать? Лодка была нам важнее, чем обувь: сплавляться, в конце концов, можно и босиком.
И вот в такую заслуженную, пёструю от заплат «шкуру» мы вставляли трубчатые каркасы, и старая, слежавшаяся за зиму оболочка словно делала вдох. Она расправлялась, натягивалась до барабанного звона – и на сухой траве луга лежала уже не груда дюралевых трубок и смятая «шкура», а вытягивалось тело стройной и будто летящей байдарки…
О байдарках я могу рассказывать долго, поэтому самое время переложить рули и вернуть разговор в основное русло. То, что лодка есть настоящий дом, я впервые осознал на Соловках, в Музее северного мореходства. Перед входом в музей лежала шестиметровая шняка – традиционное судно поморов для рыбного промысла и добычи морского зверя. В шняке поражало многое, начиная с досок бортов, которые были сшиты «вицами», то есть корнями ели. И ни штормовые волны, ни ледяные торосы ничего не могли сделать с такими, «на живой корень» смётанными, бортами: даже затёртая льдами, шняка выдавливалась поверх льдин.
Но меня восхитило другое: своеобразные кров и очаг, придававшие шняке сходство именно с домом. Ведь промысел длился недели и месяцы, и четверо мореходов, из которых обычно состоял экипаж, должны были на этой лодке круглосуточно жить – среди всех ветров и дождей, и пучин, и течений, и волн ледяного Белого моря. Так вот очагом здесь служил ящик с песком, на котором разводился костёр для приготовления пищи – полбы иль гречки с варёной треской, – а укрытие от дождя и ветра представляло собой деревянный настил в носовой части шняки, в щель под которым можно было забраться от силы троим. Четвёртому места в «спальне» не полагалось: он должен был нести вахту.
И вот это судёнышко – поморская шняка, столь утлая с виду, – спасало людей в самых жёстких условиях, какие только можно представить: в дни штормов, налетающих снежных зарядов, посреди стад ревущих моржей или белых медведей, глядящих со льдин на скользящую мимо них шняку. Вот уж воистину, то был ковчег – плавсредство спасения там, где человек непременно был должен погибнуть.
V
Нo, как писал Лао-цзы: «Путешествовать не обязательно: лодки и колесницы жаждут покоя». Вот и мои лодки и колесницы – те, что хранились в сарае у дома, – видимо, жаждали отдыха и покоя. Он для них и наступил: когда я, находившись-наездившись по белому свету, решил, что пора – всерьёз и надолго – возвращаться домой.
Впрочем, такое мудрое решение я принял не от большого ума, а скорее от большой глупости. Нелады с позвоночником у меня случались и раньше: ещё в легкоатлетической юности я «сорвал» спину – и на всю жизнь позвоночник стал моим больным местом. И хоть с серьёзным спортом я вскоре расстался, но и работа хирурга, и многочисленные путешествия здоровья спине конечно же не прибавляли. Но долгое время я относился к собственному телу с таким легкомыслием, которое переходило почти в слабоумие: я таскал рюкзаки, чуть ли не превосходившие мой собственный вес, спал на земле в холода и дожди, мог с утра до ночи махать вёслами, да и вообще изнурял себя так, словно собственный организм был мне не другом-помощником, а соперником или даже врагом. И если рассматривать тело, как дом, в котором живёт душа человека, то «домохозяином» я был никудышным: чего только не натерпелся мой «дом» от меня!
И случилось в конце концов то, что и должно было случиться: спина отказала. Очередной одинокий сплав по реке Пополте (я всё больше любил путешествовать в одиночку) и нагрузки, неизбежно с ним связанные, вдруг в одночасье (а точнее сказать, за секунду) превратили меня из активного крепкого мужика почти в инвалида. Не буду подробно описывать, как всё это происходило – дело дошло и до операции, которая, увы, не помогла, – как я сутками лежал на полу, не в силах пошевелиться от боли, и как потом заново, с костылём, учился ходить.
И дальним походам с тех пор было сказано твёрдое: «нет». Наступил новый этап моей жизни: походив и поездив по белому свету, я возвратился домой. Это итоговое возвращение было в то же самое время и возвращеньем к себе. Уже одно то, что я наконец совпал со своей редкой фамилией, сделало мня ближе себе самому. Ведь раньше я как бы обманывал всех: какой там «Убогий», когда я был подвижен, вынослив и крепок? И эта печать неосознанной лжи в отношениях с миром – она, затаившись где-то внутри, заставляла меня чуть ли не презирать себя самого. Зато, когда я действительно стал таким, каким – по фамилии – должен был быть, я почувствовал облегчение, ведь теперь я мог честно смотреть людям и миру в глаза. Уже за одно это – за снятие груза неправды в отношениях между мною и миром – я благодарен недугу, который свалил меня на пол два года назад.
Но и кроме такого – быть может, смешного для окружающих, но для меня очень важного – примирения с собою самим, в болезни открылось немало хорошего. Так, поскольку мой мир надолго стал ограничен квартирой и самым ближайшим её окружением, я стал внимательнее к тем вещам, которых раньше почти не замечал: где уж мне, устремлённому в дальние дали, было подробно рассматривать то, что находилось на расстоянии вытянутой руки? Быть может, впервые после самого раннего детства (когда я был почти столь же беспомощен) я снова рассматривал комнату, мебель и окна, балкон и весь дом, где я жил, с подробным и вдумчивым интересом первооткрывателя.
Что же я видел в те дни и ночи, когда лежал на полу? Чаще всего видел буфет: он стоял у меня в головах, и когда я поднимал глаза кверху, то надо мной нависал как бы целый готический город. Он казался не просто большим, а огромным, едва ли не превосходившим в размерах квартиру и дом, внутри которых он находился. Вообще, удивительный этот эффект – то, что некая вещь при внимательном взгляде превосходит саму же себя, – наблюдался во время болезни нередко. Так, собственное тело, которого прежде я почти не замечал, в дни недуга расширилось и усложнилось, и мне приходилось чуть ли не заново знакомиться с ним, как путешественнику приходится узнавать быт, обычаи, нравы незнакомой страны.
Но вернёмся к буфету. Он достался нам от прежних хозяев. Поначалу, в дни переезда, он казался нам вообще не нужен и использовался лишь как подставка при малярных или обойных работах. Громоздкий, заляпанный краской, он казался дремучей архаикой, доисторическим пережитком, которому место на свалке. И мы – вот ведь глупцы – его чуть было не выбросили. Но отвёл, как говорится, Господь, и мы догадались отдать буфет на реставрацию. Мастер ничего особенного с ним и не сделал: он лишь почистил его, зашлифовал царапины да покрыл дерево свежим лаком. Но буфет засветился, ожил – словно проснулся от долгого сна, – и теперь глаз было не отвести от его мерцающих стёкол и древесных узоров, от коричневых лаковых граней, ото всей благородной архитектуры буфета.
Именно архитектуры, потому что буфет представлял собой целое здание – сложный, таинственный замок внутри нашей квартиры. Дверцы буфета казались воротами в сказочные пространства. А ведь буфет ещё и отзывался тебе мелодичным, чарующим звоном; этот звон (исходивший от горок посуды, стоявшей за стёклами) означал, что буфет тебе рад и готов тебя встретить.
И как только ты распахивал дверцы – сразу чувствовал тонкое благоуханье буфета. Это был целый букет, где были запахи дерева и столярного лака, запах кожи (в чёрном футляре лежал театральный бинокль) и запах крымского можжевельника: подставка под чайник, привезённая из Коктебеля лет двадцать назад, до сих пор дышит летом и зноем.
Буфет всегда так притягателен, что, например, наши дети, Дима и Даша, покуда не выросли, очень любили забираться в нижний этаж буфета, где хранились бельё и одежда. Так мы и знали: если вдруг смолкли вопли детей, то они, скорей всего, скрылись в буфете.
А какая отрада хозяйке, когда у неё есть старинный, вместительный и величавый буфет! Кажется, что и сама семейная жизнь становится, благодаря ему, прочнее. В известном смысле буфет – центр семьи. Про детей, для которых он своего рода дом внутри дома, я уже написал, но и хозяйка едва ли не самое ценное помещает в буфете. Тут и парадная, на торжественный случай, посуда, и какие-нибудь оставшиеся от предков реликвии – серебряный ли подстаканник или старинная рюмка, лорнет или сломанный веер, красивый флакон от духов или что-то ещё, что рука не поднимается выбросить. Да и настоящие ценности тоже нередко хранятся в буфетах. Куда прячут хозяйки – от детей и воров – шкатулки с серёжками, кольцами и ожерельями? Ясное дело, в буфете, где-нибудь в тёмной его глубине, подальше от глаз и от рук, хотя конечно же все – и дети, и воры – прекрасно знают, где эти самые драгоценности нужно искать.
А если в семье есть старик, что согреет его? Возможно, что лучшим временем суток для старика будет тот предобеденный час, когда он (сопровождаемый, может быть, укоризненным взглядом невестки) распахнёт дверцы буфета, достанет оттуда пузатый графинчик и подрагивающей рукой нальёт себе рюмку целебной настойки. Потом он помедлит, вздохнёт, рассеянным взглядом окинет внутренности буфета и, подняв рюмку, негромко скажет: «Ну, будем…», словно чокаясь с этим буфетом, как с последним и верным товарищем, потому что все прочие, с кем старик выпивал и закусывал в жизни, ушли от него далеко…
Буфет высился у меня в головах, а в ногах располагалась балконная дверь. Эта дверь и балкон, на который она выводила, тоже были важнейшею частью жилища. И если буфет служил выходом как бы в сказку, то балкон был действительным выходом в мир. И когда нужно, скажем, узнать, какова там, в большом мире, погода, именно на балкон мы выходим, чтобы взглянуть на небо, на его синеву или мглу, и протянуть руку, определяя, не моросит ли дождь.
А уж в дни болезни, когда ты заключён в стенах квартиры, как узник в тюрьме, балкон служит бесценным подарком – возможностью, не покидая жилища, всё-таки выйти из дома. На балконе ты находишься одновременно «внутри» и «вовне», принадлежишь дому и миру, который его окружает. Скажу больше: посидев на балконе, я чувствую, как я одновременно живу, соучаствую в жизни, но уже нахожусь словно вне её напряжённо-живого потока. На балконе я ещё есть, но меня уже как бы и нет: я присутствую в мире лишь взглядом и мыслью, но уже не активным физическим телом в ряду других тел.
И вот этот эффект балконного созерцания, опыт существования и не-существования одновременно – есть один из глубиннейших опытов жизни. Это, по сути, движение в сторону той индуистско-буддийской нирваны, которая также есть странный гибрид бытия и небытия, пребыванье в зазоре меж жизнью и смертью.
С каждым годом, теряя энергию жизни, всё острей чувствуешь: жить тяжело, а совсем отказаться от жизни пока ещё стыдно. И выход из этого тупика располагается там же, где и балконная дверь. Нет сил жить? Посиди на балконе, посмотри на деревья, на небо, на крыши домов, на людей, что шагают по тропам двора, на шумливых дроздов, облепивших крону рябины, или, если дело зимой, на синиц, что снуют среди голых ветвей, – и тебе станет легче. Ты почувствуешь: мир прекрасно обходится и без тебя, без твоих напряжённых усилий, потуг и стараний; но если так, то не всё ли равно, изводиться, страдать или просто присесть на балконе, тихо радуясь миру, который лежит пред тобой?
Думаю, вряд ли бы я дотянул до теперешних лет, не будь у меня ежедневной возможности выходить на балкон. Тот эффект отстранения и остранения, взгляда извне, который всего очевиднее проявляется именно здесь, это как для ныряльщика глоток воздуха перед очередным погружением в глубину.
И многие вещи отсюда, с балкона, видишь иначе. Даже самые заурядно-простые и ежедневные – такие, как, например, чашка чаю в руках, – и те обретают особенный смысл, когда смотришь на них не затравленно-суетным взглядом, а видишь их медленным, вдумчивым «взглядом балкона».
Вот сижу на осеннем балконе, попиваю дымящийся чай, смотрю на сады и на крыши, на рыжую линию дальнего леса, на небо, уже поменявшее розовый утренний свет на дневной, голубой, и думаю: а ведь то, что в руках у меня чашка чаю, которую я могу пить, никуда не спеша, ведь это же настоящее чудо! Сколько всего должно было сойтись и совпасть, случиться или, наоборот, не случиться, уравновесить друг друга, поймать миг гармонии в этом негармоничном, куда-то всё время несущемся мире, чтоб я неспешно сейчас поднимал эту синюю чашку, подносил бы к губам, ощущал во рту терпкую горечь, а после смотрел бы сквозь марево чайного пара на зубчатую, рыжую линию дальнего леса…
Во-первых, должно быть всё более-менее ладно в семье и во всём нашем доме. Родители, дети, жена должны быть здоровы, никакие серьёзные неполадки и ссоры не должны омрачать нашу жизнь, соседи должны быть дружелюбны, а такие спокойные дни, как вы понимаете, выпадают не так уж и часто. Во-вторых, там, где я работаю, не должно оставаться тяжёлых больных, да ещё, не дай Бог, с осложнениями после моих операций. Какое уж там спокойное чаепитие, когда мысли в больнице?
Но, допустим, в семье и в больнице наступило временное затишье. А всё ли в порядке в твоём старом доме? Не засорилась ли фановая система, не завоздушился ли отопительный контур, не капает ли с потолка конденсат, не прохудились ли водопроводные трубы? А ведь дом-то давно уж немолод – он ровесник мне самому – и болеет почти так же часто, как и любой пожилой человек.
Вот ещё, кстати, помеха спокойному, неторопливому чаепитию – собственные болезни. С одной стороны, на здоровье грех жаловаться – на шестом-то десятке я ещё кое-как трепыхаюсь, – но, с другой стороны, я давно позабыл то счастливое время, когда о здоровье не думалось вовсе.
Да ладно здоровье – о нём, в конце концов, можно какое-то время не думать, – а как быть с совестью? Разве можно спокойно пить чай, наслаждаясь прозрачною ясностью осени, когда неспокоен «когтистый зверь, грызущий сердце, – совесть»? А ведь совесть-то по-настоящему никогда и не может быть ни спокойной, ни вполне чистой, потому что все мы в грехах, как собака в репьях.
Вот и получается, что возможность спокойного, неторопливо-блаженного чаепития стремится к нулю. Рассуждая логически, оно просто-напросто невозможно; а когда оно всё же случается, это и есть настоящее чудо.
Но давайте посмотрим на чайное чудо ещё и с другой стороны. Как много трудилось людей для того, чтобы чашка горячего чаю дымилась сейчас перед тобой! Это и сборщицы чая где-нибудь на плантациях Индии или Цейлона, и рабочие чаеразвесочных фабрик, грузчики и водители автомобилей, это железнодорожники и продавцы магазинов и ещё множество разных людей. А те, кто построил дом и вот этот балкон, разве они не вложили свой труд в сегодняшнее чаепитие? А гончары, что слепили вот эту чудесную чашку? А те, кто стоят, так сказать, на страже чайного ритуала: полицейские и коммунальщики, энергетики и дежурные доктора, управленцы и пограничники, разные там губернаторы или министры – словом, вся королевская рать? Как подумаешь – чуть ли не всё человечество потрудилось иль трудится в эту минуту, чтоб ты мог неспешно и благостно выпить вот эту свою чашку чаю.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































