Текст книги "Дом, дорога, река"
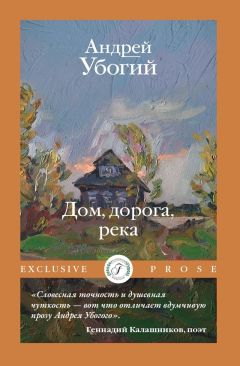
Автор книги: Андрей Убогий
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
И еще мне нравился в киниках дух свободы, игры, парадокса, без которого задыхается мысль. Мысли, брошенные на ходу, часто самые плодотворные мысли. Да и просто мне нравилось то, что греческие мудрецы добровольно выбрали тот образ жизни, к которому меня принуждала болезнь. «Терпи, малодушный, – говорил я себе, – вот приличные люди же были и за счастье считали ходить. А что ноги гудят, это мелочи, к этому можно привыкнуть…»
Город был слякотен, сыр, как положено городу в марте. Но весенняя неопрятность его тротуаров и улиц, обычно так раздражающая, мне, истомившемуся в больнице, была даже мила. Капли влаги висели на сучьях обрезанных лип, на троллейбусных проводах, на козырьках ларьков, а лужи мерцали в павлиньих разводах бензина. Все это, в сущности, было красиво, как было красиво и то, как подфарники тормозящих у светофоров машин отражались в оттаявшем, мокро-зернистом асфальте.
Интересно, что взгляд молодеет, когда тело уже неспособно перемещаться с прежней лёгкостью: он словно старается компенсировать ограниченность передвижений в пространстве. Видишь то, мимо чего прошагал бы, и не заметив, если б двигался так же, как раньше.
Это было похоже на легкое опьянение: когда люди, предметы, слова вдруг становятся глубже, значительней и интересней, чем они представлялись до этого. Словно прежде ты торопился и запарка житейских дел не давала прислушаться и оглядеться, а недуг придержал тебя: «Ну, куда ты торопишься, мил-человек? Ты остынь, оглядись, а то так и проскочишь по жизни, её-то саму не заметив…»
Чаще всего я ходил к рынку: именно рынок, со всей гомонящей его суетой, представлялся подобием целого мира, и наблюдать его было всего интереснее.
Рынок включал в себя множество разных миров. Так, был мир обуви. Тут пахло кожей и клеем, и весеннее солнце горело в сиявших колодках бесчисленных туфель, ботинок, сапог. Покупатели примеряли обновы, становясь на картонки, лежавшие в мартовской сочной грязи, а наклонно стоящие на земле зеркала услужливо отражали их ноги, гораздо более длинные и красивые в зеркале, чем на самом деле.
Был мир дубленок и шуб и царивший здесь нафталиновый запах, чем-то грустный, всегда воскрешающий в памяти детство. Сезон зимней одежды кончался, и продавцы уж махнули рукой на торговлю: они собирались по двое-трое, пили водку из пластиковых стаканчиков и закусывали жареными пирожками. А вокруг колыхались от свежего ветра высоченные стены из шуб…
Джинсовые ряды были забавны тем, как молодые девицы примеряли тугие, в обтяжку, штаны. Они смешно оттопыривали перед зеркалами задики и так охлопывали, оглаживали их ладонями, как будто они в это время размышляли-мечтали уже не о джинсах, а вовсе о чем-то другом…
Любил я ходить и в скобяные ряды. Особый покой опускался на душу при виде всех этих свёрл, жестяных уголков, плашек, метчиков, гаек, гвоздей. Изобилие скобяного товара убеждало в том, что любую поломку или неполадку можно исправить, и по этому поводу нет особых причин волноваться. С поломкою тела, конечно, сложнее – тут шурупами-скобами не обойдешься, – но все же и тело, хотелось думать, еще подлежит кой-какому ремонту. «Ничего-ничего, – думал я. – Что-то подтянем, где-то подмажем – еще, глядишь, ноги походят…»
За ларьком, где прием стеклотары, слышался чей-то поющий, охрипший и низкий голос. Сразу даже не скажешь, мужской или женский; даже увидев певца в длинном черном пальто, я не сразу сообразил, кто же он. «Все-таки женщина» – решил я, присмотревшись. Это была, скорее всего, старая зэчка, недавно освободившаяся: ее худое и жесткое, бурого цвета лицо – лицо индейского вождя – пересекал грубый шрам, седые волосы выбивались из-под вязаной шапочки, а взгляд был направлен куда-то поверх толпы.
Она пела самозабвенно, с надрывом. Кое-какие слова я запомнил, поразившись тому, сколь не вяжется нежно-любовная песня с грубым, как будто из жести и дерева, обликом старой певицы. Она пела:
Зачем бросал сирень-цветы
Ты мне в полночное окно?
И хоть внешность ее говорила иное – какие там полночные цветы? – но сердце верило все-таки голосу, хриплому и настоящему. Верилось: да, были ночь и окно, и был тот, кто бросал гроздья сирени – была, словом, жизнь, от которой остались лишь песня да голос…
Главное в путешествии даже не то, как меняется мир, по которому странствуешь; главное то, как меняешься сам.
И вот когда я пытался осмыслить итоги последнего странствия – того, что подарила болезнь, – то оказалось, что это едва ли не самое важное путешествие изо всех, которые я совершал. Из прежних походов я не возвращался настолько другим, чем когда, отболев около месяца, вернулся к привычной мне жизнь, то есть опять начал спать лежа, сидеть и ходить на работу.
Но, пытаясь выразить, в чем же именно я стал другим, я вынужден прибегать к определениям противоположным. Скажем, я стал мягче и тверже одновременно. Так, я стал больше жалеть пациентов, ибо и сам побывал в их тягостной роли. А уж личного опыта не заменит ничто – и врачу, как теперь я уверен, полезно порой поболеть самому.
А твердость, которой, я думаю, тоже прибавилось, проявляется в том, что теперь на невзгоды и тяготы жизни я стал смотреть с точки зрения проблем более серьезных. Размеры житейских невзгод как-то сразу уменьшились рядом с болезнью. И жить, отболев, стало легче, как это ни странно.
Конечно, за месяц болезни я постарел. Когда вдруг из активного, крепкого мужика, из любителя бега и лыж превращаешься… ну, не то чтоб совсем в инвалида, но в человека с явно ограниченными физическими возможностями, это, конечно, несладко. Но, с другой стороны, я отчетливо чувствую, как за время болезни помолодел.
Так, я узнал, как же это, оказывается, непросто: всего-навсего делать шаги. Совсем как младенец, который вот только-только начал ходить, я оценил и почувствовал счастье и вместе с тем сложность прямохождения.
Помолодел я и в том, что мне теперь стало всё интересным. Когда ходишь медленно, волей-неволей обращаешь свой взгляд и внимание на предметы ближайшие, самые обыкновенные – те, что раньше не замечал. Это тоже, по сути, особенность взгляда ребенка – того, кто способен часами без устали разглядывать щепки, травинки, букашек и мух, с упоением рыться в каком-нибудь хламе. Недаром говорит нам народная мудрость: «Молодость приходит с годами». Вот, похоже, она и пришла – вернее, болезнь привела ее за руку.
Но ведь и окружающий мир изменился, пока я путешествовал вместе с болезнью. Это тоже, конечно, одно из чудес: как, отчего, в какой странной связи находятся перемены твоей, освеженной болезнью, души с переменами внешнего мира? Мир сделался ощутимо теплее, добрее и ближе. То есть ближе, добрее и лучше сделались люди, потому что у них появились возможность и повод помочь, пожалеть. В том, что мир не без добрых людей, убеждаешься именно в дни, когда сильно хвораешь.
Все, в общем, просто: болезнь, словно клич, созывает всех тех, кто готов и способен помочь. Поэтому в окружении заболевшего возрастает количество добрых, хороших людей. Люди же прочие, те, кого наша болезнь и мы сами не очень-то интересуем, остаются поодаль. Вот и выходит, что мир в дни болезни становится лучше настолько, что кое-кто из заболевших стремится продлить болезнь, уходит в нее, не желая опять оказаться в чужом, равнодушном к нему окружении.
Так что позитив у болезни огромен и всякого рода хвала в ее адрес ничуть не надумана.
Не знаю, вполне завершилось ли это мое путешествие – больная нога еще о себе напоминает, – зато знаю, что по обилию впечатлений, по тем переменам, какие оно принесло, путешествие это является самым пока что значительным в жизни. Но если даже оно завершилось или почти завершилось, все равно нет причин горевать. Здоровья с годами конечно же не прибавляется, так что впереди, я уверен, ждут новые странствия.
2006 г.
Семь чашек чая
Зачем тебе эликсир бессмертия?
Выпей семь чашек чая…
(Ту Сунг-По)
I. Музыка
Не бывает маленькой любви.
Китайская поговорка
Проснулся впотьмах. Пока шел на кухню, половицы, царапая душу, скрипели под неуверенными шагами.
Поставил чайник на мягко вздохнувший газовый синий цветок. Толком еще не проснувшись, постоял у окна. Мерзлый снег под деревьями был шершавым и старым. Обледенелые стволы лип и берез тускло, угрюмо блестели. С нетерпением я посмотрел на небо: розоватые полосы уже легли по восточному краю. Пока еще сильно морозило – термометр показывал минус пятнадцать, – но по нежной, волнующей просини неба уже было ясно, что днем разогреет до настоящей капели.
Зашумел закипающий чайник. Он словно позвал: «Эй, приятель, не спи!» Открыв коробочку с чаем, я понюхал его – сухой, летний запах коснулся лица, – встряхнул, посмотрел, как меж черных ресничек пересыпаются серебристые типсы. Сегодня я буду пить мой любимый, ассамский: его запах легчайшим крылом омахнул предрассветную кухню…
Сполоснув кипятком задымившийся круглый фаянсовый чайник, насыпал заварки. Струя кипятка, напряженная, дымная, разбила шуршащую чайную горку. Заварочный чайник казался живым: в нем словно кто-то шептал, и его запотевшая крышечка тихо звякала, словно пытаясь удобней улечься. И в душе моей тоже что-то задвигалось, в ней загудели-затренькали некие струны – так в оркестровой яме перед началом спектакля просыпаются, звякают вразнобой инструменты.
За окном быстро светало. Деревья и крыши, кусты и тропинки, пробитые в мерзлом снегу, – все приближалось к глазам и как будто всплывало на волнах прибывавшего света. Я не видел взошедшего солнца, но уже обозначились длинные тени, и розовый дым закурился между стволов. Я жадно, не отрываясь, рассматривал двор. Кот Вильям, упорно не ночевавший последнее время дома, стремительно-ртутным прыжком скользнул по заснеженным крышам погребок, взлетел на ствол вяза, оттуда черною каплей упал на снег и скрылся в кустах палисадника. «Март!» – подумал я, глупо и радостно улыбнувшись.
Чай, однако, уже был готов. Осторожно я стал наливать его в чашку. Струя была ярко-коньячного цвета, она становилась то тоньше, то толще, и мерещилось, что она, как струна, едва уловимо звучит…
Вдруг – смотри-ка! – под самым окном по зернистому снегу запрыгали розово-бархатные мячи. В первый миг показалось, что это загустевшие капли рассветного солнца упали на снег, так они были сочны, энергичны, упруги! Снегирей было пять или шесть: их морозные шарики бодро и радостно, смело играли на крупнозернистом снегу. Это было как чудо – рассвет, снегири, чашка чая, – и во всем этом было нечто единое. Некая музыка вдруг зазвучала – как бы незримые струны были натянуты между мною и птицами и вот этой дымящейся чашкой. Флейты розовых снегирей высвистывали минорно, печально и радостно одновременно; и такая же строгая, сильная смесь содержалась в дымящейся чашке, в ее аромате и терпком, чуть вяжущем, вкусе. Казалось, играет далекая виолончель. Ее вязкая, густо-медовая тяга наполняла пространство и душу какой-то прекрасной вибрацией, дрожью радости и печали…
Он был очень мужским, этот звук, но он был и очень нежен: что-то детское прорывалось в тяжелых его переливах. Музыка длилась, тянула, как ласковый ветер; душе был родным этот вязкий, широкий напор томящейся виолончели, и ей нужно было самой зазвучать в той же самой тональности, чтобы музыка не угасла, даже если вспорхнут те морозные птицы, даже если остынет дымящийся чай…
II. Большая жажда
Когда б не смутное влеченье
Чего-то жаждущей души…
А. Пушкин
Интересно, подумал я, а удастся ли вспомнить мое самое первое чаепитие?
Всплывает глухая зима, глубокая дрема предновогодья. Мы с отцом входим в дом после лыжной прогулки. Оба облеплены снегом и оба как пьяные – после долгого бега внутри снегопада.
Падавший снег был, конечно, прекрасен: ни до и ни после я ничего не видел красивее. Эта нежная, землю и небо соединявшая дрожь, это сонное шевеление хлопьев… Небо будто исчезло и превратилось в реку из мреющих хлопьев, которые двигались то ли вверх, то ли вниз, то ли медленно таяли, вновь возникая? Ты смотрел в крап бездонного неба, чувствуя, как поток бесконечности размывает тебя. Где ты был в этот миг, да и был ли вообще или только приснился кому-то и теперь брел в этом сне, сам стремительно засыпая? Тени снежинок – нежнейшие тени теней – колыхались на бледном снегу…
Гипноз снегопада был так силен, что ты уже не различал: стоишь ли на месте, идешь ли куда-то, сминая лыжами бледный осадок упавшего неба? И давно ли ты вышел из дома? Может быть, уже целую вечность идешь, сонно глядя сквозь промельки хлопьев на волшебный, переменившийся лес?
Да, снегопад был прекрасен, как сон, но сердцевина души опасалась его колдовской красоты. Что-то сопротивлялось его наважденью и дреме; душа будто знала, что медлительно падавший снег есть само воплощенное время и что нет ничего беспощадней его вкрадчивой, тихой, но всех обгоняющей поступи…
Наконец, чуть живой и замерзший, ты вваливался в прихожую.
– Замерз? Лезь давай в ванну скорее! – Мать тревожно-заботливо, как и всегда, хлопотала.
А потом садились чаевничать. Чайник пел на плите; ты сидел, изнывая от жажды, но тебе никогда еще не было так хорошо, ведь в мире, кроме безбрежности снегопада, был еще дом, был уют обжитого угла…
Пили чай по-купечески долго, отдуваясь и вытирая шеи и лбы полотенцами. Мелодически звякали ложечки; раздавались сипенье, блаженные вздохи. Наступал уже тот момент, когда разговоры смолкают – когда все погружаются в обморок чаепития.
Пили долго, но жажда не убывала. Наоборот, она становилась сильнее: ты пил чай все азартнее и все чаще отирал полотенцем вспотевшее и растерянное лицо.
Отец посмеивался:
– Это, Андрюх, называется большая жажда: когда, сколько ни пей, еще больше хочется.
И действительно, жажда казалась бездонной. Ты пил уже пятую чашку, но что-то сухо и жарко горело внутри. В тебе открывались какие-то тайные люки в пространства, доселе еще незнакомые. С жадным сипением ты выцеживал чашку за чашкой: какая-то бездна и ширь обнаружилась вдруг – после долгого колдовства снегопада и чая.
Может быть, это и было твоим первым знанием о бесконечности, но не той, равнодушно-враждебной, где сыпался снег, а бесконечности внутренней и сокровенной?
Несмотря на испарину, тебя начинало потряхивать дрожью озноба; разомлевший, счастливый, ты все же чувствовал, что блаженство семейного чаепития после лыжной прогулки есть не более чем передышка…
Наливал и отхлебывал чай уже машинально, бездумно, но жажда, огромная чайная жажда, не убывала. Что могло бы ее утолить? Как не знал ты об этом тогда, так не знаешь и ныне, и все так же порой, с тем же самым недоумением, пьешь чай после лыжной прогулки, или смотришь на дерево сквозь снегопад, или бормочешь неотвязную стихотворную строчку… И тоже чувствуешь в эти минуты, как в душе открывается некая жажда. Когда-то, совсем молодым, было сладко ее ощущать; сейчас, в зрелости, к этому меду примешано много печали; с годами, наверное, будет все горше и горше при мысли о том, что утолить эту жажду, наверное, сможет только одно…
Но тогда, в то далекое зимнее чаепитие, ты, конечно, не думал о смерти. Ты лишь, растерявшись и робко притихнув, стоял на краю океана, которым являлся ты сам. Ты как будто прикидывал: сможешь ли переплыть то огромное, что открылось тебе? Безбрежность манила, звала и пугала; но ты уже знал, что конечно же пустишься плыть, что жажда иначе тебя не оставит в покое…
III. Калуга – Темкино – Вязьма
Сухой снежок порхает над судьбой.
Стога, пролески, галки да вороны.
Семь тысяч верст, чечетка вразнобой.
Затоптанные намертво перроны…
Г. Русаков
В юности много пришлось поездить в «рабочих», пыльно-зеленых, медлительных поездах. И вот интересно: чем хуже бывала погода, в которую выпадала поездка, тем острее и слаще были все впечатления.
Скажем, промозглый ноябрь, дождь, холод, а я возвращаюсь в Смоленск, в институт, после короткой побывки дома. Поезд на Вязьму, через которую мне лежал путь, отходил в пять минут третьего. Ожидание поезда было наполнено смесью особенных, свойственных только юности, ощущений. Это было как ожидание жизни: ты вроде бы и с нетерпеньем поглядывал на часы, и торопил отправку, но одновременно и сознавал, что вряд ли что-нибудь будет прекраснее самого ожидания.
Изнутри жег огонь нетерпения. Душа казалась пустой, и ты жадно искал, чем заполнить эту знобящую пустоту. Неприкаянный, заходил в магазин, что напротив вокзала, и подробно рассматривал его полупустые витрины, затем обходил привокзальную площадь, брал себе мутного сладкого кофе в стекляшке под названием «Встреча», покупал затем номер «Советской России» в киоске «Союзпечати» и еще долго бродил взад-вперед по перрону.
Дождь моросил непрестанно. Сквозь рябое его мельтешение все казалось дрожащими кадрами старого фильма – пленка мерцала, рябила, была исцарапана, – но смотреть этот фильм ты мог бесконечно. Отсыревшие шпалы, мазутные лужи, тусклый рельсовый блеск, товарняк обрезного теса на дальних путях, надпись «Фаянсовая» на мокром борту вагона, низкое небо, лежащее, кажется, прямо на проводах над путями, – все навевало и скуку, и в то же время сладкую, опровергавшую эту скуку надежду. Затрапез станционного мира, вся его мусорная нищета вдруг казалась значительной, полной предчувствий, словно все, что ты видел, было подсвечено некой волшебною лампой…
Наконец, с перестуком, одышкой и хрустом, подкатывал вяземский поезд. Зеленое, масляно-мокрое тело вагона, вздрогнув, замерло перед тобой. Шпалы просели, вода проступила над ними. Мощь вагонных колес, буферов и сцеплений всегда вызывала восхищение. Сквозь мутные стекла вагонов было видно, как шли проводницы. С лязганьем они открывали двери и откидывали подмостки. Народ, суетясь и хватаясь за поручни, карабкался внутрь, и вагоны наполнялись смехом, руганью, голосами.
Усевшись к окну, долго смотрел на перрон, опустевший и мокрый. Дождевая вода оплывала по стеклам и делала призрачным то, что осталось снаружи. Редкие люди проплывали беззвучно, как смутные воспоминания. Глядя на них, ты испытывал чувство, что жизнь, в который уж раз, начинается заново, что прошлое снова осталось снаружи, за пеленою дождя. Твоя молодость как бы писала без устали вечный свой черновик, зачеркивая крест-накрест испачканный лист и без малейших раздумий хватаясь за новый, а пачка свежих листов была еще так велика…
Трогались исподволь, незаметно. Перрон плыл назад, и душа твоя, зыбко качнувшись, словно всплывала на мягкой волне. Это был не полет, но что-то, богаче и лучше полета: в ускоряющемся движенье вагона еще не было боли отрыва от мира, но уже не было и духоты отвердевшей реальности. Ты скользил, как бы все еще принадлежа заоконным пространствам, но уже и волшебно, стремительно их обгоняя. Сначала мимо двигались будки, пакгаузы и семафоры, но вот потянулись, обрываясь и вновь начинаясь, полосы лесопосадок, кусты и болотца, огородики в полосе отчуждения и кучи картофельной прелой ботвы. Вдруг частили штакетники, подлетали вслед поезду галки, куда-то шли мокрые дачники с ведрами и рюкзаками. Какая-то тетка колола дрова возле будки обходчика: только вскинула свой топор, но ударить уже не успела – скользнула прочь из квадрата окна… И так же, скользяще, летели налево столбы, переезды, заборы, стога и овраги; поезд вдруг притормаживал у платформы, и заоконный мир замирал; но трогались вновь – и все оживало, опять обретая таинственный смысл в непрерывном скольжении справа налево…
А вагон жил своей жизнью. Первым делом все начинали есть. Видно, тревога пути была ближе всего к чувству голода, поэтому каждый старался скорее что-нибудь вытащить из кошелки или рюкзака. Помнишь эти дорожные свертки? Куриная ножка, вареная колбаса, пара крутых яиц (скорлупа их складывалась на оторванный, мокрый клочок газеты), соль, отсыревшая в спичечном коробке, немыслимо сладкий холодный чай в бутылке из-под водки «Столичная», а у мужиков – сама эта водка, чаще всего в «мерзавчиках» по ноль двадцать пять. Железнодорожный, особенный голод охватывал всех, словно паника: всюду жевали, ломали куриные ноги, резали колбасу – все ели жадно, как будто в последний раз.
«Может, чайку заварить?» Шарил в сумке, вытаскивал кружку и пачку индийского чая (один из лучших тогдашних чаев: сиротская синяя пачка рязанской чаеразвесочной фабрики, слоник с индусом, второй сорт). Даже сквозь бумагу обертки и сквозь вагонные грубые запахи и то пробивался чайный сухой аромат. Насыпав в кружку заварки, вставал и, качаясь, шел в сторону тамбура проводников. Отсеки вагона поочередно распахивались перед тобой. Народ выпивал и закусывал, говорил разговоры, раскидывал карты или уютно дремал, подсунув под голову свернутый пиджачок.
Долго стоял у вагонной печи, зачарованно глядя на туго гудящий, мелькающий за распахнутой дверцей огонь. Горьким, приятным был запах угольной пыли. Пламя билось о стенки, как будто чего-то хотело, но только не знало чего. В гудящем, упорном его беспокойстве ты чувствовал что-то, похожее и на твою беспокойную юность…
Поворачивал краник: перевитая, в брызгах, струя отвесно падала в кружку. Распускалось облако пара; чайные листья кружились в крутом кипятке.
Усевшись опять за столик, грел руки о кружку, о ее жестяные бока. Чайный запах, сначала отчетливый, слабел по мере того, как настой становился темнее.
Влажный пар, поднимаясь над кружкой, оседал на твоем наклоненном лице.
Чай поезда был непохож на другие чаи: в нем было больше движения, юности, ветра, дождя и печали… В нем как будто звучал тот тревожащий сдвоенный перестук, что отбивали колеса под полом вагона. Дымная кружка, качаясь, летела вместе с окном и со столиком, вместе со смутным твоим отраженьем в заплывшем водою стекле – над кустами, болотцами, грязью дорог, надо всей сиротливой и грустной осенней землею. Но, несмотря на печаль заоконных мутнеющих видов, смотреть в окно было все-таки бесконечно отрадно. Снова и снова, обжегшись (вагон качало, и пить было трудно), отхлебывал чай и снова смотрел в окно, как бы что-то пытаясь увидеть – то, что было обещано дрожью вагона, и горечью чая, и беспокойным ознобом души. Мир, залитый дождем, вдруг казался тебе удивительно юным, а дряхлость, обшарпанность внешней его оболочки лишь обостряла уверенность в том, что все в мире лучше, богаче, сложней и прекрасней, чем это кажется нашим глазам. Вот-вот, думалось, дождь отмоет коросту унылой реальности – и ты вдруг увидишь лицо настоящего мира… И сумрак вагона (уже начинало смеркаться), и лица соседей, и верхняя полка, с которой торчали, порой потирая друг друга, чьи-то тонкие ноги, и мешки, завалившие проход, и кружка чая, от дыханья которой уже запотело стекло, и тени сумерек, что мелькали снаружи, в дыму нескончаемого дождя, – все отзывалось в душе особенной, сладкою болью. Вагон мотало и встряхивало, двойной перестук под ногами действовал как-то бодряще и усыпляюще одновременно; а ты, вместе с кружкою чая в руке, летел по-над реальностью, по-над мельканием смутного заоконного мира – чему-то навстречу, навстречу, навстречу…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































