Текст книги "Дом, дорога, река"
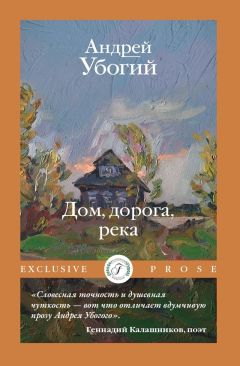
Автор книги: Андрей Убогий
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц)
X. Голод
Голод в походе – состояние почти непрерывное. Сначала приходил голод поезда. Вагон мотало, встряхивало на стыках, за окном мелькали столбы и деревья, и на душе было так много всего – и желаний, и мыслей, и воспоминаний, – что хотелось одновременно и смотреть в окно, и поговорить с попутчиками, и познакомиться вон с той девушкой, читающей книгу, и выйти в прокуренный тамбур послушать, о чём говорят мужики. Ещё хотелось скорей оказаться на речном берегу, собрать лодку и, толкнувшись от берега, заскользить по воде с острым чувством полёта и счастья. Или всплывало в памяти что-то из прошлых походов – вечер и дым костерка, что мешался с туманом, и бредущее в этом тумане стадо коров, – и даже не верилось: неужели увижу всё это снова?
И всё это сложное, свежее, возбуждённое состояние ты называл голодом; хоть, конечно, та смесь тревоги и радости, что наполняла тебя, могла бы быть названа и по-другому – может быть, жаждой жизни или нетерпением юности?
Но пусть будет – голод. Тем более, есть и правда хотелось. Не выдержав, залезал в рюкзак и копался в нём, добираясь до мешка сухарей.
– Ты чего? – удивлялся Виталий. – Только что ведь в столовку ходил.
– Всё равно опять есть хочу. Тебе-то сухарика дать?
– Ну дай, что ли. Парочку…
И грызёшь вагонный сухарь, жадно глядя в окно. Там мелькают старухи с огромными сумками у переездов, дорожные тётки в оранжевых куртках, голоногие дети на велосипедах, потом тянутся волны полей и частят стволы перелесков, потом пролетают синяя будка обходчика и полосатый шлагбаум… и тянутся, то поднимаясь, то опадая, линии электрических проводов…
На реке голод становился иным. Ты уже привыкал и к зыбкому колыханию лодки, и к блеску крупной волны, и к упорному ветру, который давил в левый борт. Может быть, этот ветер и был причиной тому, что ты ощущал внутри странную опустошённость? Спустя два-три часа хода ты становился настолько прозрачным, что чудилось: те кулички, что летят с тонким свистом от берега к лодке, могут легко, даже этого и не заметив, пролететь сквозь тебя!
Ближе к вечеру это состояние опустошённости усиливалось до того, что тебя начинало познабливать, а предметы в глазах начинали двоиться. Как сказали бы медики, парень «словил гипуху»: уровень глюкозы в крови так понизился, что ты, не ровён час, мог бы и грохнуться в обморок. Помогали опять или сухарь, или конфета, или кусок сахара, но ты понимал, что полумерами не обойтись и пора ставить лагерь да варить кашу. Эта каша уже начинала мерещиться, как наваждение или мираж: дымная горка разваристой гречки с оплывающим, жёлтым пятном топлёного масла…
Воспоминанье о том, как в походе готовится каша, словно уже и само по себе насыщает. Как знать, может, истинный голод не в том, чего хочет желудок, а в том, по чему истомилась душа?
Вот огонь лижет чёрное дно котелка. Поначалу вода тяжела и недвижна: она словно спит. Но вдруг сухая иголка сосны на поверхности вздрогнула и заскользила от бортика к центру. Там её развернул и сбил в сторону невидимый встречный поток. Вода заволновалась, проснулась – и хвоинка никак не могла успокоиться, плавая между бортов. Затем котелок изнутри словно вспотел, он покрылся россыпью светлых, живых пузырьков. Иные из них начинали дрожать, отрывались, взмывали кверху и лопались на поверхности. И уже было видно, как нагретая вода, поднимаясь от днища, струится и даже отбрасывает призрачно-легкую тень на светлый металл котелка. Котелок начинал чуть покачиваться, словно ему было трудно удерживать разгорячённую и беспокойную воду.
Скоро вода бурлила. Она поднималась пенистыми буграми и стремительно опадала внутрь котелка, точно бежала, спеша, внутрь самой же себя – и боялась саму же себя не догнать…
В этот самый момент ты сыпал из кружки крупу. Бурление ненадолго стихало: было видно, как гречка рябым ровным слоем ложится на дно. Но скоро зёрна крупы начинали подпрыгивать: словно родник бил из днища, и всё сильней вздыбливал и волновал крупнозернистый пласт гречки. А потом мощь кипения так нарастала, что в пенных буграх и в крутящейся мути было не разглядеть, крупа ли там пляшет или пузыри воды. Котелок раскачивался и дрожал от напора бурлящего варева, а ты глаз не мог отвести от этого зрелища, такого обыденного – и необыкновенного.
Пока костёр варил нам кашу, день над рекой угасал. Холодало. Слоистый дымок туманов протягивался по низинам. Пламя костра с наступлением сумерек уплотнялось и делалось ярче.
– Ну что, к ужину всё достаю?
– Да, минут через десять будет готово.
Кидали на траву чехол от байдарки. Миски, ложки и кружки да баночка с маслом – наш нехитрый припас разложить было недолго. Подтаскивали надувные матрацы, складывали их наподобие кресел, ставили так, чтобы были видны закат в красных облачных перьях и река под обрывом.
Порой голод накатывал так, что ты едва себя сдерживал, чтоб не схватить и не грызть, что попалось под руку: сухарь, кусок сахара или даже сосновую щепку. Но и не хотелось нарушить случайным куском ту прозрачную ясность, какую дарил тебе голод: нет уж, думал, дождусь лучше каши…
Воды в котелке больше не было видно, одна лишь тяжелая серая гуща приподнималась, вздыхала и лопалась пузырями. Котелок уже не раскачивался, как раньше, а мелко и напряжённо дрожал.
– Посолить не забыл?
Спохватившись, бросал в котелок четверть ложки намокшей соли. Перемешивал кашу. От неё валил густой пар и поднимался густой сытный запах…
XI. Холодная ночь
Костер догорал. Огонь словно устал озарять потёмки и ушел сам в себя, в шевеление жаркой угольной груды. Сероватый налет золы затуманивал угли, но дыхание ветерка порой оживляло кострище, и угли опять начинали светиться. Потом они снова тускнели. По тому, как чисто и ярко горели звезды и как тянуло свежестью из низин, можно было ждать холодной ночи.
Отойдя по нужде на десяток шагов – обильная ледяная роса легла на поляну, – мы возвращались и лезли в палатку. Внутри звенело несколько комаров; было слышно, как их полёт прерывался ударами о тугой брезентовый скат. Шнуровались: сырые, холодные петли плохо слушались пальцев. Сквозь брезент виднелись красневшие угли костра: они словно висели в ночи без опоры. Ткань палатки от их свечения казалась прозрачной.
Укладывались. На ощупь нашаривали одежду, натягивали свитера и вязаные шапки и залезали в спальники. Мой был стар и истрёпан. На зыблющемся пузыре надувного матраца было трудно найти подходящую позу для уставшего тела.
Резко и сильно кричал коростель на лугу. Хохотали лягушки. Ещё слышны были плеск реки, сипение углей кострища и далекий, на том берегу, рокот трактора. Интересно, зачем он работал впотьмах?
Сонливость и возбуждение странно сейчас сочетались. С одной стороны, тебя сильно клонило в дремоту. Но звуки и запахи ночи – и, главное, холод её, подступавший всё ближе, – приводили тебя в состояние лихорадочно-взвинченное. Ты ударял вдруг себя по щеке, почувствовав комариный укус. Потом приподнимался, расправляя мешавшую складку одежды. Утомлённое тело никак не могло привыкнуть к покою. Ты вертелся, вздыхал, перекладывал в изголовье рюкзак, но не мог ни расслабиться, ни успокоиться.
Наконец забывался непрочным, как будто пунктирным, сном. Ты слышал и звуки ночи, и понимал, что лежишь в палатке – и вместе с тем уже был далеко…
…Город, где ты когда-то учился, его улицы и холмы, мосты над Днепром и громада собора, снились нынешней ночью. Вот трамвай, дребезжа, катится через мост; ты стоишь у заднего окна, глядя на закат, на густую воду Днепра, на кусты вдоль по топкому берегу. Ненадолго притормозив у двухэтажного желтого здания – это наркологический диспансер, вы ходили сюда на занятия, – трамвай лезет дальше по извилистой, круто вверх уходящей улице. Справа тёмная зелень, провал оврага; слева чугунный Кутузов с белыми голубиными помарками на плечах. В окно вдруг врывается запах сирени: соборный холм весь залит её белой, лиловой, пахучей, дурманящей пеной. Кажется, сумерки зарождаются именно в этих кустах; гроздья сирени шевелятся, шепчут, вздыхают, изнемогая от скрытой в них тайны…
Но что-то менялось. Твой сон рассыпался, тускнел, пропадал. Сквозь дрёму ты даже негромко стонал, словно пробуя всё удержать. Но холод ночи был беспощаден: он прогонял грёзы – и ты просыпался в жестокой и стылой реальности. Какое-то время лежал, раскрыв в темноту глаза и дрожа крупной дрожью. Ты и хотел бы забыться, да только ночь тебя не отпускала. Ты словно был ей, ночи, нужен, словно бы без тебя, страдающего в темноте от холода и тоски, ей было скучно…
Поджимал к животу колени, напрягался, затем рывком поворачивался и обнимал сам себя, безуспешно пытаясь отжать из дрожащего тела остатки тепла. Не помогало. Ночь с каждой минутою делалась злее. И холод уже превращался в страх. Он, безотчётный и всё нараставший, и выгонял тебя из палатки наружу. Собрав остатки решимости, ты выбирался из спальника, распутывал петли на входе – и выпадал в пустоту предрассветного мира.
Снаружи встречала уже не кромешная темнота, а жидкие сумерки. Звезды съежились, ссохлись – и отдалились в серое небо. Проступали контуры ближних кустов; чернело пятно кострища. Утренний мир казался плоским. И этот безрадостный полусвет, он был ещё хуже, чем тьма. Дрожа от холода в недрах палатки, ты ещё мог надеяться, что ночь внутри себя нечто скрывает, что она не пуста. Теперь пропадала и эта надежда. Серый утренний мир был настолько лишен всякой тайны и смысла, что он даже не стоил того, чтобы снимать с него кров темноты. Ты вдруг испытывал острое чувство обманутости и сиротства, глядя на серые эти кусты, их поникшие листья, на грязные миски, которые мы поленились вчера сполоснуть, на примятую траву и опрокинутый котелок…
Бесцельно и вяло ходил взад-вперёд по поляне. Поднимал мокрую палку, ворошил ею погасший костер. Умом понимал, что надо б огонь развести и согреться, но отвращение и к себе самому, и к бессмысленно-серому миру было столь велико, что ты с трудом себя пересилил. Разыскал клок газеты. Выкопал из золы несколько недогоревших веток, сложил их шалашиком и подсунул бумагу. Встав на колени – штаны вмиг промокли, – подул на старые угли. Пламя вспыхнуло вдруг, словно давно тебя ожидало.
Но странно: рядом с огнём зазнобило ещё сильнее. Ты тянул руки в пламя, нависал над костром, но не мог обогреться. Как будто за эту тяжёлую ночь ты набрал столько холода, что даже огонь был покуда бессилен. Лицу становилось уже горячо, пальцы рук жгло, но из сердцевины души холод никак не хотел уходить. «Уж скорей бы, – подумал, вздохнув, – просыпался Виталий…»
И медленно, нехотя, трудно, но ночь уходила. Туман поднимался от близкой реки и затягивал пойму. Пичуга – похоже на зяблика – пропищала в кустах. В реке кто-то громко плеснулся.
А ты продолжал сидеть возле костра, тупо глядя в огонь. Твоё серое, в грязной щетине лицо не выражало сейчас ничего – ни тоски, ни страдания, ни хоть какой-нибудь мысли, – оно было мертвенно-оцепенелым. Да, ночь далась тебе тяжело…
XII. Утро
Для птиц восход наступал раньше. Например, для ворона, что кружил над верхушками сосен: солнце, ещё невидимое нам, уже озаряло его, и угольно-чёрное оперение птицы сверкало.
А ворон видел ли нас? Была ли ему различима палатка в разливе тумана, и алая капля костра, и мы, притулившиеся возле огня? Он конечно же видел и даже, возможно, жалел нас, покуда не встретивших солнца, сидящих, как в яме, в туманных сумерках утра. И его грудной влажный клёкот будто подбадривал нас: держитесь, мол, мужики! Слышать крик ворона было так же отрадно, как и человеческий голос.
С трудом распрямившись – тело усохло и постарело за ночь, – я пошёл к реке за водой. Непослушными, спотыкающимися ногами спустился по береговым уступам. Тёмная вода быстро скользила под неподвижно висящими лоскутами тумана. Стая мальков кинулась от берега врассыпную. Глина обрыва уступами уходила в прозрачную воду. Виднелись донные валуны в ярко-зеленых пятнах водорослей.
Окунул в реку чайник. Он трижды жадно глотнул, всклень налился водой, и течение потянуло его из моей руки. Потом я умылся. Вода была неожиданно тёплой. Лицо после ночи казалось чужим, и пальцы, трогая, не узнавали его. С трудом, боясь расплескать воду, вскарабкался в лагерь. И солнце вдруг мягко ударило прямо в лицо…
Оно появилось над косогором, меж редких сосен. И было сразу каким-то проснувшимся, деятельным, дневным. Это был вовсе не тот багровый и воспалённый шар, что садился вчера на закате; сегодня утреннее солнце казалось почти невзрачным. Небольшое и жёлтое, как хорошо испечённый блин, оно не жгло, а подбадривало, не испепеляло, а согревало. И в этой его обыденности было что-то важное и утешительное. В том, что оно, такое простое, явилось к нам в мир, не было ни торжественности, ни показного героизма, а была высокая обыденность света – после болезненной ненормальности тьмы.
Туман, словно почувствовав, что его время кончилось, зашевелился и начал стекать в низины. Роса, падая с листьев, сверкала. В кустах и древесных кронах кто-то беспрерывно шуршал. Мелкие, шустрые птахи перепархивали от дерева к дереву сквозь прямые, наклонные солнечные лучи. Скоро с нашей поляны туман стёк под обрыв, и его молочная полоса лежала теперь меж берегами, скрывая внутри себя реку…
Наступало время блинов. Утренние хлопоты возле костра помогали вернуться в дневной, ясный мир после ночной с ним разлуки. И все те предметы, которые ты или видел, или брал в руки, были созданы словно впервые, для этого именно утра и вашего завтрака на высоком речном берегу. Миска и кружка, топор и байдарочная седёлка, омытые холодом ночи и утреннею росой, казались такими новыми и настоящими, что ты даже трогал их как-то несмело, как будто впервые с ними знакомясь.
Насыпал в миску горку муки – невесомой, взлетающей от дыхания – и тонкой струёй начинал подливать воду из кружки. Первые капли скатывались к бортикам миски, такие мохнатые от налипшей муки, точь-в-точь, как первые капли ливня, тоже пыльно-ворсистые, что катаются в колеях дороги…
Старательно смешивал воду с мукой, затем подливал ещё воду и снова давил, растирал, перемешивал ложкой вязкое тесто. Не сдержавшись, макал в него палец и пробовал: пресновато, но, в принципе, есть можно.
Так, тесто готово – теперь костерок. Откладывал в сторону горящие сучья, устанавливал на кострище два чурбачка и нагартывал углей меж ними. Языки пламени, алые с синевой, пробегали туда-сюда над углями. От дыма и близкого жара слезились глаза, но это не раздражало, а почти нравилось, как непременная часть утренней трапезы. Устанавливал на углях сковородку. Её черный диск, обгорелый и жирный, медленно начинал нагреваться. Подливал масло. У бортиков оно пузырилось, а его запах распространялся в воздухе, и от этого в лагере делалось как-то уютней.
Пора было печь первый блин. Тесто сплывало с ложки на сковороду, и по краям растёкшегося пятна шипенье кипящего масла становилось громким и яростным. Края белой кляксы из теста уже начинали смуглеть и подпрыгивать и на глазах подсыхали. Подсовывал нож под лепёшку – она, уже затверделая снизу, легко отлипала от сковороды. Затем, изловчившись, переворачивал блин. Золотистое кружево покрывало его испечённую сторону.
Солнце всё выше всплывало над лесом. Веселое, круглое и золотое, оно и само было похоже на один из лежащих в миске блинов.
Пора звать Виталия: он где-то неподалеку ловит.
– Э-эй! Где ты там? Завтрак готов!
– Иду-у!
Чай, льющийся дымной струёй из чайника, пахнул крепко и бодро. В закопчённой кружке он казался густым и крепким, но такой и был нужен с утра. Горячая, горькая, терпкая жидкость вливалась в тебя, и теперь ты мог твёрдо сказать, что ночной холод преодолён…
Чьи – то шаги и вздохи слышались за кустами. Потянуло приятным запахом молока и навоза: стадо коров шло на нас краем леса, по-над обрывом. Оглушительно, звонко ударил невидимый кнут. Коровы сразу заторопились и полезли напролом сквозь кусты. Вскоре показался пастух – смешной, взъерошенный мужик в телогрейке и рваной ушанке шел к нам через луг, подволакивая кривоватые ноги. Кнут тащился за ним по сверкающей мокрой траве. Губастое и простоватое лицо пастуха выражало добродушие и желание поговорить.
XIII. Пастух
– Завтрекаете, значит? Ну-ну… Угости, что ли, блинчиком… Вот спасибочки вам!
Зажевал, зашлепал большими губами. Глаза его смотрели радостно и светло. Вот он сунул в рот остатки блина и вытер о телогрейку корявые пальцы.
– Сла-адкий… А вы откель будете? С Калуги? Ишь откуда заехали… А я московских третьего дня видел, на этом же месте. Только те с бабами были. Я-то откуда? Авон, с Ивановского, недалече здесь, за бугром…
Показал кнутовищем. Сморкнулся о палец.
– Давно ли пасу? А сколь себя помню, всё при коровах. Ага, люблю это дело. И они, дуры, это… меня, значит, слушают… Э-эй, куда прёшь, лупоглазая?! Стой, холера!
Он кричал с той нарочитой, притворною строгостью, с какой взрослые иногда разговаривают с детьми. Пегая худая корова тотчас отшатывалась прочь от обрыва. Она будто знала, что обращаются именно к ней, и виновато моргала большими глазами.
– Ишь, засранка! Это Сергеевны животина. – Пастух что-то вспомнил и засмеялся. – Я ей говорю: Сергевна, да кто ж нынче за такие-то деньги пасти будет? А она чуть не плачет: нету, мол, денег-то больше… Ну и хрен с тобой, говорю, выгоняй Милку за просто так – чего ей дома одной скучать?
Вдруг он посмотрел на нас озабоченно.
– Только, случай чего, вы же это… не говорите про то никому! Другой кто с деревни узнает, ему обидно будет…
Всё интереснее было слушать, смотреть на него. Дурачок? Вроде похоже. Но это был тот редкий случай, когда человек, теряя в уме, обретает иное – то, чего лишены обычные люди. И я смотрел на пастуха почти с завистью…
– А дом-то мой, значит, сгорел. Ага, еще той весною. Ну, потеха ж была! Расскажу – обхохочесся…
Пастух опустился на траву прямо там, где стоял, подвернув под себя ногу в растоптанном кирзаче. Сел ловко, удобно и начал рассказывать.
– Да… Митька Макеев бегить – не знаете его, нет? Дядь Саш, дядь Саш! Чего такое? Ах ты, Господи! Ну, побежали… А уже крыша осела… Дыми-и-на! И народ вокруг бегает да кричит… Петровна аж икону приволокла. Шум, гам – Боже ж ты мой!
Лицо рассказчика оживленно менялось, как у пьяного или немого. Слов ему не хватало. Руками он двигал перед собою, словно надеясь, что картину пожара удастся представить без помощи речи.
– А мне… это… аж весело стало, ей-богу… Во, думаю, страсть-то какая! Ну, и сгорел, значить, дом-то…
И замолкнул, недоумевая, что о таком интересном, огромном событии больше нечего рассказать.
– Отчего загорелось-то?
– А Бог ё знает… Може, искра какая…
– И живешь где теперь?
– Летом по дворам ночую – ну, там, где пасу. Кормют, опять же…
– Ну, а зимой?
– А в Износки ухожу. При котельной пристроился там. А что, тепло, хорошо! Так-то вот уголь насыпан, – он показал рукою, – а так-то вот, доской отгородясь, я и сплю… Эй, эй, да куда же вы прётесь-то, Гос-споди!
Он легко вскочил, побежал к стаду. Отогнав от обрыва скотину, вернулся.
– А жена у тебя есть?
– Чё? Жена? Да была…
– А теперь где?
– Кто ж ё знает… Ушла!
– Давно?
– Ага, позапрошлым летом. Я мало с ней жил, меньше года. Нюркою звали – вроде коровы…
Пастух улыбнулся. На губастом его лице проступило что-то совсем уже детское. Сощурясь, он посмотрел на солнце и на дымящийся луг.
– Да ну ёё, эту жену! С ней морока одна…
Он счастливо вздохнул, потянулся.
– Ну ладно, пойду! – Пастух улыбнулся нам напоследок, шмыгнул носом, утёрся тылом ладони. – А блинец-то был вку-усный! Ну, бывайте…
И он пошел прочь по лугу, по мокрой сверкавшей траве. Он уходил от нас нестеснённой походкой человека, которому хорошо везде и со всеми. Солнце ярко его освещало. Я долго смотрел ему в спину. «Пастух перед Господом…» – вдруг подумалось отчего-то.
Казалось, мир его отпустил – то ли за ненадобностью, то ли за какие-то особенные заслуги, – мир снял с него цепи долга, семьи, обязательств перед людьми, и мы сейчас видели перед собой совершенно свободного и совершенно счастливого человека…
Пастух уже скрылся из глаз, и порой слышалось только звонкое щелканье его кнута. По росистой, седой траве темнели полосы от прошедшего стада и нежно дымились, чернели коровьи лепешки…
XIV. Время реки
Идем по утренней, дымной, мохнатой от тумана реке. Мальки порой веером рассыпаются от взмаха весла. Иногда удар большой рыбы раздаётся поодаль. Под обрывами ещё зябкое утро, а на плёсах, на солнце, уже настоящий, вполне укрепившийся, день. Легкая трубка весла с сухим шорохом проворачивается в руках. Врезаясь в тёмную воду, лопасть утаскивает за собой плоский зыблющийся пузырь воздуха. Порою перо весла даже из-под воды ловит солнечный свет и сумрачно вспыхивает в глубине. А в воздухе мокрая лопасть загорается так, что становится больно глазам. Жидкий солнечный блеск непрерывно стекает с неё – и в воду летит дробь сверкающих капель.
Гребля есть род медитации. Скользит река мимо обрывов и береговых кустов, скользим мы, обгоняя речную воду, и в этом двойном, обгоняющем самоё же себя движении возникает вдруг чувство полета…
По мере движения в лодке мимо недвижных, но непрерывно меняющихся берегов что-то странное происходило со временем – даже не просто с твоим восприятием времени, а со временем, как таковым. Ты понимал, что сама река, по которой вы шли, была временем, а время приобретало облик реки.
Утром, тотчас после отплытия, оно разливалось огромным, прозрачным, недвижимым плёсом. Кажется, мы толкнулись от берега давным-давно, и давным-давно шли, раскрывая перед собою один речной поворот за другим – виды реки открывались нам, словно просторные комнаты, – и миновали деревню с топящейся баней, и стадо коров на истоптанной отмели, и двух рыбаков на мостках (старика и мальчишку), потом вошли в тень обрыва, где нам сразу стало тревожно и зябко, потом снова вылетели на солнце, и лопасти вёсел, слепя, заблистали над гладью реки, потом мы увидели серую цаплю, что грузно поднялась из камышей и полетела вниз по реке (мы не раз потревожим, поднимем её за сегодняшний день), потом худая лиса выскочила на обрыв и пару секунд удивлённо смотрела на нашу байдарку, потом ветер ударил навстречу, поднялась волна, и нам пришлось подналечь на вёсла, проталкивая потяжелевшую лодку сквозь брызги и ветреный блеск, потом, за поворотом, всё стихло, и вновь засияла стеклянная гладь, по которой бежали воронки маленьких водоворотов, – словом, казалось, что целая жизнь была прожита нами с момента отплытия. Но, посмотрев на часы, ты подумал, что они остановились: потому что вы встали на воду всего восемь минут назад. Но часы шли исправно; дело было в самом времени – в том, как оно никуда не спешило с утра.
Потом время исподволь оживало. Оно, словно щепка перед плотиной: долго недвижная и какая-то сонная, она вдруг незаметно, помалу смещается к водосбросу, скользит всё быстрее, и скоро – не успеешь моргнуть! – эта самая щепка, нырнув, исчезает в кипящей пене. Так и время: недвижно-прозрачное утром, оно вдруг оживает и тащит нас к некой, покуда незримой, черте водосброса…
Порою казалось: движение времени совпадает с гребками, с их монотонным, размеренным и упорным нажимом. И ты словно можешь им управлять, то ускоряя гребки и разгоняя байдарку до пенного буруна у форштевня, то, положив весло на борта, замедляя движение лодки и времени до дремотного сплава, совпадавшего с оцепенелым движеньем реки.
Или время скользило, как вода за бортом: то сонно, то быстро, то бурно, то медленно, то поднимаясь, то опадая? Или время кружилось, как коршун вон там, наверху – в синеве, среди белых облачных перьев? Коршун словно мотал пряжу времени – он старался, чтобы незримая нить между нами и небом не провисала, – и, круг за кругом, перематывал время земное на время небесное…
В полдень, в самое пекло, время опять замедлялось. Пыльный ветер дул встречь. Брезент лодки высох и горячо шелестел под ладонями. Байдарка шла медленно, сонно – казалось, вот-вот она встанет посередине реки. Грести не хотелось – зной делал бессмысленным любое усилие. И само время как будто спеклось, загустело: такому, густому и сонному, ему лень было двигаться, течь – и пора было остановиться. В самом деле: ведь мир уж достиг той полуденной точки, к которой стремился, и понукания времени больше были ему не нужны.
Какая-то сонная оторопь лежала на всём: на слепящей воде, на поникших кустах лозняка, на полузатопленной плоскодонке, на лохматой собаке, рухнувшей в изнеможении возле воды – она часто дышала, вывалив красный язык, – и на овцах, которые, словно серые камни, недвижно лежали на пыльной траве косогора…
Да что говорить, если время в полуденной дрёме могло даже двинуться вспять, увлекая тебя, задремавшего в жидкой тени ивняка, в отдалённое прошлое? Там, в глубине забытья, ты стремительно вдруг начинал молодеть, продвигаясь от зрелости к детству… Там тоже вечный был полдень, и жаркий ветер высушивал пот, и трава холодила босые ноги, а ступени крыльца были сухи, горячи. Ведро в сенцах было прикрыто мокрой фанеркой, на ней стояла зелёная кружка с пооббитой эмалью. Сдвинув фанерку, зачерпывал воду – и прохлада глоток за глотком наполняла тебя… Затем выбегал на крыльцо и видел накатанную дорогу и нижние огороды с оранжевыми шарами тыкв по межам, видел речку, блеснувшую за ракитами, – видел детский, счастливый и полный, забывший о времени мир…
Но ждала и расплата за сон, за то, что ты посмел ускользнуть – пусть на время – из-под его, времени, власти. Просыпался внезапно, в поту, с тяжелой, угарною головой. Пока спал, тень от куста сместилась, и ты оказался на самом припёке. Садился, ошалело таращил глаза, а всё вокруг было как на фотографическом негативе. Ты сидел на чёрном песке, перед тобой была чёрная гладь реки, и сотни сияющих огненных точек куда-то скользили по аспидно-чёрному небу… Постаревший, разбитый, ты долго сидел оглушённый, не в силах собрать отчужденное тело. Кровь часто, натужно отстукивала в ушах: твоё время бежало стремительно, будто спеша наверстать то, что оно упустило…
К вечеру зной уходил. Над миром будто приподымали огромную давящую плиту: дышать, смотреть, говорить становилось легче. И лодка бежала легко. Шли под высоким, обрывистым берегом. Красноватая глина обрыва была ноздреватой от гнёзд. Ласточки-береговушки вились над лодкой. Они то зависали, щебеча и дрожа, перед норками, то исчезали в них, то выпадали, одна за другою, обратно в воздух. Что-то игрушечно-лёгкое было в их щебетании и скользящем полёте: ласточки будто не проживали в заботах и хлопотах свою птичью жизнь, а танцевали её…
Солнце садилось за лугом. Его огненный диск так быстро тонул за чертой горизонта, что делалось страшно: как же мы будем без солнца? Времени дня оставалось так мало, и оно утекало так быстро, что ты торопился запомнить всё то, что тебя окружает – обрыв, реку, ласточек, – как перед самой последней разлукой…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































