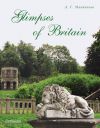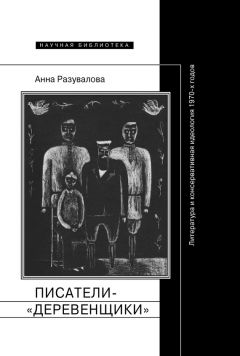
Автор книги: Анна Разувалова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
«Консервативный поворот» «долгих 1970-х»: на правах «артикулированной аудитории»
Консервативный курс, в 1970-е давший о себе знать в экономике, политике, культуре, стал результатом трансформации советской системы, которая, отказавшись от массового репрессивного воздействия на население, была вынуждена искать «мирные» способы поддержания себя в функциональном состоянии. Консервативную ориентацию подсказывали власти и внешние условия (от роста мировых цен на энергоносители до все более широкого проникновения западных стандартов общества потребления), и соображения самосохранения. По словам Алекса Береловича, термин «развитой социализм», который сейчас принято считать идеологическим симулякром, довольно точно обнаруживал существенную переориентацию системы. Он подавал обществу сигнал о том, что построение коммунизма более не определяет повестку дня[24]24
Берелович А. Семидесятые годы ХХ века: реплика в дискуссии // Мониторинг общественного мнения. 2003. № 4. С. 60.
[Закрыть] и власть переходит на консервативные позиции. Вместо аскезы, трудовых подвигов и миссионерски заряженного порыва к коммунизму населению предлагалось существование «здесь и сейчас», в обстановке стабильности и относительного достатка. Консервативный тренд был обусловлен не только соображениями «большой политики» и заботами партийной элиты об упрочении собственного положения в ситуации ослабления мобилизационного тонуса. «Нормализация» соответствовала и массовым ожиданиям. Общество приходило в себя после экстремального напряжения сталинской мобилизации 1930-х, войны, послевоенной разрухи и постепенно «обуржуазивалось»: росло благосостояние, оформлялись потребительские интересы, появились возможности выезжать за рубеж (прежде всего в страны народной демократии), знакомиться с иным образом жизни, широко доступным стало высшее образование и более доступным – обладание техническими и бытовыми новинками.
Несмотря на «консервативный поворот», систему ключевых историко-культурных ориентиров (дат и вех), структурировавших коллективную советскую идентичность, власть оставила прежней: официальный исторический миф, легитимировавший режим, по-прежнему вел отсчет от 1917 года[25]25
Точнее будет говорить об изменениях в конструкции коллективной памяти о прошлом, которые отражали расстановку сил, проблемы и приоритеты брежневского периода. Зависимость между новым образом Великой Отечественной войны, ее превращением в главное событие советской истории и консервативным трендом 1970-х убедительно показал Борис Дубин: «Фактический отказ от идей “светлого будущего”, “построения коммунизма при жизни нынешнего поколения”, т. е. от реликтов миссионерского утопизма, идеологического фанатизма пореволюционной эпохи и ее позднейших мифологизаций, принял форму утверждения (столь же идеологизированного, но по-другому) “настоящего” и его проекций в “прошлое”» (Дубин Б. «Кровавая» война и «великая» победа // Отечественные записки. 2004. № 5. URL: http://www.strana-oz.ru/2004/5/krovavaya-voyna-i-velikaya-pobeda). Отодвинувшие на второй план Октябрьскую революцию, коллективизацию, годы репрессий Великая Отечественная война и ее «эхо» – полет Ю.А. Гагарина в космос, по мнению исследователя, стали главными символами, в отсылке к которым конструировалась коллективная идентичность позднесоветского общества (см.: там же).
[Закрыть], а в официальном политическом языке был по-прежнему различим лексико-риторический субстрат, сформированный идеологией «революционного обновления» (отсюда напоминания о принципах интернационализма, апелляция к мировому рабочему движению, заверения в верности идеалам прогресса). В общем, Советский Союз продолжал неуклонное шествие по «пути мира, прогресса и социализма», но не так бодро, как прежде, постоянно останавливаясь, чтобы обдумать «уроки истории».
Необходимая для поддержания статус-кво советской системы консервативность предполагала расширение «площади опоры», что выразилось в использовании более разнообразного набора символических ресурсов и культурных языков, к которым власть обращалась в целях самолегитимации, даже если эти языки и ресурсы ранее были табуированы или существовали на культурной периферии. Консервативные смыслы обычно не предъявлялись обществу напрямую, но могли актуализироваться разными контекстами (как, например, уже упоминавшийся «развитой социализм»), интегрироваться в официальный политический дискурс частично и, конечно, в подчинении общей прогрессистской семантике. Однако между языком власти и языком групп, которые осознавали консерватизм собственных установок и пытались его артикулировать («неопочвенничество»), шло непрекращающееся взаимодействие. Первоначально, в конце 1960-х идеологемы и метафоры «неопочвеннического» лагеря – «возвращение к истокам», «единый поток русской культуры», «сохранение традиций» и т. п., – если рассматривать их не изолированно, а в совокупности, как внутренне связное манифестирование определенной позиции, несли в себе очевидный контрмодернизационный заряд, проблематизировали постулаты официальной идеологии и придавали национально-консервативным взглядам характер вольномыслия. Разумеется, национал-консерваторы играли по существующим правилам и использовали в тактических целях язык противника, однако эти уловки не затушевывали «концептуальности» их коллективного высказывания, на которое официоз реагировал обвинениями в «воинствующей апологетике крестьянской патриархальности»[26]26
Яковлев А. Против антиисторизма // Литературная газета. 1972. 15 ноября. С. 4.
[Закрыть] и «антиисторизме». Подобные оценки заостряли различия позиций «неопочвенников» и официальных структур: граница между ними в определении ключевых ценностей и символов становилась более резкой, но близость их языков до поры оставалась несколько «смазанной», хотя и заметной внимательному наблюдателю. Совпадения в риторике не были случайностью, они оборачивались более тесными контактами и поддержкой некоторых начинаний патриотической общественности со стороны власти (например, Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), которое Олег Платонов называет «главной патриотической организацией… одним из центров возрождения русского национального сознания»[27]27
Платонов О. ВООПИК. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/97 43/%D0%92%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%9A.
[Закрыть], создано Постановлением Совета Министров РСФСР 23 июля 1965 года). Терпимость властных структур по отношению к национально-консервативному лагерю обусловливалась не только сходством определенных идеологических целей. Не в последнюю очередь оно основывалось на общем социальном опыте советских чиновников, контролировавших литературный процесс, и авторов-«неопочвенников», периодически нарушавших «правила игры». Владимир Максимов, заметив, что «деревенщики» прошли в литературу под «крышей» Солженицына[28]28
В. Максимов – Д. Глэд // Глэд Д. Указ. соч. С. 255.
[Закрыть], уточнял:
…у этого явления был целый ряд других причин. Деревенская литература сумела заявить о себе благодаря еще и тому, что сейчас правящий класс в нашей стране примерно на девяносто процентов – это выходцы из крестьянства. И у них есть подсознательная ностальгия по прошлому – прошли там и голод, и коллективизацию. И они решают, что допускать, что нет[29]29
Там же.
[Закрыть].
К началу 1970-х годов контуры новой литературно-идеологической позиции стали более или менее ясны. Либералы – сотрудники «Нового мира» – между собой с иронией окрестили ее «балалаечник», то есть «1) Человек, делающий карьеру, рвущийся к власти, 2) Человек, выбравший для этого идею антиофициозную, достаточно безопасную и достаточно привлекательную для масс (общепонятную)»[30]30
Чудакова М.О. Пора меж оттепелью и застоем // Семидесятые как предмет истории русской культуры. М., 1998. С. 98.
[Закрыть].
Причины и формы включения национально-консервативного лагеря («деревенщиков» как его части) в политическую жизнь «долгих 1970-х», наделение его известными полномочиями, которые, впрочем, не были (и не могли быть) реализованы в полной мере, давно стали предметом изучения историков[31]31
Взгляд на «деревенскую прозу» как на «культурную манифестацию русского национализма» характерен для зарубежной историографии. См., например, хрестоматийную работу: Dunlop J.B. The Faces of Contemporary Russian Nationalism. Princeton University Press, 1983. Р. 109–132. Большое количество западных исследований посвящено событиям перестройки и начала 1990-х годов. Их авторы рассматривают группу писателей-патриотов в качестве важного политического игрока, а их деятельность на рубеже 1980 – 1990-х годов – как бесспорное доказательство влиятельности националистических сил: Shlapentokh V. Soviet Intellectuals and Political Power. Princeton, 1990; Laqueur W. Black Hundred: The Rise of the Extreme Right in Russia. N. Y., 1993 (Лакер У. Черная сотня. М., 1994); Rancour-Laferriere D. Russian Nationalism from an Interdisciplinary Perspective. Imagining Russia // Slavic Stidies.Vol. 5. The Edvin Mellen Press Lewiston, Queenston, Lampeter, 2000; Rossman V. Russian Intellectual Antisemitism in the Post-Communist Era. The Hebrew University of Jerusalem, 2002; O’Connor K. Intellectuals and Apparatchiks: Russian Nationalism and the Gorbachev Revolution. Lexington Books, 2006.
[Закрыть]. Наиболее обстоятельно эта проблематика на позднесоветском материале рассмотрена в работах Ицхака Брудного «Создавая Россию заново. Русский национализм и советское государство, 1953–1991» (1998) и Николая Митрохина «Русская партия. Движение русских националистов в СССР. 1953–1985 гг.» (2003). Если Брудного «деревенщики» и национально-консервативный лагерь интересуют в качестве основного проводника в массы властной политики блокирования экономических и политико-культурных реформ, то Митрохин нацелен на описание и официально допущенных, и нелегальных, развивавшихся в русле диссидентства форм националистической оппозиции, одной из групп которой являлись «деревенщики».
Брудный предложил рассматривать легальных русских националистов, и «деревенщиков» в частности, как главный объект «политики включения» (politics of inclusion), родившейся в недрах партийного аппарата брежневской поры[32]32
Brudny Y. Reinventing Russia. Russian Nationalism and the Soviet State, 1953–1991. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998. Р. 15.
[Закрыть]. С его точки зрения, хрущевские реформы сельского хозяйства и курс на десталинизацию в середине 1960-х годов вплотную подвели новое руководство страны к необходимости использовать для достижения своих политических целей «артикулированную аудиторию», то есть, ссылается Брудный на Кеннета Джовита, – «политически осведомленные и ориентированные группы, способные предложить режиму дифференцированные и сложные формы поддержки. В отличие от общественности – граждан, которые по своей инициативе определяют позицию в отношении важных политических вопросов, эта аудитория ограничена в политическом поведении теми ролями и действиями, которые предписаны самим режимом»[33]33
Ibidem. P. 16.
[Закрыть]. Функции «артикулированной аудитории» выполнили русские националисты-интеллектуалы, чей критицизм власть была готова терпеть, так как он не затрагивал ее авторитарной природы[34]34
Ibidem.
[Закрыть], но чей креативный потенциал помогал «обеспечить новую идеологическую легитимность режима»[35]35
Ibidem. P. 17.
[Закрыть]. Власть предоставляла «деревенщикам» некоторые привилегии (цензурные послабления, солидные тиражи) и бесспорной актуальностью деревенской темы оправдывала гигантские капиталовложения в сельское хозяйство[36]36
Brudny Y. Ibidem. P. 60.
[Закрыть]. Антизападнический и антимодернистский настрой националистов, в том числе «деревенщиков», способствовал достижению еще нескольких важных целей – повышению уровня политической мобилизованности самой большой части «советского народа» – этнических русских[37]37
Ibidem.
[Закрыть] и углублению раскола в рядах интеллигенции, возрастанию напряжения между ее либеральным и консервативным флангами. Периодически националисты выходили из-под контроля и пытались вести собственную игру, инициируя дискуссии по острым проблемам развития страны, однако действенный ответ на поставленные вопросы могли бы дать только серьезные структурные изменения в самой природе советской политико-экономической жизни, немыслимые в брежневский период[38]38
Ibidem. P. 132.
[Закрыть]. Решение о старте таких реформ, развитие рыночной экономики и демократизация общественной жизни подорвали влиятельность движения русских националистов, которое в начале 1990-х годов закономерно разделило политическую судьбу контрреформистских сил.
В контекст политической борьбы внутри партийно-государственного аппарата включает русских националистов и Н. Митрохин, обоснованно подчеркнувший удивительную однобокость созданного советскими либералами в конце 1980-х – 1990-е годы и усвоенного интеллигентской аудиторией мифа: согласно ему, источником сопротивления режиму была лишь тонкая либеральная прослойка[39]39
См.: Митрохин Н. Русская партия. Движение русских националистов в СССР. 1953–1985. М., 2003. С. 5.
[Закрыть]. Собранный исследователем обширный фактический материал демонстрирует существование «консервативной альтернативы “усредненному” партийному курсу»[40]40
Там же. С. 8.
[Закрыть] – движения русских националистов. Оно заявляло о себе как на уровне подпольных организаций диссидентского толка, так и в разрешенном сверху варианте. Легальные националисты были представлены в партийно-государственном аппарате, имели широкий круг сторонников в различных творческих союзах[41]41
Там же. С. 8.
[Закрыть], особенно – в Союзе писателей СССР.
…«цеховой» дух и ментальность самостоятельной политической силы позволяли писательской корпорации в целом или отдельным ее фракциям выступать по отношению к внешнему миру в качестве высокоэффективного лоббиста, пусть зачастую и бессознательно отстаивающего свои интересы как в политической (в первую очередь, свобода самовыражения), так и в экономической сферах. <…> Благодаря этим качествам часть членов СП СССР, объединенных в широкую коалицию, именуемую нами <…> «консерваторы», сумела стать равноправным партнером консервативных политических группировок 1950 – 1960-х гг. в деле распространения русского национализма в СССР, а впоследствии даже возглавить этот процесс[42]42
Митрохин Н. Указ. соч. С. 143–144.
[Закрыть].
Митрохин полагает, что «деревенщики» и бывшие фронтовики, закончившие Литературный институт им. А.М. Горького, составляли ядро националистических сил в писательской среде в 1960 – 1980-е годы. Некоторые аспекты их взглядов (антизападничество, антисемитизм, государственничество) замечательно вписывались в систему идеологических ориентиров, провозглашаемых властью, другие (антисталинизм и антисоветизм многих членов националистической «фракции», подчас воинственный антимодернизм), напротив, подлежали контролю – административному и цензурному. В трактовке Митрохина, «деревенская проза» была транслятором националистических идей, отстаиваемых частью партийных функционеров и интеллектуалами консервативного толка, поэтому он акцентирует внимание на усилиях последних по отбору талантов «русского направления»[43]43
См.: Там же. С. 395–396.
[Закрыть]. Правда, «конструктивистская» деятельность партаппарата так увлекает исследователя, что он оставляет без внимания другие механизмы и мотивы возникновения литературных групп. Как следствие, в его книге «деревенская проза» предстает продуктом заботливой деятельности партийных «селекционеров».
Авторы еще одной недавней работы о националистическом движении в позднесоветский период категорически не соглашаются с Митрохиным, преувеличившим, по их мнению, силу и авторитетность «русской партии»[44]44
См.: Соловей Т., Соловей В. Несостоявшаяся революция: Исторические смыслы русского национализма. М., 2009. С. 225. Лидеры позднесоветской правой, откликаясь на книгу Митрохина и на разговоры о тайной поддержке русских националистов в ЦК, уверяли, что степень такой поддержки преувеличена, но при этом не скрывали фактов близкого знакомства с высшей партноменклатурой. См.: Семанов С.Н. Откуда есть пошла русская партия // Семанов С.Н. Русское возрождение: борьба продолжается. М., 2009. С. 3 – 20; Был ли русский орден в ЦК? Беседа В. Ганичева и В. Бондаренко // Бондаренко В.Г. Пламенные реакционеры: Три лика русского патриотизма. М., 2003. С. 146–148.
[Закрыть], но солидарны с тезисом Брудного об амбивалентном культурно-политическом статусе легальных «русистов». Они полагают, что заручиться относительной лояльностью «деревенской» литературы
можно было, лишь предоставив ей хотя бы частичное право голоса. Поэтому взаимоотношения националистов и коммунистической власти не сводились лишь к вульгарному использованию властью националистов (в данном случае – писателей-«деревенщиков»), а становились улицей с двусторонним движением. <…> «Деревенщики» не просто нужны были Брежневу для легитимации его внутренней политики, в каком-то смысле сама эта политика была ответом на русский общенациональный запрос, как он виделся, формулировался, выражался культурной элитой русофильского толка[45]45
Соловей Т., Соловей В. Указ. соч. С. 223–224.
[Закрыть].
Рассмотрение историками «деревенской прозы» как литературной репрезентации позднесоветского национализма, безусловно, имеет ряд издержек. Главные уже были названы – литературный дискурс отождествляется с пропагандистским, а реконструированная исследователями логика действия группы нивелирует многообразие персональных мотивов и неоднозначность личной позиции. Кроме того, анализ институциональной составляющей «политики включения» и зигзагов ее развертывания отодвигает на второй план проблемы, связанные с самоопределением различных «фракций» национал-консерваторов, или рассматривает их общо. Митрохин, к примеру, неоднократно упоминает о поиске «теоретиками» и «коммуникаторами»[46]46
Митрохин Н. Указ. соч. С. 379.
[Закрыть] национально-консервативных сил каналов влияния на власть, поддержки своей деятельности в партийно-правительственных структурах, но возникает вопрос – насколько это свойственно «деревенщикам», часть которых в конце 1960-х – 1970-е годы была более свободна от просоветских симпатий и «государственничества», нежели, например, С. Семанов или Виктор Петелин, да и в целом – от желания прямо влиять на политиков? Дифференцированного описания позиций «теоретиков» и «художников» национально-консервативной ориентации в названных работах по понятным причинам нет, однако их бесспорное достоинство, особенно значимое для филологов, ограничивающихся в лучшем случае упоминанием о борьбе между «Новым миром» и «Молодой гвардией» конца 1960-х либо выстраивающих диахронические схемы, безусловно нужные и важные, но лишающие «деревенщиков» «воздуха эпохи», в которой они существовали, заключается в возвращении писателей-«неопочвенников» в контекст истории «долгих 1970-х», прежде всего истории политической и, до известной степени, истории идей. А ведь у этой проблематики есть и очевидное филологическое измерение – репрезентация идеологической топики в литературном тексте[47]47
В начале 2000-х в связи с публикацией книги Андрея Зорина («Кормя двуглавого орла…»: Литература и государственная идеология в России последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., 2001) обсуждался вопрос о методологии анализа идеологических моделей и роли литературы в продуцировании таких моделей, однако эта дискуссия разворачивалась, в основном, среди историков, либо филологов, практикующих полидисциплинарный подход. См.: Цымбурский В. Рецензия на книгу Андрея Зорина «Кормя двуглавого орла» // Цымбурский В. Поэтика геополитики: Статьи 2001–2009; Живов В. Двуглавый орел в диалоге с литературой // Новый мир. 2002.№ 2. С. 174–183; Форум AI: обсуждение книги А.Л. Зорина «Кормя двуглавого орла…» // Ab Imperio. 2002. № 1. С. 470–554.
[Закрыть] (с необходимой оговоркой – она не была иллюстрацией идеологической доктрины: позднесоветский консерватизм националистического извода, не имевший доступа к механизмам осуществления «реальной политики», реализовался преимущественно в литературно-критической форме; его «литературность» (мотивные комплексы, метафорика, стиль) сама по себе может стать предметом анализа только не как формальная «оболочка» идей, а как продуцирующая идеологические смыслы символическая система, испытавшая в свою очередь влияние идеологии[48]48
См. об этом подробнее: Живов В. Указ. соч. С. 175–176.
[Закрыть]).
Литературоведческий дискурс о «деревенской прозе»: От «идеологии» к «онтологии»
Понятно, что в созданных в советское время литературоведческих исследованиях «деревенской прозы» круг ее идей («идеология», «проблематика») и позиция писателей в «литературной борьбе» истолковывались с учетом ограничений, налагаемых официальным дискурсом и требованиями дисциплинарной чистоты. В 1970-е – первой половине 1980-х метафорой обретения зрелости критика часто подчеркивала превосходство «деревенщиков» по отношению к литературному воплощению «шестидесятничества» – «исповедальной прозе», а их главные идеи рассматривала как развитие «вечных» для русской литературы тем («человек и земля», «человек и природа», «любовь к родному пепелищу» и др.[49]49
См.: Макина М.А. Деревенская проза 60 – 70-х годов в ее историко-литературном и современном контексте. Л., 1980; Ковский В.Е. Преемственность («Деревенская тема» в современной литературе). М., 1981.
[Закрыть]). Ссылка на традицию XIX века адаптировала проблемно-тематический комплекс «деревенской прозы» под стереотипизированный образ русской классики, подчеркивала непрерывность культурной традиции («преемственность») и таким образом мягко «деидеологизировала» авторов-«неопочвенников». В 1970-е годы, когда «деревенская» школа стала активно осваиваться литературоведением, анализ текста с точки зрения отражения в нем тех или иных идеологических постулатов («вульгарный социологизм») выглядел явным анахронизмом, а вот дистанцирующая от идеологии тенденция к осмыслению структуры текста, его поэтики распространялась все успешней[50]50
В зарубежной славистике преобладала тенденция, о которой я упоминала в связи с исследованиями историков, – рассматривать «деревенскую прозу» через симптоматику внутренних изменений советского проекта – как постепенный отказ от постулатов официального марксизма-ленинизма, выход за пределы соцреализма, спор с модернизмом в политике и культуре, реабилитацию «русскости» и т. п. См.: Brown D. Soviet Russian Literature since Stalin. Cambridge University Press, 1978; Brown D. Nationalism and Ruralism in Recent Soviet Russian Literature // Review of National Literatures (Spring, 1972). P. 183–209; Сlark K. The Centrality of Rural Themes in Postwar Soviet Fiction // Perspectives on Literature and Society in Eastern and Western Europe / Ed. G. Hosking. London, 1989; Gibian G. Reviving Russian Nationalism // The New Leader (Nov. 19, 1979); Gillespie D. Social Spirit, Private Doubts // The Life and Work of Fyodor Abramov / Ed. by D. Gillespie. Northwestern University Press, 1997. P. 10–79; Gillespie D. The Twentieth-Century Russian Novel. An Introduction. Oxford: Berg, 1996; Hosking G. Beyond Socialist Realism: Soviet Fiction since Ivan Denisovich. L., 1980; Lowe D. Russian Writing since 1953. A Critical Survey. N.Y., 1987; Marsh R. Soviet Fiction since Stalin: Science, Politics, and Literature. New Jersey, 1986.
[Закрыть]. В одной из статей конца 1970-х годов отмечалось, что «деревенская проза» «породила свою критическую литературу»[51]51
Петрик А.П. «Деревенская проза»: итоги и перспективы изучения // Филологические науки. 1981. № 1. С. 66.
[Закрыть], но в последнее время та не высказала сколько-нибудь новых суждений. Возможно, предполагал автор статьи, следует перейти к анализу «деревенской прозы» как стилевого явления[52]52
Там же.
[Закрыть]. Подобное смещение интересов от «идеологического» к «художественному» несло обоюдную выгоду и «деревенщикам», и части филологического сообщества, занимавшейся их изучением. Подчеркнутый интерес филологов к поэтике «деревенской» литературы символично эмансипировал ее от «идеологии» и окончательно утверждал Шукшина, Распутина, Астафьева, Белова и др. не только в качестве «возмутителей спокойствия», сигнализирующих об острых общественных проблемах, но и в качестве значимой художественной величины. В свою очередь исследователи современной литературы, занятия которой, по распространенному в интеллигентской среде мнению, обычно сопрягались с компромиссом, получали для анализа объект, эстетически убедительный, социопсихологически актуальный и при этом идеологически легитимный. В целом же, советское литературоведение изнутри общепринятого идеологического дискурса довольно подробно охарактеризовало круг проблем, мотивную структуру «деревенской прозы», созданные ею «народные» типы[53]53
Фронтальный обзор написанной в позднесоветский период научной литературы о «деревенщиках» может составить предмет отдельной работы, и в данном случае в нем нет нужды. Библиография по основным проблемам и характеристика предложенных концепций, если в том возникнет необходимость, будут рассредоточены по главам. Следует заметить, что интерес к этим аспектам – мотивная структура, типология героев, стиль – по-прежнему свойствен отечественному литературоведению и реализован во множестве появившихся в постсоветский период монографических работ и диссертаций. Перечислю некоторые из них: Гончаров П.А. Творчество В.П. Астафьева в контексте русской прозы 1950 – 1990-х годов. М., 2003; Калимуллин И.И. В.Г. Распутин: поэтика народной философии. Бирск, 2010; Соколова Л.В. Духовно-нравственные искания писателей-традиционалистов второй половины ХХ века (В. Шукшин, В. Распутин, В. Белов, В. Астафьев): Дис…. доктора филол. наук. СПб., 2005; Алейников О.Ю. Публицистическое начало в прозе В. Распутина (авторская позиция – характеры – стиль): Дис…. канд. филол. наук. М., 1991; Лифанова И.В. Национальный характер и национальная история в творчестве Б. Можаева: Дис…. канд. филол. наук. М., 1999; Попова И.В. Национально-поэтический контекст прозы В. Распутина 1980 – 1990-х годов: Дис…. канд. филол. наук. Тамбов, 2003; Соловьева Е.В. Художественное воплощение духовно-религиозной проблематики в произведениях В. Распутина и В. Максимова: Дис…. канд. филол. наук. М., 2005; Гапон Е.С. Художественная концепция личности в творчестве В.Г. Распутина 1990-х – 2000-х годов: Дис…. канд. филол. наук. Армавир, 2005; Шетракова А.Н. Проза С. Клычкова и В. Распутина: миф о крестьянском космосе и философия русского космизма: Дис…. канд. филол. наук. М., 2008; Холодкова Е.К. Концепция национального характера в прозе В.П. Астафьева, В.Г. Распутина и Б.П. Екимова 1990-х – начала 2000-х гг.: Дис…. канд. филол. наук. М., 2009; Барышева О.А. Христианский и народно-поэтические мотивы в художественном мире прозы В.Г. Распутина: Дис…. канд. филол. наук. Кострома, 2010; Калинина И.П. Русская семья и традиции национального жизнеустройства в повестях В.Г. Распутина «Пожар» и «Дочь Ивана, мать Ивана»: поэтико-философский аспект: Дис…. канд. филол. наук. Тамбов, 2010; Шлома Е.С. Материнское начало в прозе В.П. Астафьева: Дис…. канд. филол. наук. М., 2012; Иванова В.Я. Структурно-семантический аспект художественного образа в прозе В.Г. Распутина: Дис…. канд. филол. наук. Улан-Удэ, 2013.
[Закрыть].
Показательно, что одна из ключевых работ о «деревенской прозе» – монография американской исследовательницы К. Партэ «Русская деревенская проза: Светлое прошлое» (1992)[54]54
Parthe K.F. Russian Village Prose: Radiant Past. Princeton University Press, 1992. Рецензия на американское издание: Харитонов А.А. Русская советская деревенская проза: взгляд из Принстона // Русская литература. 1993. № 4. С. 222–225. В переводе на русский язык: Партэ К. Русская деревенская проза: Светлое прошлое / Пер. И.М. Чеканниковой и Е.С. Кириловой. Томск, 2004.
[Закрыть] была воодушевлена стремлением разграничить в анализируемых текстах «художественное» и «идеологическое» (последнее понималось как непосредственная артикуляция художником политически ангажированных взглядов). В ситуации низвержения вчерашних кумиров советской интеллигенции автор книги пыталась отделить зерна от плевел и напомнить о недавно казавшихся несомненными заслугах «деревенщиков». Она доказывала, что «деревенщики» прежде всего художники, и гипертрофированные обвинения в политической непоследовательности, консерватизме деисторизируют и деконтекстуализируют понимание этого явления. Партэ не уходила от оценки антисемитских выпадов «деревенщиков» и их позиции по отношению к движению «Память»[55]55
Parthe K.F. Op. cit. Р. 92–98.
[Закрыть], но подчеркнуто смещала исследовательский фокус на вопросы поэтики и переосмысление «неопочвенниками» соцреалистического канона. Идеологию направления она реконструировала не как связный нарратив, а как систему метафор, ключевых концептов, которые оттеняли непоследовательность воззрений многих «деревенщиков», дрейф между разными политическими дискурсами.
Новый всплеск внимания к идеологии и историософии «деревенщиков» произошел благодаря изменению перспективы восприятия их прозы в культурной ситуации конца 1990-х, которую к тому времени отечественные гуманитарии стали дружно именовать «постмодернистской». Интерес к традиционалистскому типу художественного мышления для части читательского и исследовательского сообщества стал полубессознательной терапией культурного шока 1990-х, а «деревенская проза» в глобализирующемся мире ценностного релятивизма и текучих смыслов показалась воплощением устойчивых свойств национального менталитета. Поэтому некоторым исследователям, неравнодушным к задачам идеологического самоопределения, вставшим перед Россией на рубеже 1990 – 2000-х годов, показалось обоснованным вновь обратиться к «неопочвенничеству». Так, Алла Большакова в ряде своих работ говорила о необходимости «ментальной “реабилитации”»[56]56
Большакова А.Ю. Нация и менталитет: Феномен «деревенской прозы» ХХ века. М., 2000. С. 5.
[Закрыть] «деревенской прозы». Идентичность современного российского социума, с ее точки зрения, должна формироваться в опоре на «доидеологические» слои сознания, и тут опыт «деревенщиков» как нельзя кстати:
Пути формирования новой идеологии XXI века прокладываются сейчас в сгущенной атмосфере идейных дебатов и баталий по самым острым вопросам современности. В такой атмосфере на первый план выдвигается задача общенационального самопознания. Рассмотрение с этих позиций триады «идеология – самосознание – менталитет» (как соответствующей структуре «государство – общество – народ – нация») позволяет выделить последний на правах первичной сферы изучения…
В России XXI века решение задачи национального самопознания <…> связано с восстановлением в правах и возвращением в общественное сознание подавленных, вытесненных, так сказать, «запрещенных» ментальных пластов[57]57
Там же. С. 3–4. См. также: Большакова А.Ю. Деревня как архетип: От Пушкина до Солженицына. М., 1998; Она же. Русская деревенская проза ХХ века: код прочтения. Шумен, 2002; Она же. Судьбы крестьянства в русской литературе. М., 2002.
[Закрыть].
Поскольку «“запрещенные” ментальные пласты» наилучшим образом сохранились именно в «деревенской прозе», структурные элементы русского менталитета («национальная душа», «национальная идентичность» и «национальный характер»), по мнению исследовательницы, нужно описывать на этом материале:
сейчас особенно непростительной роскошью оборачивается небрежение к тем «вышедшим из моды» явлениям русской культуры, которые, может быть, по-настоящему и не познаны… К таким явлениям, в первую очередь, следует отнести архетипические формы национального самосознания <…> – в частности и в особенности, историко-литературный, архетипический образ русской деревни, связанный с архаическими пластами русской старины[58]58
Там же. С. 8.
[Закрыть].
Если отрешиться от терминологии «ментальности», «читателя», «рецептивной доминанты», то окажется, что предмет работ Большаковой не нов – это специфика национальной культурной традиции, занимавшая как отечественных исследователей (в том числе национально-консервативного толка), так и зарубежных[59]59
Британский историк Джеффри Хоскинг вспоминал о сильнейшем впечатлении, которое произвело на него чтение (видимо, в конце 1960-х – начале 1970-х) повести В. Белова «Привычное дело»: «В ней рассказывалось о колхозе где-то на Русском Севере и о жизни колхозника, который любил семью, жену, детей и землю, но был доведен до крайности отношением местных начальников настолько, что решил бросить деревню и начать новую жизнь в городе.
Книга показала мне, что можно было быть русским и в то же время быть “несоветским” <…>.
Однако Белов оказался для меня в чем-то новым – в романе раскрывалась несоветская русская культура, порожденная не церковью и не высоко образованными интеллектуалами-антимарксистами, а простыми русскими людьми, крестьянами, которые так долго молчали или, по крайней мере, не были слышны» (Хоскинг Дж. Правители и жертвы: Русские в Советском Союзе / Пер. с англ. В. Артемова. М., 2012. С. 6–8). Это же присутствие литературно-небанальной, нестереотипной «русскости», особенно заметной на фоне массовой советской литературной продукции, ощутили многие читатели, а национально-консервативный лагерь осознал, что с «русскостью» можно работать. В повести В. Солоухина «Последняя ступень» есть сцена знакомства автобиографического героя-повествователя с его будущими наставниками в деле просвещения в националистическом духе, и те сразу объясняют, почему именно Солоухина они выделили из общей массы литераторов: «Читал. Нет слов. Единственный русский писатель <…>
Русский дух – вот что важно. А он есть в ваших книгах» (Солоухин В.А. Последняя ступень // Солоухин В.А. Собр. соч.: В 5 т. М., 2011. Т. 5. С. 8).
[Закрыть]. Большакова осмысливает «русский вопрос», соединяя анализ архетипических структур и идеологическую рецепцию текстов «деревенщиков». Она полагает, что архетип может подвергнуться «идеологизации», как это случилось в соцреалистической культуре с «основным архетипом Деревни»[60]60
Большакова А.Ю. Нация и менталитет. С. 30.
[Закрыть]:
Но если следовать этой логике, окажется, что архетип Деревни в работах Большаковой тоже «идеологизирован», вправлен в узнаваемую, но терминологически обновленную схему: архетип объявляется синонимичным подлинной русской культурной традиции, которую-де искажал, дискредитировал либо отвергал советский антитрадиционализм.
Интерес к «художественному мифологизму», стабильным смысловым структурам, архетипам, «смыслопорождающим матрицам» – словом, к механизмам, обеспечивающим воспроизводимость традиции, вообще был характерен для ряда работ, написанных о «деревенской прозе» в постсоветский период[62]62
См., например: Козлова С.М. Поэтика рассказов В.М. Шукшина. Барнаул, 1992; Рыбальченко Т.Л. Мифологемы образа Сибири в русской прозе второй половины ХХ века // Сибирь: взгляд извне и изнутри. Духовное измерение пространства. Иркутск, 2004; Ковтун Н.В. Русская литературная утопия второй половины XX века. Томск, 2005; Она же. Деревенская проза в зеркале утопии. Новосибирск, 2009; Цветова Н.С. Эсхатологическая топика русской традиционной прозы второй половины ХХ века. СПб., 2008; Смыковская Т.Е. Национальный образ мира в прозе В.И. Белова. М., 2010; Букаты Е.М. Поэтика художественного пространства в прозе В.П. Астафьева («Последний поклон», «Царь-рыба», «Прокляты и убиты»): Дис…. канд. филол. наук. Томск, 2002; Новикова Н.Л. Мифологическое пространство в повестях В.Г. Распутина: образ реки // Народная культура Сибири. Иркутск, 2005. С. 194–197; Королева С.Ю. Художественный мифологизм в прозе о деревне 1970 – 1990-х годов: Дис…. канд. филол. наук. Пермь, 2006; Новожеева И.В. Концепция человека в деревенской прозе 1960 – 1980-х годов: по произведениям В. Астафьева, Ф. Абрамова, В. Белова, В. Распутина, В. Шукшина: Дис…. канд. филол. наук. Брянск, 2007; Галимова Е.Ш. Архетипический образ реки в художественном мире Валентина Распутина // Время и творчество Валентина Распутина. Иркутск, 2012. С. 98 – 109.
[Закрыть]. В известной мере он оправдывался влиятельностью растиражированной в 1990-е годы методики истолкования текста через мифопоэтику (тем более что «онтологическая» проза «деревенщиков», чуждавшаяся, за редким исключением, «литературности», как бы взывала именно к такому способу прочтения). В 2000-е годы дал о себе знать еще один вариант истолкования текстов «деревенщиков», возникновение которого слишком симптоматично, чтобы можно было объявить его маргинальным. Речь идет о работах в русле «онтологически ориентированного» литературоведения, которое демонстративно дистанцировалось от позитивизма и антропоцентрической научной парадигмы и вписывало себя в парадигму «метафизическую, основанную на переосмыслении пространственно-временного континуума и учете моментов сакрализации утраченных смыслов…»[63]63
Грацианова И.С. Концептосфера и архетипическое пространство русской онтологической прозы последней четверти XX столетия: Автореф. дис…. канд. филол. наук. Краснодар, 2004. С. 3.
[Закрыть]. В осмыслении «онтологического» аспекта творчества «деревенщиков» открытия нет: рассматривать «онтологические» пласты их произведений еще в советское время предлагала Галина Белая[64]64
См.: Белая Г.А. Художественный мир современной прозы. М., 1983. С. 143, 151, 185–186. См. также: Вертлиб Е. Русское – от Загоскина до Шукшина (опыт непредвзятого размышления). СПб., 1992. С. 231.
[Закрыть], статьи, трактовавшие «онтологизм» как особый ракурс изображения мира, при котором для художника первична ориентация на «глубинные», неизменные, природные начала бытия, со временем также перестали быть редкостью. Но в 2000-е годы «онтологизм» «деревенщиков» стал связываться исследователями с православной религиозностью, а аксиоматичные для религиозного опыта утверждения превращаться в основания научных тезисов. Например, автор диссертации о В. Белове выносит на защиту следующее положение:
Православное осмысление человеческой жизни как трагедии заключается в свободном отречении человека от своей воли и подчинении воли Божьей. Утверждение высшего предназначения личности, проявление в ней образа Божьего связано со страданиями, лишениями, утратами и гибелью. Осознание человеком неизбежности жизненного трагизма – важнейшая черта идейно-эстетического воплощения категории соборности, реализуемая в ряде произведений русской классической литературы и «малой» прозе В. Белова 60 – 90-х годов ХХ века[65]65
Крижановский Н.И. Художественная реализация категории соборности в «малой» прозе В. Белова 60 – 90-х годов ХХ века: Автореф. дис…. канд. филол. наук. Краснодар, 2004. С. 4.
[Закрыть].
«Соборность», «нестяжательство» и иные подобные категории также рассматриваются в качестве инвариантных структур, «пред-текстов», реализуемых потом в культурно-специфичных формах в прозе Белова, Астафьева, Распутина. «Невербальная система смысловых связей», раскрывающих, по эзотеричному выражению Ирины Грациановой, «трансцендентную сущность концепта “русский мир”»[66]66
Грацианова И.С. Указ. соч. С. 12.
[Закрыть], утверждается в роли генератора сюжетно-мотивной топики текстов, при этом иные механизмы смыслопроизводства по большей части оставляют исследовательницу равнодушной.
Чтобы дополнить характеристику направлений в исследованиях «деревенской прозы», обозначу еще несколько тенденций. Помимо анализа мифопоэтики, типологии героев и традиционалистских идеологем, современное литературоведение повернулось в сторону психоаналитических штудий. Эта новая по отношению к советскому периоду и несколько эксцентричная тенденция обозначилась в работах Александра Большева и Арсамака Мартазанова[67]67
Большев А.О. Исповедально-автобиографическое начало в русской прозе второй половины ХХ века. СПб., 2002; Мартазанов А. Идеология и художественный мир «деревенской прозы» (В. Распутин, В. Белов, В. Астафьев, Б. Можаев). СПб., 2006.
[Закрыть]. Большев в монографии об исповедально-автобиографическом начале русской литературы отвел «деревенщикам» главу под выразительным названием «Эрос и Танатос “деревенской прозы”». Ориентируясь на психобиографические опыты Александра Жолковского, он интерпретировал риторическую организацию сочинений Белова и Шукшина, учитывая действие психологического принципа переноса. Исследователь отметил проекцию вытесненных авторами эмоций на негативных персонажей и, что более важно, рассмотрел влияние такого «вытеснения» на поэтику текстов. Можно дискутировать о верифицируемости отдельных авторских умозаключений, об ограничениях, налагаемых подобной методикой, но сама попытка увидеть и описать невротическую природу реакций на распад традиционного мира, действительно, нова и заслуживает внимания. Мартазанов минимизировал употребление психоаналитических терминов, однако в логике своего исследования об идеологии и художественном мире «деревенской прозы» следовал за Большевым – он рассмотрел несовпадение декларируемых писателями идей и «сцен», невротической риторики героев и многозначности сюжетно-символического ряда. В главах его монографии о Белове и Распутине это приводит к интересным исследовательским результатам.
Еще одна относительно недавно кристаллизовавшаяся тенденция берет начало в традиции, связанной с именем и работами Владимира Топорова по изучению «петербургского текста»[68]68
Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему) // Труды по знаковым системам. Вып. 18. Тарту, 1984.
[Закрыть], более широко-генерируемых определенными топологическими структурами[69]69
См.: Меднис Н.Е. Сверхтексты в русской литературе. Новосибирск, 2003.
[Закрыть] «городских текстов». Произведения «деревенщиков», олицетворявших в литературном процессе «долгих 1970-х» «периферию», рассматриваются исследователями как варианты регионального литературного сверхтекста – в данном случае Северного (Абрамов, Белов, Владимир Личутин) или Сибирского (Астафьев, Распутин, Залыгин, Шукшин)[70]70
См.: Куляпин А.И. История с географией: сибирский миф в прозе В.М. Шукшина // Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве. Красноярск, 2010; Разувалова А.И. Сибирский текст в прозе В.П. Астафьева (к постановке проблемы) // Там же; Цветова Н.С. Федор Абрамов и Валентин Распутин: национальное и региональное в художественной картине мира // Северный и Сибирский тексты русской литературы как сверхтексты: типологическое и уникальное. Архангельск, 2014. С. 129–138; Неверович Г.А. Пространственный код детства/младенчества в деревенской прозе // Там же. С. 169–179.
[Закрыть]. В немногочисленных работах, авторы которых учитывают опыт post-colonial studies, принципы изучения «ментальной географии» и геопоэтики, литературное воображение «деревенщиками» окраины (Русского Севера или Сибири) соотносится с широким кругом историко-политических проблем – процессами символического конструирования национальной государственно-политической целостности, развитием регионального самосознания и рефлексией инициированных центром процессов модернизации/колонизации периферии[71]71
См.: Анисимов К.В.Топография национального: место «сибирской» публицистики В.Г. Распутина в истории художественных и политических концептуализаций Зауралья // Время и творчество Валентина Распутина. С. 396–419; Анисимов К.В., Разувалова А.И. Два века – две грани Сибирского текста: областники vs. «деревенщики» // Вестник Томского гос. ун-та. Филология. 2014. № 1 (27). С. 75 – 101.См. также: Ogden J.A. Siberia as chronotope: Valentin Rasputin‘s Creation of a Usable Past in Sibir‘, Sibir‘ // Ab Imperio. 2004. № 2. С. 647–664.
[Закрыть].
Утверждение некоторых «деревенщиков» в роли современных классиков и параллельное оформление соответствующих мифов простимулировало ряд «монографических» проектов, реализуемых по преимуществу филологами региональных научных школ. Кумуляция усилий в пределах определенного региона, видимо, частично объясняется необходимостью для местного научного сообщества убедительно позиционировать себя в общероссийском масштабе, а поскольку «деревенщики» давно превратились в территориальные литературные «бренды» (в Бийске и Сростках – это В. Шукшин, в Архангельске и Верколе – Ф. Абрамов, в Вологде – В. Белов, в Красноярске и Овсянке – В. Астафьев, в Иркутске – В. Распутин), сосредоточенность региональной филологии на территориально «своем» авторе вполне логична. Наиболее внушительными представляются результаты работы филологов Алтая[72]72
См.: Шукшин В.М. Собр. соч. В 8 т. Барнаул, 2009; сборники и энциклопедии: Язык и стиль прозы В. Шукшина: Межвуз. сб. науч. трудов. Барнаул, 1991; Рассказ В.М. Шукшина «Срезал»: Проблемы анализа, интерпретации, перевода. Барнаул, 1995; Творчество В.М. Шукшина: Опыт энциклопедического словаря-справочника. Барнаул, 1997; Проза В.М. Шукшина как лингвокультурный феномен 60 – 70-х гг. Барнаул, 1997; Творчество В.М. Шукшина в современном мире: Эстетика. Диалог культур. Поэтика. Интерпретация: Сб. научных трудов / Отв. ред. С.М. Козлова. Барнаул, 1999; Провинциальная экзистенция: К 70-летию со дня рождения В.М. Шукшина. Барнаул, 1999; «Горький, мучительный талант…»: Материалы V Всерос. юбилейной научной конференции. Барнаул, 2000; Творчество В.М. Шукшина: Энциклопедический словарь-справочник / Науч. ред. А.А. Чувакин. Т. 1–3. Барнаул, 2004–2007; Творчество В.М. Шукшина в межнациональном культурном пространстве: Материалы VIII Всерос. юбилейной научной конференции / Отв. ред. О.Г. Левашова. Барнаул, 2009; монографии: Козлова С.М. Поэтика рассказов В.М. Шукшина. Барнаул, 1992; Куляпин А.И., Левашова О.Г. В.М. Шукшин и русская классика. Барнаул, 1998; Халина Н.В. Феноменологический анализ текста Василия Шукшина. Барнаул, 1998; Куляпин А.И. Проблемы творческой эволюции В.М. Шукшина. Барнаул, 2000; Левашова О Г. В.М. Шукшин и традиции русской литературы XIX в. (Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой). Барнаул, 2001; Куляпин А.И. Творчество Шукшина от мимезиса к семиозису. Барнаул, 2005.
[Закрыть], Красноярска[73]73
См.: Феномен В.П. Астафьева в общественно-культурной и литературной жизни конца ХХ века. Красноярск: Изд-во КГУ, 2005; И открой в себе память…: Воспоминания о В.П. Астафьеве: материалы к биографии писателя / Гл. ред. – сост. Г.М. Шленская; ред. – сост. Н.Я. Сакова. 2-е изд., испр. и доп. Красноярск, 2008; Стародуб: Астафьевский ежегодник: материалы и исследования. Вып. 1 / Гл. ред. и сост. Г.М. Шленская. Красноярск, 2009; Дар слова: Виктор Петрович Астафьев: (К 85-летию со дня рождения): Биобиблиографический указатель: статьи / Гос. универс. науч. б-ка Краснояр. края; КГПУ им. В.П. Астафьева. Иркутск, 2009; Юбилейные Астафьевские чтения «Писатель и его эпоха». 28–30 апр. 2009 г. / Отв. ред. А.М. Ковалева. Красноярск, 2009; Творчество В.П. Астафьева в контексте мировой культуры: Всерос. конференция с междунар. участием. Красноярск, 26–27 апреля 2012 года / Отв. ред. А.М. Ковалева. Красноярск, 2012.
[Закрыть], Иркутска[74]74
См.: Три века русской литературы: Актуальные аспекты изучения. Вып. 16. Мир и слово В. Распутина. М.; Иркутск, 2007; Время и творчество Валентина Распутина: Междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина: материалы / Отв. ред. И.И. Плеханова. Иркутск, 2012.
[Закрыть].