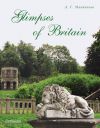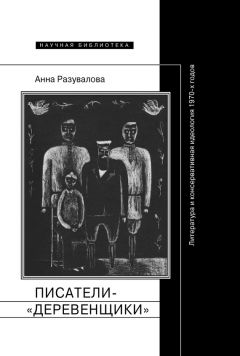
Автор книги: Анна Разувалова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Как еще можно читать «деревенщиков»?
Мне бы хотелось уйти от свойственного ряду работ о «деревенщиках» использования в качестве инструмента анализа мифологизированных оппозиций[75]75
Необходимость такого подхода была заявлена в: Уварова И.П., Рогов К. Семидесятые // Семидесятые как предмет истории русской культуры / Сост. К.Ю. Рогов. М., 1998. Вып. 1 [9]. С. 30.
[Закрыть], рожденных «долгими 1970-ми» (националисты против космополитов, консерваторы против либералов, где распределение оценок отвечает политическим предпочтениям исследователя). На мой взгляд, важнее контекстуализировать их и показать, как складывались эти репутации, как поддерживались, какую роль играли в групповом и персональном самоопределении, как влияли на концептуализацию критикой литературного процесса. В противном случае неотрефлексированная позиция исследователя, его, попросту говоря, «партийная принадлежность» часто проецируется на героя, который становится «соратником» по борьбе и рупором близких автору идей. Так, например, в одной из недавних монографий о творчестве Шукшина ставится задача – ответить на вопрос, «…как через порождающую эстетику Шукшин и сегодня полемизирует не только по поводу “необольшевизма”, но и по поводу пути России – с сегодняшними циничными проводниками неолиберальных реформ и очередных модернизаций»[76]76
Бодрова Л.Т. Малая проза В.М. Шукшина в контексте современности. Челябинск, 2011. С. 12.
[Закрыть]. Случаи, когда литературовед выбирает в качестве отправной точки анализа противопоставление «почвенности» «играм постмодерна», национального – цивилизованно-обезличенному и начинает при помощи Шукшина или иного автора защищать первое от второго, нередки в отечественных исследованиях «деревенской прозы» (возможен, кстати, и инверсивный вариант – модернизационно-просветительское против отстало-патриархального; правда, придерживающиеся этой схемы авторы реже обращаются к «деревенской прозе»). Исследователь, действительно, может полубессознательно камуфлировать собственную позицию, и тогда при рецепции его текста возникают интересные коллизии. Например, А. Большакова, провозглашая «объективизм» научной позиции, оперирует, в общем, традиционалистскими мифологемами (скажем, «стихийность и отторжение всякой оформленности»[77]77
Большакова А.Ю. Нация и менталитет. С. 3.
[Закрыть], якобы свойственные русскому «типу мышления», или «гармония города и деревни», достижимая «через реабилитацию исконных ментальных категорий, некогда презрительно низведенных “Иванами, не помнящими родства”»[78]78
Там же. С. 5.
[Закрыть]). Потом Михаил Голубков, среагировав на «реабилитацию исконных ментальных категорий», прочитывает книгу Большаковой «Нация и менталитет: феномен “деревенской прозы” ХХ века» как продолжение идей «неопочвеннической» критики 70 – 80-х годов[79]79
См.: Голубков М. История русской литературной критики ХХ века (1920 – 1990-е годы). М., 2008. С. 285–286.
[Закрыть], в то время как Юрий Павлов ставит исследовательнице в вину отсутствие ссылок на сочинения В. Кожинова, М. Лобанова, Ю. Селезнева и обильное цитирование Гарри Морсона, Дж. Хоскинга, Розалин Марш «и им подобных браунов»[80]80
Павлов Ю. Михаил Голубков: удачная неудача. URL: http://glfr.ru/biblioteka/jurij-pavlov/mihail-golubkov-udachnaja-neudacha.html.
[Закрыть]. В общем, оба рецензента «вычитывают» из работы Большаковой идеологический посыл, но определяют его противоположным образом.
Также мне представляется важным отойти от анализа «деревенской прозы» как некой «вещи в себе» – описанной исследователем данности с фиксированным набором имен, типологически значимых мотивов, узнаваемой стилистикой. Принципиальным при таком подходе становится вопрос о представителях направления (стало быть, и соображения из разряда «Х вообще не “деревенщик”, а вот Y – “деревенщик” настоящий»), поскольку именно набор имен, определение первостепенных и периферийных фигур задает конструируемый исследователем образ «деревенской» школы. Очевидно, что литературоведы, оценивающие ее художественную состоятельность в зависимости от способности авторов погружаться в «онтологические» глубины, тяготеют к выдвижению на первый план В. Распутина, В. Белова, некоторых произведений В. Астафьева, оставляя вне поля зрения С. Залыгина, В. Солоухина или Б. Можаева. Напротив, те, кто высоко ставит умение проблематизировать устойчивые литературные формы, сосредоточены на опытах В. Шукшина[81]81
Так, например, включение В. Шукшина в пределы «деревенской прозы», по мнению отдельных исследователей, есть не более чем дань сложившейся в советское время традиции. В любом случае именно Шукшин упоминается как доказательство успешного освоения эксцентрично-игровых форм письма и «литературности» (в поздний период), подрывающей канон традиционного реализма. См.: Эшелман Р. Эпистемология застоя: О постмодернистской прозе В. Шукшина // Russian Literature. Amsterdam. 1994. Vol. XXXV. P. 203–226 (а также: Eshelman R. Early Soviet Postmodernism. N.Y., Berlin, Bern: Peter Lang, 1999); Калашникова Т.А. В.М. Шукшин – писатель эпохи постмодернизма // Провинциальная экзистенция. С. 150–152; Кулумбетова А.Е., Джунисова А.А. Система жанра, жанровой формы и метода в «Версии» В.М.Шукшина// Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы. Казань, 2004.C.315–316; Кукуева Г.В., Марьина О.В. Композиционно-речевая структура текстов малой прозы В.М. Шукшина в аспекте тенденций постмодернизма // Вестник Новосибирского гос. ун-та. Серия: История, филология. 2008. Т. 7. № 2. С. 32–36. См. также: Шукшин и русская деревенская проза (А.Ю. Большакова) // Творчество В.М. Шукшина: энциклопедический словарь-справочник. Т. 2. Барнаул, 2006. С. 219–221.
[Закрыть]. В этих случаях «деревенская» школа (к которой термин «школа» всегда применялся с оговорками, так как у ее сторонников не было ни систематического творческого общения, ни совместных манифестов) есть не что иное, как созданный исследователем конструкт, снабженный в большей или меньшей степени чертами организационной, идейной и поэтологической завершенности.
А между тем видение самими членами сообщества его границ, внелитературные факторы, обеспечивавшие интуитивное причисление к «своим», не менее значимы для понимания анализируемого феномена, чем исследовательская воля, оформляющая текстовую реальность в концепцию. В данной работе вопрос о принадлежности того или иного автора к «деревенской прозе» будет решен наиболее простым способом – «деревенщиками» являются писатели, которых изнутри 1970-х годов критика и сами представители направления относили к «деревенской» литературной обойме[82]82
Главным возражением против подобного принципа отбора может служить неограниченность перечня потенциальных персонажей работы, ибо список тех, кого в «долгие 1970-е» относили к «деревенской» школе, насчитывает десятки имен. Б. Можаев в 1979 году включал в нее В. Белова, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Распутина, В. Астафьева, С. Залыгина, В. Солоухина, Евгения Носова, Гавриила Троепольского, Александра Яшина, Валентина Овечкина, Владимира Тендрякова, Ивана Акулова, Сергея Антонова, Александра Борщаговского, Юрия Галкина, Ефима Дороша, Юрия Казакова, Виктора Лихоносова, Егора Мальцева, Георгия Радова, Василия Рослякова, Юрия Черниченко, Петра Краснова, Владимира Крупина, В. Личутина (cм.: Можаев Б. Где дышит дух? // Можаев Б. Надо ли вспоминать старое? М., 1998. С. 429). В критике и литературоведении постоянно дебатировался вопрос о том, достаточно ли тематической близости для культурной идентификации направления или должна быть выработана другая рамка его понимания (cм.: Вильчек Л.Ш. Большаки и проселки «деревенской прозы». М., 1985.С. 4–5). В этом смысле у меня нет намерения назвать как можно больше имен и дать исчерпывающие «численные» характеристики. Речь о другом – об отсутствии в «деревенской прозе» монолитности, достаточно широком спектре идеологических позиций внутри нее, различных (в том числе внетекстовых) типах обеспечения групповой общности и, как следствие, о множественности и гибкости критериев включения в «школу».
[Закрыть]. Перечень имен от главы к главе будет меняться, поскольку у каждого автора были свои тематические приоритеты и, погружаясь, к примеру, в экологическую проблематику, тот мог игнорировать проблематику региональную. Однако, как я попытаюсь показать, более или менее общий ракурс восприятия действительности, вытекающая из «происхождения» и характера социализации вкусовая близость, приверженность определенным эмоционально-риторическим стандартам оказываются критериями не менее существенными, нежели обязательное обращение автора к столь же обязательному набору тем. Конечно, отрицать наличие образно-словесных маркеров либо концептов направления бессмысленно, но столь же бессмысленно их абсолютизировать, поскольку тогда мы упускаем из виду тот простой факт, что смыслы, транслируемые «деревенской прозой», ее поэтика, риторика публицистических сочинений рождались в процессах социальной и культурной интеракции, были опосредованы разнообразными контекстами – от бытовых до политических, и выражали субъективный эмоциональный и культурный опыт. Основываясь на том, что «деревенщики» не были носителями эссенциальной «русскости», материализовавшейся в образно-символическом строе их произведений, но «русскость» являлась ключевым элементом их самовосприятия, мы можем переместить исследовательский фокус на анализ структур самопонимания и самопредставления героев работы, которые раскрывают их никак не меньше, нежели анализ литературоведом, к примеру, структур жанровых.
«Деревенщики» как консерваторы
Разрешенная фронда
В этом случае возникает вопрос – кем ощущали себя «деревенщики»? Какие дефиниции релевантны для выражения их самоощущения? Исключительный по предсказуемости и банальности, но, тем не менее, требующий нюансировки ответ может звучать так – «деревенщики» воспринимали себя как «деревенщики». Возникшее в конце 1960-х годов определение «деревенская проза» раздражало многих представителей направления. Ф. Абрамов объяснял своему корреспонденту: «Почему этот термин неприемлем. Потому что он отдает высокомерием, снисходительностью…»[83]83
Абрамов Ф.А. Письмо Г.А. Кулижникову (9.11.1976). Т. 6. С. 290.
[Закрыть] В. Астафьеву в нелепой дефиниции виделось стремление официоза упростить и реальную сложность литературного процесса, и возможную рецепцию текстов, которые как бы заранее предлагалось читать через тематические классификаторы[84]84
Ср.: «…мне хочется высказать мою точку зрения на деление литературы на “рабочую” и “деревенскую”. По-моему, есть это не что иное, как примитивность мысли нашей современной, критической. <…> Подобное толкование литературы, низведение ее до цехового деления выгодно посредственностям, которые создают произведения по схемам и выверенным рецептам, не понимая, что сознанием писателя движет интуиция и он сам себе не может объяснить, как и отчего получилась у него та или иная ситуация в книге, тот или иной герой» (Астафьев В.П. Пересекая рубеж // Астафьев В.П. Собр. соч.: В 15 т. Красноярск, 1997. С. 212. Далее ссылка на это издание дается с указанием номера тома и страниц). См. также: Белов В. Деревенская тема общенациональна (Круглый стол о состоянии деревенской прозы) // Дружба народов. 1970. № 9. С. 254.
[Закрыть] (проза «деревенская», «городская», «производственная» и т. п.). Иначе говоря, уничижительно-ограничительные смыслы этого определения писатели чувствовали прекрасно, но по мере укрепления их профессиональных позиций оно стало невольно напоминать о другом, куда более лестном для них факте – об успешном преодолении неблагоприятных для профессионального старта обстоятельств – словом, дефиниция «деревенская проза» превратилась со временем в своего рода знак литературного качества. Оператор последних фильмов В. Шукшина Анатолий Заболоцкий вспоминал, что в какой-то момент писателя перестало задевать слово «деревенщик»[85]85
Одно время Шукшин, действительно, возражал против «уродливого» термина: «Предполагается, что вышеупомянутый “деревенщик” разбирается досконально только в вопросах сельской жизни, о чем исключительно и пишет. Сразу же хочу сказать, что ни в коем случае не желал бы быть причисленным к лику таких “узких специалистов”» (Шукшин В.М. Красота доброты // Шукшин В.М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 120. Далее ссылка на это издание дается с указанием тома и страниц). См. еще о восприятии писателем термина «деревенщик»: Шукшин В.М. «Я родом из деревни…». Т. 8. С. 171.
[Закрыть]:
В своих воспоминаниях Бурков пишет <…> что Шукшин якобы очень болезненно переживал ярлык «деревенщик», страшно возмущался, когда его так называли <…> Если и обижался, то в первые после институтские годы, которые впоследствии заново оценивал, вспоминая прожитую жизнь. Но в дни, когда он был на съемках в Клетской (речь о фильме «Они сражались за Родину». – А.Р.), «деревенщик» ему уже льстило, он был зрелый, а обижали его другие ярлыки: когда он заговаривал о Есенине, Михаиле Воронцове, Победоносцеве, Столыпине, Лескове, об угнетении русских, то его клеймили националистом, славянофилом, антисемитом. «Только космополитом ни разу не окрестили», – успокаивал себя Шукшин[86]86
Заболоцкий А. Шукшин в кадре и за кадром // Белов В. Тяжесть креста; Заболоцкий А. Шукшин в кадре и за кадром М., 2002. С. 147.
[Закрыть].
К дефинициям вроде «националист», «славянофил» я еще вернусь, а пока уточню, что пренебрежительность, которую иные «деревенщики» уловили в определении их литературного сообщества, отождествляла их с неприемлемыми для «изящного вкуса» «сермяжностью» и отсутствием художественной изощренности письма. Впоследствии «деревенщики» будут упорно доказывать свою профессиональную состоятельность, но изначально они в самом деле воспринимали себя как представители «некультурной», или, точнее, «неокультуренной» в глазах интеллектуалов, деревни, пришедшие в литературу «из низов» с готовностью свидетельствовать от лица ограниченного в правах, социально депривированного крестьянства. Повествование о драматичном опыте родного для них сословия (особенно на протяжении последних четырех десятилетий, с 1920-х по 1950-е), портретирование – в полемике с соцреалистическими клише – огромной массы «подчиненных», вынесших на себе главную тяжесть исторических катаклизмов и социальных трансформаций, они считали своей основной задачей. В 1975 году Игорь Дедков писал о «деревенской прозе», безусловно признавая ее первенство в современной литературе, как о прозе «провинциальной», испытывающей, помимо прочего, неподдельный интерес к «обделенным, обойденным, как бы не приглашенным к празднику жизни»[87]87
Дедков И. Возвращение к себе // Наш современник. 1975. № 7. С. 179. Ср. с высказыванием «деревенщика» Б. Можаева: «Да, эта проза, как, впрочем, и проза “городская”, родственная ей (Ю. Домбровский, Ф. Искандер, В. Семин, Ю. Трифонов), <…> проявляла всегда повышенный интерес к рядовому гражданину, “маленькому” человеку…» (Можаев Б. Где дышит дух? С. 430).
[Закрыть], то есть находившимся не столько на географической, сколько на социальной периферии. Для «деревенщиков» ее обитатели – по преимуществу крестьяне (хотя не только), часто старые, и, несмотря на талантливость натуры, удивительную выносливость, субъективное ощущение ими полноты прожитой жизни (эти качества своих героев педалировали Распутин, отчасти Астафьев, Залыгин и Шукшин), являющиеся страдательным лицом в процессах неминуемых изменений.
Начатая «деревенщиками» (а до них и параллельно с ними – Александром Твардовским, А. Яшиным, А. Солженицыным) культурная реабилитация крестьянства была долгой и вызывала сопротивление с разных сторон: А.Н. Яковлев, в 1972 году исполнявший обязанности заведующего Отделом пропаганды и агитации в ЦК КПСС, считал идеализацию крестьянства покушением на официально закрепленное паритетное положение социальных слоев и прослоек в СССР[88]88
См.: Яковлев А. Указ. соч. С. 5. В статье Яковлев осуждал тех, кто отдает предпочтение интеллектуалам, и тех, кто превозносит крестьянство, то есть дискурсивно закреплял социальный баланс, который был для партии идеалом.
[Закрыть]; напротив, печатавшийся в диссидентских изданиях Григорий Померанц в одной из статей заявлял, что сосредоточенность на решении проблем крестьянства и «народническое» поклонение ему – абсолютно антимодернизационные и потому вредные жесты[89]89
См.: Померанц Г. Человек ниоткуда // Померанц Г. Выход из транса. М., 1995. С. 106–107.
[Закрыть]. Эта реабилитация натыкалась на цензурные ограничения и сопровождалась идеологическими разбирательствами, в центре которых находились не только писатели (как, например, Ф. Абрамов в связи с публикацией повести «Вокруг да около» в 1963 году[90]90
См.: Оклянский Ю. Шумное захолустье: В 2 кн. М., 1997. Кн. 2. С. 41–42; Огрызко В.В. Победители и побежденные: судьбы и книги. М., 2010. Вып. 1. С. 8–9.
[Закрыть]), но и представители правой критики (В. Чалмаев, М. Лобанов, Ю. Селезнев), еще более рьяно, нежели «деревенщики», убеждавшие читателя, что герой из крестьян – носитель народного духа, традиционных национальных ценностей и «опора державы» на все времена. Надо признать, что эти консолидированные усилия принесли плоды, правда, не столько в сфере воспитания и морали, сколько в сфере риторического сопровождения властных решений: в 1980-е годы проблемы аграрного комплекса, перспективные планы развития современной деревни уже безоговорочно воспринимались как важнейшее направление социально-экономической политики, а публицистика на сельскохозяйственные темы и сочинения прозаиков-«неопочвенников» образовывали официально признанный особо актуальным тренд текущего литературного процесса[91]91
О редакционной политике журнала «Наш современник», последовательно создававшего «руралистскую» версию националистического мифа, см. в работе: Cosgrove S. Nash Sovremennik 1981–1991: A Case Study in the Politics of Soviet Literature with Special Reference to Russian Nationalism: PhD thesis. School of Slavonic and East Europian Studies. University of London, 1998.
[Закрыть].
Риторика «неопочвеннической» критики 1960-х – начала 1980-х годов обнажила еще одно важное «генеалогическое» измерение социокультурной реабилитации крестьянства. Дело в том, что формирование «деревенской прозы» было развитием потенций, заложенных в позднесталинской государственной идеологии, и вместе с тем спором с нею, во всяком случае в том, что касается судьбы крестьянского мира:
Реабилитировав российскую государственность и российскую классику как абсолютные ценности, Сталин открыл дорогу прежде всего к реабилитации российского крестьянства. Логика этой идеологической операции была предельно проста. Если российская государственность является высшей ценностью, то тогда ценностью должно быть ее основание и прежде всего создавший ее русский народ. Идеологи почвенничества двигаются еще в рамках социалистической идеологии, крестьянство как трудящийся класс для них важнее и ценнее дворянства. Но тем не менее, перенося акцент с рабочего класса на крестьянство, они еще больше, чем Сталин, порывают с ортодоксальным марксизмом.
<…> Писатели-почвенники, включая Солженицына, появляются на исходе хрущевской оттепели, но все они родом из сталинского ревизионизма. Залыгин, Шукшин, Белов, Астафьев, Распутин довершают идеологическую революцию, начатую Сталиным. «Молодая гвардия» второй половины шестидесятых, а потом «Наш современник» переводит язык национал-большевизма на язык откровенного антикоммунизма. Возрожденная Сталиным идея русского патриотизма и российской государственности ведет уже в открытой печати к тотальной критике его, сталинской коллективизации, как акции, направленной против устоев народной жизни[92]92
Ципко А. Реставрация или полная и окончательная советизация? // Российская империя, СССР, Российская Федерация: история одной страны? Прерывность и непрерывность в отечественной истории ХХ века. М., 1993. С. 103.
[Закрыть].
«Неопочвенническая» фронда была порождена логикой развития сталинского ревизионизма, что облегчило встраивание «деревенщиков» в сложившийся в конце 1960-х – начале 1970-х годов культурный порядок. Но в не меньшей мере она вырастала из политико-экономических и социокультурных особенностей отечественной модернизации – инструментальной, форсированной, в конечном итоге, архаизирующей[93]93
См. обзор концепций советской модернизации в работах западных и российских историков в связи с разговором о природе российского постмодернизма и обоснование термина «архаизирующая модернизация»: Липовецкий М. Паралогии: Трансформации (пост)модернистского дискурса в русской культуре 1920 – 2000-х годов. М., 2008. С. IX–XV.
[Закрыть]. Специфический для СССР вариант разрешения конфликта между крестьянством и государством и, как следствие, необходимое преодоление «крестьянской отсталости», полагает Андреа Грациози, заключался «в максимальном подавлении автономного – по собственной инициативе (курсив автора. – А.Р.) – участия крестьян в процессе модернизации…»[94]94
Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917–1933 / Пер. с англ. Л. Пантиной. М., 2001. С. 71.
[Закрыть]. Событиями Гражданской войны и «модернизацией сверху» исследователь объясняет и консервативно-традиционалистскую симптоматику последующих общественных настроений – «крайние формы, которые приняло в СССР такое более или менее универсальное явление, как народная антипатия к современности в целом, в том числе и ее положительным сторонам… <…> постоянно[е] наличи[е] в СССР <…> огромного резервуара реакционности, и психологической, и идеологической»[95]95
Там же. С. 72.
[Закрыть]. По выражению российского историка, современный СССР был государством с хорошо различимым отпечатком «рурализации», возникшей, так сказать, «обратным порядком», «через уничтожение собственно крестьянского класса»[96]96
Люкшин Д.И. Вторая русская смута: крестьянское измерение. М., 2006. С. 132.
[Закрыть]. Травму разрушения родного сословия, ускоренного «злой волей» государства, «деревенщики» и стремились выговорить, что не мешало им как культурному движению оставаться одним из наиболее впечатляющих продуктов советского проекта, красноречивым доказательством эффективной работы социальных лифтов. После этого двусмысленность их статуса (безусловно системного элемента советской культуры, имевшего, тем не менее, сравнительно широкий коридор возможностей для критики системы) уже не кажется результатом ловких манипуляций, поскольку он задан самой природой советской модерности:
Гибридный характер советской модерности вызывает к жизни противоположные стратегии ее критики: либо с точки зрения утраченных и «оскверненных» домодерных традиций, либо с точки зрения неполноценности и неразвитости собственно модерного проекта. Первый (ресакрализирующий) тип критики представлен националистическим дискурсом «особого пути» России, иррациональной «русской духовности», православия, «исконных» (крестьянских и патриархальных) традиций. Критика модерности в этом дискурсе (в диапазоне от Солженицына и «деревенщиков» до авторов «Нашего современника», «Молодой гвардии» и журнала «Вече», различных вариаций «новой правой» и русского фашизма) выражается в интерпретации советского режима как результата вторжения инородных русской культуре сил, в свою очередь представленных Западом и евреями как агентами колонизации (модернизации), а также индустриально-урбанистической цивилизацией в целом[97]97
Липовецкий М. Паралогии. XVII.
[Закрыть].
Это объясняет, почему разным адресатам «деревенщики» казались то «Вандеей»[98]98
См. о символе «контрреволюции низов» в воспоминаниях В. Белова: «Даже мой покойный тесть Сергей Дмитриевич Забродин, пусть и гордился моими литературными делами, называл меня контрой, хоть я и служил секретарем РК ВЛКСМ. <…> Другое словцо в наших с ним спорах тесть употреблял еще чаще: “Вандея”. А я даже не знал, что значит этот позорный для коммуниста термин!» (Белов В. Тяжесть креста. С. 29).
[Закрыть], поставившей под сомнение завоевания Октября (прежде всего в преобразовании крестьянского мира[99]99
См. статьи, где С. Залыгин и Ф. Абрамов обвинялись в стремлении «переписать» историю коллективизации: Строков П. Земля и люди // Огонек. 1968. № 22. С. 25–29; Он же. На полевом стане литературы // Дон. 1970. № 7, 8.
[Закрыть]), то «кулаками от литературы»[100]100
Ср.: «Я с ними (“деревенщиками”. – А.Р.) вырос, со многими из них дружил. С такими, как Василий Белов. Они хорошие люди, талантливые люди. Но это кулаки от литературы. При всех своих “деревенских горестях”, они все уже в орденах, в государственных премиях» (В. Максимов – Д. Глэд // Глэд Д. Указ. соч. С. 262).
[Закрыть]. Кстати, объект их критических высказываний также был плавающим – репрезентировавшим систему (государственные репрессивные институты, бюрократия) или отторгаемым ею (прозападно настроенные группы интеллигенции с креном в инакомыслие, молодежные субкультуры и т. п.). Стратегия же «деревенщиков» являла собой странную комбинацию элементов конформизма и нонконформизма. С одной стороны, и в фазе становления направления, и позднее писатели явно были ориентированы на демонтаж «лжи» соцреализма и расширение границ официально допустимого, с другой стороны, едва ли они когда-нибудь помышляли возможными для себя диссидентские шаги, грозившие отлучением от читателя, причем не только в силу осторожности, но и по причине осознания контрпродуктивности таких шагов. Все-таки успешная профессионализация, возможность писать и печататься, невзирая на придирки цензуры, значила для них очень много, и себя они всегда опознавали как легитимных участников литературного процесса, которые заняли культурную нишу, позволявшую, несмотря ни на что, работать.
В постсоветский период некоторые симпатизирующие «деревенщикам» авторы вообще отказались от акцентирования фрондистских моментов в их деятельности: дескать, «деревенщики» работали, не тратя времени на бесплодные прения с советской властью, как бы не замечая ее. Определенные резоны в таких доводах есть, особенно если вспомнить не только об ограничениях, связанных с позицией «деревенщиков» в поле подцензурной культуры[101]101
См., например, характерные рассуждения о «тихой революции» и приглушенном споре «деревенщиков» с советским «титанизмом»: Dunlop J.B. The Faces of Contemporary Russian Nationalism. P. 111.
[Закрыть], но и о неприятии большинством из них самореализации через негативные акты сопротивления, протеста, бунта, низложения устоявшихся норм. Любопытно, что отсутствие видимого сопротивления поставил «деревенщикам» в заслугу Солженицын, чья стратегия, насколько можно судить по книге «Бодался теленок с дубом», диктовалась противоположными соображениями:
На рубеже 70-х и в 70-е годы в советской литературе произошел не сразу замеченный, беззвучный переворот без мятежа, без тени диссидентского вызова. Ничего не свергая и не взрывая декларативно, большая группа писателей стала писать так, как если б никакого «соцреализма» не было объявлено и диктовано, – нейтрализуя его немо, стала писать в простоте (курсив автора. – А.Р.), без какого-либо угождения, каждения советскому режиму, как позабыв о нем[102]102
Солженицын А. Слово при вручении премии Солженицына Валентину Распутину 4 мая 2000 года // Новый мир. 2000. № 5. С. 186. В работах, развивающих «неопочвенническую» логику противостояния «созидательного» национально-консервативного движения и «разрушительного» диссидентства, размежевание групп нередко выдержано в той же логике – наличие / отсутствие явного протеста. Ср.: «Носило ли возвращение к истокам характер протеста? “Деревенская проза” по времени своего появления в советской литературе совпала с расцветом диссидентского движения, постепенно угасавшего к 70-м годам ХХ века. Но как заявил потом один из видных диссидентов: “Мы метили в коммунизм, а попали в Россию”. Ни В. Астафьев, ни В. Белов, ни В. Распутин, ни В. Шукшин, ни все другие “деревенщики” именно по этой причине и не могли примкнуть к диссидентам. Их возвращение к истокам было открытием живших в народе высоких духовных сил» (Стрелкова И.И. В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распутин, В.М. Шукшин в жизни и творчестве. М., 2010. С. 7–8).
[Закрыть].
Этико-эстетическое превосходство «деревенщиков» (а Солженицын был уверен, что они совершили литературный переворот и возродили традиционную нравственность[103]103
См.: Солженицын А. Слово при вручении… С. 186.
[Закрыть]) в данном случае лишь резче оттенено «тишиной» их протеста, контрастирующего с «диссидентским вызовом». Отсидевший два срока Леонид Бородин также подчеркивал, что в их среде от «деревенщиков» откровенно протестных поступков не ждали и даже считали их нежелательными. Деятельность писателей на ниве общественного просвещения в национальном духе казалась куда более эффективной:
…мы, «русская диссидентура», каковую, между прочим, можно было пересчитать по пальцам, мы отнюдь не мечтали пополнить свои ряды за счет, положим, русских писателей. Где-то в конце 1970-х узнал я, что Валентин Распутин, будучи приглашенным на встречу с работниками иркутского телевидения, наговорил им такого, что телевизионщиков-партийцев после вызывали в партком и вопрошали, почему они, коммунисты, не возражали Распутину… Я тогда черкнул коротенькое письмецо своему земляку, где прямо говорил, что диссидент Распутин – потеря для России. Просил об осторожности… Письмо, отправленное с «нарочным», было перехвачено[104]104
Бородин Л. Без выбора // Бородин Л. Собр. соч.: В 7 т. М., 2013. С. 349–350.
[Закрыть].
Ретроспективное восстановление исследователем взаимоналожения конформистских и нонконформистских мотиваций всегда приблизительно, но, на мой взгляд, несколько эпизодов из творческой биографии В. Астафьева способны дать представление о стратегии «деревенщиков» по «отвоевыванию» пространства свободы без покушения на полномочия существующих институтов. Астафьев активнее, нежели его коллеги по «деревенской прозе», моделировал свой автобиографический миф через мотивы бунта и протеста, идущих от «натуры», ее анархической стихийности. Тем любопытней, что он признавал наиболее действенным ограничителем собственного несогласия. В 1967 году в письме к жене он жалуется на оскорбительную редактуру в «Нашем современнике» его рассказа, который вышел в «выхолощенном»[105]105
См.: Астафьев В.П. Нет мне ответа…: Эпистолярный дневник 1952–2001. Иркутск, 2009. С. 114.
[Закрыть] виде:
Как жить? Как работать? Эти вопросы и без того не оставляют меня ни на минуту, а тут последние проблески света затыкают грязной лапой… <…>
Нас ждет великое банкротство, и мы бессильны ему противостоять. Даже единственную возможность – талант – и то нам не дают реализовать и употребить на пользу людям. Нас засупонивают все туже и туже. Мысль начинает работать вяло, покоряться. А чтобы творить, нужно быть бунтарем. Но против кого и против чего бунтовать? Кругом одни благожелатели, все к тебе вроде бы с добром, а потом «отредактируют». Руки опускаются. И жаль, что это ремесло невозможно бросить[106]106
См.: Астафьев В.П. Указ. соч. С. 114.
[Закрыть].
Возможный протест парализован отсутствием явного противника («все к тебе с добром») и невозможностью отказаться от творчества – из-за желания самореализоваться и необходимости зарабатывать на хлеб «этим ремеслом». Но спустя три года, по словам Астафьева, в Союз писателей СССР им было отправлено письмо в поддержку Солженицына, исключенного из СП[107]107
По словам Астафьева, письмо было отправлено, но потеряно либо положено «под сукно», то есть сознательно замолчано руководством СП («…были конторы, которые, заботясь о нашей нравственности, упрятывали и бумаги, и нравственность, и авторов вместе с тем в долгий ящик» – Астафьев В.П. Нет мне ответа… С. 161). В любом случае, это письмо включено в цитируемый сборник, вышедший после смерти прозаика, и даже снабжено авторской ремаркой (видимо, Астафьев готов был предать его гласности). Письмо еще раз подчеркивало ценимые писателем нонконформизм и прямоту, которые удивительным образом переворачивали символику всем известных ограничений и даже конформистские жесты трансформировали в свою противоположность. Например, Астафьев не раз заявлял, что не читает сам– или тамиздатовскую литературу, но не из-за осторожности и боязни доноса, а потому что считает ниже своего достоинства читать что-либо тайком: «…не люблю я читать и думать под одеялом – унизительно это для бывшего солдата и русского литератора…» (Там же. С. 161).
[Закрыть], в котором он резко осуждал установившийся «надзор за словом писательским <…> какой и не снился <…> в “проклятом прошлом”»[108]108
Астафьев В.П. Нет мне ответа… С. 160.
[Закрыть]. Документ этот, по сути, был протестным, нарушавшим вмененное рядовым членам СП согласие на компромисс, а к финалу «сползавшим» в политическую нелояльность (Астафьев заявлял об угрожающей перспективе изоляции за «железным занавесом», предупреждал об опасности практики доносительства, в которой видел признак ресталинизации). Однако писатель обращался в официальную структуру, констатировал несоблюдение правовых и этических норм в отношении Солженицына, то есть действовал, признавая легитимность сложившегося политико-административного порядка и предполагая возможное изменение ситуации[109]109
О симптоматичной интенсификации юридически-правовой терминологии и теме государственного насилия в письмах читателей конца 1960-х в связи с процессом над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем см.: Козлов Д. Наследие оттепели: к вопросу об отношениях советской литературы и общества второй половины 1960-х годов // Новое литературное обозрение. 2014. № 125. С. 185.
[Закрыть]. Стилистически венчал эту стратегию заостренный Астафьевым контраст между «открытыми» действиями Солженицына и «лукавством» недавно эмигрировавшего и обличаемого советской прессой Анатолия Кузнецова, который «подло смылся, не по-русски, хлопнув дверью и пославши по матушке тех, кто ему не нравился, а втихаря, исподволь изготовившись к бегству»[110]110
Астафьев В.П. Нет мне ответа… С. 161.
[Закрыть]. Впоследствии Астафьев интерпретировал свою общественно-литературную позицию в соотнесении с двумя моделями нонконформизма, одну из которых олицетворял Солженицын, а другую – диссиденты. В 1994 году он подтверждал отказ от последовательных и радикальных проявлений несогласия, риторически мотивировав это соображениями в духе этики Солженицына:
Я не мог стать диссидентом ни ради свободы, ни ради популярности, ни просто так, потому как не готов был стать таковым: семья – большая, следовательно, мера храбрости – малая. Да и внутренней готовности, раскованности (которая, впрочем, у диссидентов со временем «незаметно» перешла в разнузданность, самовосхваление, а у кого и в непристойности) – мне не хватало. Но более всего не хватало духовного начала, которое сильнее всякой силы[111]111
Астафьев В.П. Пусть у каждого голова болит о своем («Российская газета». Беседа с Борисом Никитиным). Т. 12. С. 581.
[Закрыть].
Астафьев с готовностью признавал нонконформизм инакомыслящих и Солженицына свидетельством большой духовной крепости, но психологически и культурно этот жертвенный максимализм протеста, свойственный, кстати, в основном, диссидентам из интеллигентской публики, оставался ему чужд. Стратегия «деревенщиков», и Астафьева в частности, заключалась в другом: в согласии на существующую ситуацию и постепенном приспособлении к ней, а ее к себе – в нахождении шаткого баланса между сохранением за собой права на художнически честное высказывание и использованием преимуществ, которые давались отсутствием конфронтации с системой. Впрочем, принципы согласия или несогласия с системой, условия заключения неизбежных компромиссов, размер ставок и предполагаемых потерь в случае публичного несогласия каждый писатель определял для себя самостоятельно, и (нон)конформистские стратегии «деревенщиков» нужно внимательно индивидуализировать. Астафьевское, иногда аффективное, «бунтарство» и добросовестный профессионализм Залыгина[112]112
В эссе «Моя демократия» (1996) Залыгин настойчиво обращает читательское внимание на аполитичность своей позиции, но создает несколько контекстов для ее понимания. Первый, самый очевидный – аполитичность есть логическое продолжение изначальной, шедшей из семьи и укрепившейся в годы учебы дистанцированности от политической жизни («Мы не читали газет, разве что изредка, и тоже изредка ходили на танцы… но самозабвенно были заняты учебой» – Залыгин С. Моя демократия // Новый мир. 1996. № 12. С. 137). Каким-то образом исключенность из «политического» компенсировалась нацеленностью на самореализацию в профессиональной сфере, но в ретроспективе автору это кажется бессознательным самоограничением, чем-то вроде психологической защиты: «А в результате этого везения, этих исключительных в ту пору обстоятельств вышел из меня типичный… совок. И думал я очень просто: если все будут хорошо работать – все и для всех будет хорошо. Вот и вся логика. И – политика.
Видел я своими глазами коллективизацию и раскулачивание, видел так называемый “лесоповал”, со стороны видел репрессии 1937-го и других годов, было у меня вполне демократическое детство, но, оказывается, все это прошло мимо меня, не повернуло, не перевернуло моей души, душевного моего состояния» (Там же. С. 143). Однако в контексте апологии «демократии» в процитированном эссе и апологии «природности» в «Экологическом романе» (1993) умение существовать в предлагаемых обстоятельствах соотносится не с конформизмом, а с неким «даром» жизни, «естественностью», мотивирующей личность к творческой работе в любых условиях.
[Закрыть], сложившийся под непосредственным воздействием этики земской интеллигенции (родителей писателя) и неписаного кодекса «спецов» (в данном случае дореволюционной профессуры, преподававшей Залыгину в Омске в Сельскохозяйственной академии), существенно определялись биографическим контекстом, но, как выясняется, были довольно эффективны в качестве стратегий самопродвижения.
Важно и то, что «деревенщики» принципиально отказывались от резких нонконформистских эстетических жестов, свойственных модернистски-авангардистской публике, и, разумеется, последствия подобного выбора выходили за пределы поэтики. Степень идеологического нонконформизма в данном случае регулировалась самим языком традиционализма: желание опровергнуть «отлакированную действительность» соцреализма и «сказать правду» осуществлялось в рамках прежней реалистической системы, элементы которой «деревенщики» могли перекомбинировать, а знаки поменять, избежав при этом радикальной проблематизации ее норм.
«…не было еще случая…. чтобы традиции… исчезали бесследно…»: традиция и «неопочвенническая» идентичность
Обращение к традиции было принципиальным для самоопределения и самонаименования «деревенщиков». Вопреки распространенному мнению, оно вовсе не исчерпывалось стилизацией, использованием диалектной лексики, фольклоризацией (или псевдофольклоризацией) в духе «орнаментальной» прозы и не сводилось к призывам вернуться назад, к «лучине и сохе», хотя с середины 1960-х годов как раз стал заметен массовый интерес, фигурально выражаясь, именно к «лучине и сохе». «Мода на простонародность», ставшая одним из побочных эффектов начатого городскими интеллектуалами еще в конце 1950-х возвращения к «истокам»[113]113
Процессы создания массовых представлений о «национальном культурном наследии», вмещающем в себя, среди прочего, артефакты русской религиозной культуры, рассмотрены в содержательной статье: Кормина Ж., Штырков С. «Это наше исконно русское, и никуда нам от этого не деться»: предыстория постсоветской десекуляризации // Изобретение религии: Десекуляризация в постсоветском контексте. СПб., 2015. С. 7–45.
[Закрыть], включала в себя тягу к «опрощению», «окрестьяниванию» и «архаизации»[114]114
См.: Л. Аннинский – В. Кожинов. Мода на простонародность// Вадим Кожинов в интервью, беседах, диалогах и воспоминаниях современников. М., 2004. С. 146.
[Закрыть] и проявлялась в отделке квартир в стилистике крестьянской избы[115]115
Ср. с автоироничной по подтексту и воспроизводившей типичные упреки в адрес «деревенщиков» сценой в повести В. Шукшина «Энергичные люди» (1973): «– Деревню он любит!.. – тоже очень обозлился брюхатый. – Чего ж ты не едешь в свою деревню? В свою избу?..
– У меня ее нету.
– А-а… трепачи. Писатель есть один – все в деревню зовет! А сам в четырехкомнатной квартире живет, паршивец! Я… – брюхатый ударил себя в пухлую грудь. – Я в коммунальной тогда жил, а он – в такой же – один…
– Как один? – не понял чернявый.
– Ну, с семьей!.. Но я – в коммунальной и никуда не призывал…
– Ему за это деньги хорошие платят, что призывает, – вставил курносый.
– Я его один раз в лифте прижал: чего ж ты, говорю, в деревню-то не едешь? А? Давай – покажи пример!» (Шукшин В.М. Энергичные люди. Т. 7. С. 156).
[Закрыть], собирании икон и старой домашней утвари, возросшей популярности русской кухни, поездках по городам «золотого кольца» России, элементах a la russe в одежде и т. п. Интеллигенция новые модные увлечения и потребительские предпочтения трактовала как «пену», которая должна сойти, или как адаптированное к параметрам массовой культуры («развлекательно-питейно-едальный аттракцион»[116]116
Древнерусская культура и современность (Беседа с лауреатом Государственной премии, член-корреспондентом АН СССР Д.С. Лихачевым) // Вопросы философии. 1969. № 11. С. 132.
[Закрыть]) выражение серьезных процессов – пробуждения вкуса к историческому самопознанию, открытия богатств национальной культуры и т. п. Так или иначе, преодоление разобщенности с собственным прошлым, проявлялось ли оно в различных областях культурного потребления или побуждало к специализированному (этнографическому, историческому, филологическому или философскому) исследованию, переживалось и преподносилось, интеллигентской публикой прежде всего, как знак «нормализации» духовной жизни советского общества.
Официальные идеологические институции, начиная с 1960-х годов, также испытывали интерес к «традициям прошлого». Идеологический аппарат искал «интеллектуальных средств выражения советской цивилизационной идентичности»[117]117
Аверьянов В.В. Традиция и традиционализм в научной и общественной мысли России (60 – 90-е годы ХХ века) // Общественные науки и современность. 2000. № 1. С. 68. Интенсивные попытки идеологов «нормализовать» советский строй, укрепив его конструкцией «преемственности» по отношению к мировым прогрессивным традициям, казалось, завершились неудачей. В начале 1990-х годов в массовом интеллигентском сознании советский период, считает Д. Хапаева, представал выпадением из каких бы то ни было традиций: «Семантическая пустота – отрицание значимости советского периода для современности и будущего России – трансформируется в дискурсе моих собеседников в отрицание советского периода как временной протяженности. <…> Противопоставление традиций советскому периоду означает, что этот последний воспринимается как разрыв во времени…» (Хапаева Д. Время космополитизма: Очерки интеллектуальной истории. СПб., 2002. С. 131–132). Но характерные для следующего десятилетия охлаждение к западным либеральным моделям развития, призывы учитывать национально-историческую уникальность России, курс на сохранение традиционных ценностей совпали с новыми попытками конструировать традиции «советского». Собственно, «возвращение к национальному» в конце 1990-х, о котором пишет Хапаева, было в очередной раз расценено общественным мнением как ответ на бездумное увлечение западным либерализмом и тут же приобрело «онтологический статус»: «…западный опыт оказался неподходящим для России, доказательством чему и служит кризис западничества» (см.: Там же. С. 33–34). Новый консервативный курс и сейчас вдохновляется хорошо знакомыми по «неопочвеннической» публицистике «долгих 1970-х» идеями «нормализации» исторического движения, открытия неизбывной и спасительной консервативности «русской цивилизации». Неудивительно, что относительно недавние антилиберальные выпады стилистически перекликаются с позднесоветскими образцами (достаточно сопоставить статью М. Лобанова «Просвещенное мещанство» (1968) и статью Захара Прилепина «Почему я не либерал» (2013). URL: http://www.zaharprilepin.ru/ru/columnistika/12/pochemu-ja-ne-liberal.html).
[Закрыть], потому закрепление новых («советских») традиций и распространение новой обрядности[118]118
Аверьянов В.В. Указ. соч. С. 68. См., например, работы о проблемах преемственности и новой обрядности: Кампарс П.П., Закович Н.М. Советская гражданская обрядность. М., 1967; Харапинский Я.Л. Нравственность и традиции. М., 1971; Каирян В.М. Преемственность в развитии культуры в условиях социализма. М., 1971; Гринин В.В., Ладыгина А.Б. Искусство: диалектика преемственности. Минск, 1978; Традиции. Обряды. Современность. Киев, 1983.
[Закрыть] превратилось в задачу первостепенной важности. «Изобретаемые», почти по Эрику Хобсбауму, советские традиции и обряды помогали узаконить начавшийся после 1917 года период истории как полноценный фрагмент прошлого: СССР объявлялся наследником всех «прогрессивных» общественных традиций, чей перечень менялся в зависимости от задач, которые ставила перед собой официальная идеология на каждом конкретном этапе. Изучение традиции стало важным трендом и в советской гуманитарной науке «долгих 1970-х». «Интерес к культурным традициям прошлого»[119]119
Аверьянов В.В. Указ. соч. С. 68.
[Закрыть] в работах советских социологов и философов[120]120
См. работы о социокультурных механизмах традиции, созданные в конце 1970-х – первой половине 1980-х годов: Традиция в истории культуры. М., 1978; Проблемы наследия в теории искусства. М., 1984; Традиции в познании и культуре. М., 1986; Традиции и инновации в духовной жизни общества. М., 1986; Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука: Логико-методологический анализ. М., 1983; Суханов И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений. М., 1976; Плахов В.Д. Традиции и общество: Опыт философско-социологического исследования. М., 1982; Чистов К.В. Народные традиции и фольклор: Очерки теории. Л., 1986.
[Закрыть], продолжает Виталий Аверьянов, был «неподдельны[м] и по существу неидеологически[м]»[121]121
Аверьянов В.В. Указ. соч. С. 68.
[Закрыть], хотя, замечу попутно, отсутствие внешних примет идеологической ангажированности не означает «неидеологичности». Масштабные структуралистские исследования мифа и мифопоэтики, содержавшие элементы интеллектуального вызова по отношению к «идеологизированности» официального литературоведения, не отменяли «эпистемологического родства структуралистской и марксистской методологии, равно стремящихся к предельному редукционизму и исчерпывающему мирообъяснению»[122]122
Богданов К.А.Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры. М., 2009. С. 250.
[Закрыть]. «Неопочвеннические» версии прошлого, оппонировавшие и структурализму, и официальной марксистско-ленинской идеологической схеме, тоже были результатом ревизии и перекомбинирования в романтически-консервативном ключе прежних идеологем. На волне почти всеобщего интереса к традиции в начале 1980-х годов Эдуард Маркарян высказался за введение объединяющего для ряда научных дисциплин термина «традициология»[123]123
Маркарян Э.С. Узловые проблемы теории культурной традиции // Советская этнография. 1981. № 2. С. 64–98.
[Закрыть]. Предложение было отвергнуто коллегами, но обозначило пик широкой экспансии данной проблематики в различные отрасли гуманитарной науки.
Тем не менее, приписывать, в духе либеральной публицистики рубежа 1980 – 1990-х, традиционалистскую ориентацию лишь подцензурной культуре «долгих 1970-х» и тем более рассматривать ее как однозначное свидетельство стагнации, было бы неверным. Ирония в отношении амбициозных планов по созданию нового художественного языка и рефлексия погруженности в культуру стимулировали возникновение традиционалистских настроений и в области неподцензурной культуры[124]124
См. об этом: Магун А. Перестройка как консервативная революция? // Неприкосновенный запас. 2010. № 6 (74). Автор статьи в своих рассуждениях об идеологической «амбивалентности» интереса к прошлому в позднесоветский период ссылается на работу Б. Останина и А. Кобака, о которой речь пойдет ниже.
[Закрыть]. Связанные с андеграундом Борис Останин и Александр Кобак, оперируя собственной культурной хронологией, где разграничивались 1960-е и 1980-е годы (десятилетия «молнии» и «радуги»), доказывали, что возросшая роль музеев и архивов, обширная реставраторская деятельность, «ретроспективная ориентация»[125]125
См.: Останин Б., Кобак А. Молния и радуга: Литературно-критические статьи 1980-х годов. СПб., 2003. С. 17, 23–25.
[Закрыть], общая для не– и подцензурного сегментов и имевшая разные политические оттенки, институционально и дискурсивно сделали 1980-е временем консерватизма, преодоления утопий 1960-х, «почтения к отцам», «компромисса»[126]126
«Компромисс» понимался Останиным и Кобаком прагматически, но не моралистически. Трезво-уравновешенную риторику и стратегии, избегающие откровенной конфронтации, авторы также атрибутировали культуре консервативных 1980-х: «…наступило время компромисса, то есть такого сотрудничества “минорных групп” с государством, которое позволяет им сохранить свое лицо и автономию (литературный Клуб – 81, Рок-клуб, товарищество художников ТЭИИ, издание сборника “Круг”). Вместо беспощадной борьбы с истеблишментом люди радуги предполагают либо работать в системе, “улучшая ее изнутри”, либо создавать собственные автономные, но не агрессивные структуры, опирающиеся на принцип самодеятельности» (Останин Б., Кобак А. Указ. соч. С. 33).
[Закрыть]. В этом отношении традиционализм «деревенщиков», и шире – «неопочвеннического» сообщества, не был чем-то исключительным, напротив, он отвечал пассеистским настроениям 1970-х и выражал процесс формирования новой коллективной идентичности, в которой переживание «бессобытийности» настоящего предсказуемо комбинировалось с ностальгией по безвозвратно утраченному прошлому[127]127
См.: Горин Д. «Конец перспективы»: переживание времени в культуре 1970-х // Неприкосновенный запас. 2007. № 2 (52). С. 111–112.
[Закрыть]. Говоря о всепроникающем характере культурного консерватизма в позднесоветскую эпоху, необходимо упомянуть и тонкие наблюдения Максима Вальдштейна, отметившего, что структуралистский научный проект, утверждавший либеральную интеллигенцию как, с одной стороны, «негласную оппозицию тоталитарному режиму»[128]128
Вальдштейн М. О «либеральном мейнстриме» и культурном консерватизме // Ab Imperio. 2013. № 1. С. 144.
[Закрыть], а с другой, защитницу подлинной культуры от агрессивных современных культурных веяний, парадоксально объединил в своем «культурализме» «многообещающий подход к искусству с обветшалыми квази-марксистскими и функционалистскими шаблонами», «консервативное отвращение к трансгрессии с ее культом в сфере высокой культуры», «социальный конформизм с интеллектуальным нонконформизмом, популистский культ “нормальности” и принадлежности к “большинству” с культурной элитарностью и индивидуализмом»[129]129
Там же. С. 149.
[Закрыть].