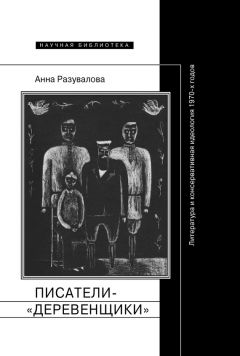
Автор книги: Анна Разувалова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Позднее Астафьев упоминал о «духовном просветлении»[528]528
Астафьев В.П. Подводя итоги. С. 45.
[Закрыть], пережитом во время учебы на ВЛК. В данном случае растиражированная метафора выразила очень индивидуальный опыт причастности к другой реальности, отличной от той, где «существует человек, как деревянная игрушка на нитке – в подвешенном состоянии…»[529]529
Астафьев В.П. Счастье. Т. 7. С. 418.
[Закрыть]. Рассказывая о директоре детдома в Игарке Василии Ивановиче Соколове, пытавшемся развивать воспитанников в условиях соседствовавшего с лагерями заполярного города, Астафьев делает культуру альтернативой трагическому окружающему миру:
Он был высоко, слишком высоко образован для того времени, знал язык и о музыке, об опере знал, и вообще был «не наш», и потому мыкался в заполярной ссылке и нам, обездоленным детям, открывал другой, какой-то чудесный мир, рассказывал о русской поэзии и о театре[530]530
АстафьевВ.П. Вечно живые облака. Т. 12. С. 122.
[Закрыть].
Если в жестокой социальной действительности человек унижен, порабощен и раздавлен, то культура и искусство не просто дают ему иллюзию приобщения к иному бытию, но в конечном итоге делают человека человеком – удерживая его в собственно человеческом, неживотном состоянии и выводя за рамки существования, где главной ценностью является биологическое выживание: «Это оно, человечество, обязано культуре, иначе оно упало бы снова на четвереньки»[531]531
Астафьев В.П. Сквозь февраль. Т. 12. С. 100.
[Закрыть]. Заключенная в пределы традиционного романтического двоемирия антитеза жизни и искусства, таким образом, вырастала у Астафьева из глубоко личного травматичного опыта страдания и его преодоления.
В астафьевском восприятии культуры содержался посыл, очевидно заимствованный из просветительской программы и касающийся понимания культуры как инструмента самовоспитания личности. Уверенность в способности культуры преображать человека, судя по всему, долгое время воодушевляла писателя в его деятельности. В публицистических статьях он не уставал повторять, что самосовершенствование через приобщение к культуре и широко понимаемому творчеству есть смысл человеческого существования, оправдание мировой истории, а «возвышающую» культуру считал ключевым фактором эволюции и прогресса (как бы странно ни звучал последний термин применительно к консерватору-«деревенщику»). Отголоском подобных настроений были пассажи в духе вроде бы не свойственного Астафьеву футурологического оптимизма, муссировавшего популярную в 1960-е годы тему «человека будущего»:
Астафьевская проповедь активно-заинтересованного, сознательного отношения к культуре, идея прогресса, который неуклонно ведет к рождению «человека будущего», содержала легко опознаваемые топосы советской «теории культуры». Известный психолог Алексей Леонтьев так определял позицию человека социалистического общества относительно мировой культуры:
Достижения развития предыдущих поколений воплощены не в нем (человеке. – А.Р.), не в его природных задатках, а в окружающем его мире – в великих творениях человеческой культуры. Только присваивая эти достижения в ходе своей жизни, человек приобретает подлинно человеческие свойства и способности; это как бы ставит его на плечи предшествующих поколений и высоко возносит над всем животным миром[533]533
Леонтьев А.Н. Человек и культура // Наука и человечество. Т. II. М., 1963. С. 80.
[Закрыть].
Обосновываемая Леонтьевым и другими авторами, транслируемая в процессах школьного обучения, публичных дискуссиях и т. п., антропологически оптимистичная концепция, связывавшая культуру с индивидуальным (в смысле повышения социального статуса) и коллективным прогрессом, безусловно, наложила отпечаток на первоначальное видение Астафьевым ее роли в обществе и «обязанностей» личности по отношению к ней («овладевать» и т. п.), хотя со временем этот отпечаток становился все менее различим.
По Астафьеву, выдающиеся творцы прошлого – гении и «титаны мысли»[534]534
Астафьев В.П. Об одном горьком покаянии. Т. 12. С. 275. Ср.: Астафьев В.П. Нет мне ответа… С. 60.
[Закрыть] – в каком-то смысле тоже были «жертвами прогресса», поскольку совершали мучительную и жертвенную работу на благо всеобщего просвещения, причем обычно без видимых позитивных сдвигов: «Все кажется, что они рано родились, не в то время мятежно и дерзко мыслили, шли на эшафот и костер за нас, за наше будущее»[535]535
В свойственном Астафьеву стремлении описывать усилия выдающихся творцов прошлого при помощи понятий с семантикой борьбы, преодоления, жертвования можно усмотреть влияние советской романтико-героической парадигмы, диктовавшей подобный способ нарративизации «жизни и творчества» художника. В не меньшей степени их возникновение мотивировано проекцией в область символического творческого акта переживаемого психофизического напряжения, что делает зримыми для читателя усилия (иногда сугубо мускульного свойства), которых, с точки зрения обывателя, писательство лишено. Во всяком случае, семантика усилия и напряжения стабильно сопровождает описания Астафьевым процесса письма: «Так никто и никогда не узнает, как, преодолевая свои недуги, я садился за стол и заставлял себя работать и в кровь разбивал морду об стол. Вот почему я ненавижу всех, кому легко жилось и живется в писательстве, для меня сей труд был и остается каторгой» (Астафьев В.П. Нет мне ответа… С. 271).
[Закрыть]. Изобилующая романтическими штампами патетическая фраза в очередной раз выражает небанальную лично для Астафьева идею теснейшей связи культуры с ценностными основаниями бытия и потенциальным преображением человека. На фоне получавшего все большее распространение в 1960 – 1980-е годы информационно-коммуникативного подхода такая позиция была отчетливо консервативной. Напомню, что новые «культуралистские» дискурсы, реанимировавшие позитивизм либо конструкционистски-ориентированные, получали распространение и в СССР и влияли на рефлексию культуры позднесоветскими интеллектуалами. В 1973 году в русле обретшего к тому времени культурную легитимность интереса к кибернетике[536]536
См.: Богданов К.А. Физики vs. лирики: к истории одной «придурковатой» дискуссии // Новое литературное обозрение. 2011. № 111. С. 48–66.
[Закрыть] вышла в переводе на русский книга французского социолога, психолога и лингвиста Абраама Моля «Социодинамика культуры». Ее автор обнародовал революционную, по отношению к официальному советскому обществоведческому дискурсу, концепцию. В частности, Моль заявлял, что на смену «отжившей» «гуманитарной культуре»[537]537
Моль А. Социодинамика культуры. Изд. 3-е. М., 2008. С. 37.
[Закрыть], приобретаемой в процессе образования, приходит «культура мозаичная», представляющая собой «итог ежедневно воздействующего на нас непрерывного, обильного и беспорядочного потока случайных сведений»[538]538
Там же. С. 45.
[Закрыть], поставляемых СМИ. Он предлагал смотреть на культуру как на «интеллектуальное “оснащение”, которым располагает каждый отдельный человек»[539]539
Там же. С. 46.
[Закрыть], и этот «инструментализм» разительно не совпадал с рассуждениями о целенаправленном строительстве через культуру собственной личности (что было так важно для Астафьева). Советские критики консервативного толка описанную Молем форму культуры, возникшую в условиях бурного развития НТР и СМИ, однозначно расценивали как имитацию эссенциалистской «подлинной» культуры, имитацию, опасную тем, что она «размывает» национальную «почву» и стимулирует рост «просвещенного мещанства»[540]540
Лобанов М. Просвещенное мещанство. С. 16–33. Информационно-кибернетические термины и соответствующие методики в советском научном поле прочно соотносились с деятельностью ученых структурно-семиотического круга – давних оппонентов традиционалистов. Полемика между ними, то обостряясь, то затухая, длилась более двух десятилетий (приблизительно до середины 1980-х годов), но наиболее интересной и изобретательной в плане поиска аргументов и риторических стратегий она была в 1960-е. См., например: Назаренко В. Кибернетикон // Молодая гвардия. 1967. № 1. С. 285–304; Лобанов М. «Интеллектуализм» и «надобность в понятиях».
[Закрыть]. В нарисованном М. Лобановым саркастическом портрете потребителей такого рода культуры – «разномастной компании – от ученого схоласта до девицы с дипломом» разоблачительный акцент делался именно на легкости усвоения «алгоритмов» культуры, редуцированной к «информации»: «это… всем доступно, достаточно лишь усвоить набор каких-то правил, изречений»[541]541
Лобанов М. Просвещенное мещанство. С. 44.
[Закрыть]. «Утилитаризма» в отношении Культуры с большой буквы, терявшей на глазах свой сакральный ореол, Астафьев также категорически не принимал. Культура казалась ему настолько мощной преобразующей силой, что «возрастание» человека под ее воздействием виделось лишь вопросом времени и личных усилий. Другое дело, что «возрастание» он всегда мыслил как «органическое» изменение, то есть процесс, технологически не разложимый, глубоко «внутренний».
В бесчисленных дискуссиях позднесоветской поры о культуре «народной» и «массовой» Астафьев участвовал нечасто, хотя разделял скептический взгляд на подменяющую культуру «культурность» и кичащихся эрудированностью интеллектуалов. Тем не менее, в его писательской биографии было резонансное публичное выступление, идеально вписавшееся в пропагандистскую кампанию по борьбе с новыми культурными явлениями и составившее Астафьеву славу ретрограда в глазах значительной части советской молодежи. Речь идет об опубликованном в газете «Комсомольская правда» письме «Рагу из синей птицы» (1982), где критически оценивалось творчество рок-группы «Машина времени»[542]542
Вопрос об авторстве этой статьи до сих пор не прояснен, и на основании существующих источников решить его сложно. Подпись Астафьева под статьей (наряду с пятью другими) дает основания предполагать, что высказанные в «Рагу…» взгляды в целом не противоречили его собственным. И все же стилистическая безликость статьи, тиражировавшей стандартные упреки, используемые в любой «проработочной» акции, многих заставляла сомневаться в ее принадлежности Астафьеву: «Если бы, скажем, статью писал Астафьев, это, наверное, была бы жуткая для Макаревича статья, обидная, но совсем другая, без подлости» (Минаев Б. Запах рагу двадцать лет спустя. URL: http://menestreli.ws/stati/mashina-vremeni/ragu-iz-siney-ptitsy.html).
[Закрыть]. Адресованные рок-музыкантам претензии, суммируемые в понятии «непрофессионализм» (низкий уровень исполнительского мастерства, нарочитое «опрощение» сценических костюмов, «инфантильное», немужское пение, ориентация на «среднеевропейский» музыкальный шаблон, пессимистически-безыдейные тексты), компрометировали «Машину времени» причислением ее к массовой культуре, которая, по общепринятому в советской прессе мнению, примитивизировала человека. Разрозненные астафьевские реплики о массовой культуре свидетельствуют, что ее разлагающее влияние на сознание аудитории он оценивал как силу, значительно превосходившую просвещающее воздействие «высокой» культуры. Со временем Астафьев все более скептически оценивал способность личности откликаться на предлагаемые культурой «высокие» образцы и нормы. Готовность воспринимать «демоническое» (например, современная музыка «деревенщиками» демонизировалась[543]543
См. описание дискотеки в рассказе «Людочка»: Астафьев В.П. Собр. соч. Т. 9. С. 398. Ср.: Белов В.И. Письмо в «Правду» // Белов В.И. Раздумья на родине: Очерки и статьи. М., 1989. С. 174–175.
[Закрыть]), упиваться им, полагал писатель, к сожалению, в большей степени соответствует человеческой природе. Такое поляризованно-романтическое видение человека было чревато серьезными внутренними кризисами, в которые художник погружался раз за разом. Во всяком случае, предложение посадить на скамью подсудимых творцов «суррогатов музыкального искусства»[544]544
Астафьев В.П. Постойте – поплачем! Т. 12. С. 288.
[Закрыть] в статье «Постойте – поплачем!» (1986), написанной в связи с избиением на дискотеке девушками 15 и 16 лет своей сверстницы, при всей его запальчивости кажется не столько свидетельством склонности писателя к карательным мерам, сколько отражением растерянности перед косностью человеческой природы и ставшей очевидной «неэффективностью» высокого искусства[545]545
Сверхцель искусства, по Астафьеву, – содействовать исправлению нравов: «Вот тут вольно или невольно возникает вопрос: а зачем я работал и работаю? Зачем оглох от перенапряжения сил своих и могучего таланта гениальный Бетховен? Зачем было не менее гениальному Рубенсу, когда у него отнялась правая рука, учиться писать левой?» (Астафьев В.П. Постойте – поплачем! С. 287).
[Закрыть].
С определенного момента Астафьев вообще был склонен проблематизировать статус культуры. С одной стороны, она для него оставалась важнейшим инструментом социализации, вне ее, считал он, невозможно «самоосуществление» личности. Поэтому нежелание внука слушать классическую музыку вызывало у него бурное негодование и казалось знаком «одичания» молодого поколения: «Дед ногти в кровь срывал, чтобы хоть к какой-то культуре прибиться… а эти, наоборот, от культуры, как черт от ладана, в содом, в пещеру, в помойку»[546]546
Астафьев В.П. Нет мне ответа… С. 466.
[Закрыть]. С другой стороны, современная культура все больше представлялась ему доказательством человеческого «падения». Наконец, в отношении писателя к культуре давала о себе знать характерная для крестьянского сознания смесь уважения и недоверия. В определенных контекстах столь почитаемую «высокую» культуру он уподоблял «надстройке» над обычной жизнью с ее простыми трудностями и радостями, соединяя ее с представлениями о рафинированности, утонченности, наивной устремленности к книжным идеалам. Этой эссенциалистски понятой, мифологизированной Культуре с большой буквы писатель искал и находил альтернативу. В его письмах и публицистике появляется еще один «образ» культуры – основанной на интериоризации традиционных этических норм, требующей не образования, знания Пушкина и чтения Шекспира, но определенности моральных ориентиров (тех самых «внутренней культуры», «порядочности», о которых периодически писали «деревенщики»).
Ничего (внучка Поля. – А.Р.) читать не хочет, пишет, как слышит, а я говорю – и пусть не читает, и пусть голову свою легкую не отяжеляет разной трухой и опилками так называемой культуры, любит лошадок, хочет ветеринаром быть и учиться в сельхозинституте, пусть любит лошадок и учится, где хочет, да деда с бабой почитает и понимает, больше и не надо. Многие знания – многие скорби… и лучше уж радоваться без этих самых знаний, чем быть несчастным, угрюмым и нелюдимым со многими знаниями. На земле рожденному, земным человеком и быть ему надо, а не витать в небесах, не шариться в облаках, отыскивая свет и дополнительный смысл жизни[547]547
Там же. С. 599.
[Закрыть].
Таким образом, «внутренняя культура» изоморфна природе, взятой за образец, и специфически «природные» свойства (естественность, органичность) оказываются значимыми, хотя и не единственными, критериями ценности культурного акта[548]548
Ср. с высказыванием С. Залыгина: «…культура беспартийна, а значит, и гораздо ближе к природе и к природности, чем политика. Политика как раз та сфера, которая отдаляет человека от натуры – и от норм и от мер не только мышления, но и поведения, заданных нам самой природой» (Залыгин С. Культура, демократия и тоталитаризм // Новый мир. 1997. № 8. С. 162).
[Закрыть].
Интересно, что придать противоречивым воззрениям Астафьева на культуру сюжетно-темпоральную связность невозможно. Упования на культуру или разочарования в ней преобладали не на том или ином хронологическом отрезке и даже не в том или ином типе высказывания – публичном либо частном, адресованном корреспондентам по переписке. Эти воззрения нельзя описать как последовательный переход от одного дискурса, по каким-либо причинам дискредитированного или исчерпавшего себя в глазах писателя, к другому. Напротив, с убежденностью и почти одновременно Астафьев продумывает взаимоисключающие идеи, хотя его эстетика и публичная позиция долгое время обусловливаются традиционным просветительским идеалом, который со временем (примерно с середины 1980-х) он сам же станет яростно дезавуировать. Примечательно, что вполне оптимистичные пророчества Астафьева о рождении «нового человека» через приобщение к культуре хронологически совпадают с первыми, высказанными в частной переписке, сомнениями в способности культуры что-либо менять и на кого-либо влиять. В 1964 году в письме Ивану Степанову писатель раздраженно замечает:
Вон у меня на полке стоит двести книг из серии «Жизнь замечательных людей», стоят сочинения титанов – Толстого, Достоевского, Бальзака и многих, многих страдальцев «за будущее», за человека. И что? Лучше стал человек? Жизнь его устроенней сделалась? Он высвободил ум и себя от забот о насущном хлебе для творчества и великих дел? Да ни хрена подобного! Все стало хуже и человек тоже. Эта двуногая скотина сама себя поставила к стенке и не понимает этого[549]549
Астафьев В.П. Нет мне ответа… С. 60.
[Закрыть].
Искусство, историко-культурный опыт персонажей «ЖЗЛ» служат здесь верификации прогрессистского дискурса («лучше стал человек?»), в результате чего Астафьев вынужден признать, во-первых, отсутствие прогресса в духовной области, во-вторых, неоправданность надежд, в том числе и собственных, на преобразующую роль культуры. Возможно, за этим признанием стоит крушение иллюзий «неофита», прорвавшегося к культуре «из низов» и уповавшего на нее – ни больше, ни меньше – как на орудие спасения человечества. Кстати, просветительское отождествление «слова» и «дела» в советском культурно-политическом контексте выражалось подчас гипертрофированно (ср., к примеру, с высказыванием предтечи «деревенщиков» Валентина Овечкина: «Пишешь, пишешь и – ни хрена, ни на градус не повернулся шар земной»[550]550
Цит. по: Атаров Н.С. Дальняя дорога: Литературный портрет В. Овечкина. М., 1977. С. 167.
[Закрыть]), и Астафьев, вероятно, поначалу тоже вполне серьезно рассчитывал на видимый морально-педагогический и социальный эффект писательства, однако действительность безжалостно опрокинула эти ожидания.
В «Зрячем посохе», прощаясь (в очередной раз) с иллюзиями по поводу культуры, Астафьев утверждал: «само влияние литературы и искусства на человеческое общество у нас, как и во всем мире, преувеличено…»[551]551
Астафьев В.П. Зрячий посох. С. 120.
[Закрыть]. «Все классики нашей литературы, великие умы российские, жизнью своей и твореньями пытались хоть что-то изменить к лучшему, но толоконный лоб так и не пробили…»[552]552
Астафьев В.П. Нет мне ответа… С. 527.
[Закрыть] – уточнял он свою мысль уже в 1993 году в письме прозаику Алексею Бондаренко. Из последнего высказывания, как и из процитированного выше письма Степанову, следует, что ответственность за неосуществленную утопию преображения личности литературой Астафьев возлагал на читателя. По сути, поставив под сомнение «действенность» литературы и искусства, художник поставил под вопрос и самого человека, и сделал это радикально – усомнившись в нем как в жизнеспособном антропологическом виде. Со временем Астафьев все больше сосредоточивается на проблеме неподатливости людской природы просвещающему воздействию культуры, истоках зла и интуитивном выборе человечеством нисходящей траектории развития. Примерно с конца 1970-х годов разнообразные факты и явления, от случаев бытового насилия до глобального экологического кризиса, писатель упорядочивает в рамках дискурса деградации. Парадоксально, однако, что основой астафьевского самоопределения все это время остается предложенная критиком А. Макаровым еще в 1960-е годы формула: «…по натуре своей он моралист и певец человечности…»[553]553
Макаров А.Н. Во глубине России // Макаров А.Н. Литературно-критические работы: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 184.
[Закрыть]. «Я – последний, кто разочаруется в человеке»[554]554
Астафьев В.П. «Я – последний, кто разочаруется в человеке» [записал А. Тарасов] // Известия. 1997. 6 декабря. С. 6.
[Закрыть], – заявлял Астафьев в 1997 году, несмотря на то, что его художественная практика и публицистические манифестации к тому времени стали примером проблематизации гуманистического дискурса. Он действительно наследует, не избегая при этом терапевтического самоубеждения, руссоистской идее изначальной предрасположенности личности к добру: «Человек-то ведь задуман Богом хорошо»[555]555
Астафьев В.П. Край жизни. Т. 12. С. 316.
[Закрыть]. Однако амплитуда его суждений о человеке такова, что другой крайней точкой оказываются уничижительные определения – «выродившаяся тварь», «ошибка природы, роковая ее опечатка»[556]556
Астафьев В.П. Нет мне ответа… С. 415.
[Закрыть]. Прошедший фронт Астафьев все более откровенно заявляет, что под тонкой пленкой культуры в человеке кроется неустранимое животное начало. Проявления в обыденной жизни агрессии, особенно институциализированные, у него, травмированного зрелищем военного насилия, вызывают болезненное неприятие. В 1960 году он пишет жене:
На бокс сходили. Зрелище это пробуждает в человеке зверя, низменные, жестокие его инстинкты. Люди кричат: «Добивай!» Кровь с лица не дают утереть. <…> Московские психопаты и смотрят, и визжат с горящими глазами, аж судороги их берут! <…> Зрелище это адски-захватывающее, жестокое, бесчеловечное[557]557
Там же. С. 38.
[Закрыть].
В течение следующего десятилетия (в 1970-е годы) искусственное возбуждение кровью, жестокостью, нагнетание военно-мобилизационной риторики в повседневных обстоятельствах[558]558
См.: Астафьев В.П. Пересекая рубеж… С. 221; Астафьев В.П. Нет мне ответа… С. 81.
[Закрыть] он будет все так же бескомпромиссно числить по разряду психических аномалий:
Не ведают они (охотники-браконьеры. – А.Р.), что, перестав бояться крови, не почитая ее, горячую, живую, сами для себя незаметно переступают ту роковую черту, за которой кончается человек и из дальних, наполненных пещерной жизнью времен выставляется и глядит, не моргая, низколобое, клыкастое мурло первобытного дикаря[559]559
Астафьев В.П. Царь-рыба. С. 212.
[Закрыть].
Впоследствии художник сконцентрируется на проблеме немотивированности агрессии, пренебрежительном отказе современного человека отыскивать хоть какие-то основания, дабы оправдать применение насилия (об этом идет речь в «Пакости», 1984, «Печальном детективе», 1986, «Людочке», 1989). В прозе 1980-х годов, решительно раздвинувшей границы допустимого в изображении насилия и побудившей Виктора Ерофеева сделать весьма спорное умозаключение о разрыве Астафьева с русской «философией надежды»[560]560
Ерофеев В. Русские цветы зла. М., 2001. С. 13–14.
[Закрыть], писатель указывает на неизбывное присутствие в глубинах человеческой природы агрессивности и жестокости, хотя углубленной аналитики их истоков, биологических или метафизических, не предлагает:
Это вот что? Все тот же, в умиление всех ввергающий, пространственный русский характер? Или недоразумение, излом природы, нездоровое, негативное явление? Отчего тогда молчали об этом? Почему не от своих учителей, а у Ницше, Достоевского и прочих, давно опочивших товарищей, да и то почти тайком, надо узнавать о природе зла? В школе цветочки по лепесточкам разбирали, пестики, тычинки, кто чего и как опыляет, постигали, на экскурсиях бабочек истребляли, черемухи ломали и нюхали, девушкам песни пели, стихи читали. А он, мошенник, вор, бандит, насильник, садист, где-то вблизи, в чьем-то животе или в каком другом темном месте затаившись, сидел, терпеливо ждал своего часа, явившись на свет, пососал мамкиного теплого молока, поопрастывался в пеленки, походил в детсад, окончил школу, институт, университет ли, стал ученым, инженером, строителем, рабочим. Но все это в нем было не главное, поверху все. Под нейлоновой рубахой и цветными трусиками, под аттестатом зрелости, под бумагами, документами, родительскими и педагогическими наставлениями, под нормами морали ждало и готовилось к действию зло[561]561
Астафьев В.П. Печальный детектив. Т. 9. С. 42.
[Закрыть].
Попытки Астафьева объяснить для него необъяснимое – жестокость человека по отношению к природе и себе подобным вплотную подводят его к мысли о биологической детерминированности склонности к насилию. Животное начало укоренено в человеческой природе, и аномальный, по мысли писателя, ход развития человеческой цивилизации стимулирует его высвобождение. Понятно, что марксистская обществоведческая доктрина, рассматривавшая человека прежде всего как существо социально детерминированное и объяснявшая неконтролируемые проявления человеческой природы, вроде внезапной агрессивности, патологиями общественного устройства, подобное «биологизаторство» не поощряла. Тем не менее, счесть проблематику «природной» предрасположенности человека к агрессии и насилию «слепым пятном» позднесоветской культуры нельзя. В специфической для «долгих 1970-х» форме критики буржуазных концепций она так или иначе давала о себе знать в публичном пространстве. Догадка Астафьева о биологической обусловленности инстинкта (само)истребления и стремление в публицистике и художественной прозе осмыслить это явление сближают его с рядом активно критиковавшихся в СССР западных исследователей-этологов (Конрадом Лоренцем, Нико Тинбергеном, Десмондом Моррисом), усматривавшими корни цивилизационных проблем в отставании естественно-исторической поведенческой приспособляемости человека от культурно обусловленных изменений. Человек, полагали эти ученые, – существо, до конца непознанное в своих реакциях, не свободное от спонтанных проявлений насилия, провоцирующее вспышки внутривидовой агрессии в масштабах, грозящих физическим уничтожением себе подобных, его агрессивность детерминирована биологически и вряд ли может быть побеждена воспитанием и культурой[562]562
См.: Тинберген Н. Люди, эти непознанные существа… // Литературная газета. 1969. 9 июля. С. 11.
[Закрыть]. В СССР эти дискуссии, эхом отозвавшиеся в газетной полемике, обществоведческих и философских работах[563]563
См., например: Денисов В.В. Социология насилия (критика современных буржуазных концепций). М., 1975; Румянцева Т.Г. Критический анализ концепций «человеческой агрессивности». Минск, 1982; Холличер В. Человек и агрессия (З. Фрейд и К. Лоренц в свете марксизма) / Пер. с нем. М., 1975. В советском публичном пространстве многообразие концепций и точек зрения на агрессивность, по сути дела, было суммировано лапидарным редакционным заглавием, которое получила заочная дискуссия между голландским этологом Н. Тинбергеном (его статью из журнала «Scienсe» перепечаталав 1969 году «Литературная газета») и советским ученым Ф. Бассиным: «Агрессивность: биологическое свойство “homo sapiens”? Нет, социальная черта империализма!» (См.: Литературная газета. 1969. 9 июля. С. 11).
[Закрыть], не получили сколько-нибудь самостоятельного продолжения, а с работами Лоренца или Тинбергена, выходившими на русском языке, Астафьев, судя по всему, знаком не был. Но тем показательнее их общность в утверждении взаимозависимости между поведением современного человека, которого они воспринимают, несколько огрубляя, как «испорченное животное», и кризисом современной цивилизации. В частности, и этологи, и «деревенщики», считавшие содержательно неопределенное «природное» основой человеческой личности, независимо друг от друга, яростно критиковали структурное ядро модерности – город, полагая, что существование в аномальных условиях скученности и взаимной анонимности пробуждает в человеке разрушительные инстинкты. Эту тему затрагивают К. Лоренц в «Восьми смертных грехах цивилизованного человечества» и Д. Моррис в «Людском зверинце», Астафьев в публицистических фрагментах «Зрячего посоха» и «Людочке», В. Белов в романе «Все впереди». При всей разнице языков описания, авторы исходят из идеи разрушения в ходе ускоренного цивилизационного развития «нормы», которая для этологов фиксируется видоспецифичными программами, а для «деревенщиков» – «онтологизированной», основанной на «природных» законах традицией. Тот же Астафьев язвительно заявляет:
Многие современные люди, не видевшие в глаза не только тайги, но даже обыкновенного леса, ведут себя среди людей, на городских площадях и улицах, как в тайге, шествуя по жизни без каких-либо указателей, прежде всего нравственных, и вид у них, и мораль дикаря-таежника, иным ультрасовременным жителям и до обезьяны недалеко[564]564
Астафьев В.П. Зрячий посох. С. 309.
[Закрыть].
В научной жизни СССР начала 1970-х также имелся прецедент обращения к теме насилия, в известной степени оправданный разработкой данной проблематики на материале первобытного общества, – это исследование историка и философа Бориса Поршнева «О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии)» (опубл. 1974). В одной из своих статей 1960-х годов Поршнев обращал внимание на «странное свойство человека – “уничтожать друг друга”»[565]565
Цит. по: Вите О.Т. «Я – счастливый человек»: Книга «О начале человеческой истории» и ее место в биографии Б.Ф. Поршнева // Развитие личности. 2007. № 4. С. 186.
[Закрыть], позднее, реконструируя превращение палеоантропа в неоантропа, он обнаруживал причины такой «странности». Исследователь доказывал, что в процессе становления человека его животные предки проходили стадию адельфофагии, на которой – в зависимости от отношения к умерщвлению представителей своего вида – сформировались два основных подвида: поедающие себе подобных и исключающие для себя такую возможность. Вопреки идее Энгельса о ведущей роли труда в антропогенезе, Поршнев полагал, что в истоках человеческой истории лежат страх перед себе подобным и принуждение. Разумеется, как и в случае с этологами[566]566
Здесь стоит вспомнить писателя, который совершенно определенно был знаком с идеями этологов и считал их перспективными. Речь идет об Андрее Битове, в первой половине 1970-х годов с большой симпатией отзывавшемся о научно-популяризаторской деятельности К. Лоренца и идее биосоциальной природы человека (см.: Битов А. Птицы, или Новые сведения о человеке // Битов А. Новые сведения о человеке. М., 2005. С. 351–352, 362–363).
[Закрыть], речь не может идти о сознательном усвоении Астафьевым научных идей Поршнева (которого он, конечно, не читал) или кого-либо еще, а лишь о типологически близком стремлении ученого и писателя в разных типах дискурса – научном или художественном – легитимировать понятия насилия, агрессии и принуждения в разговоре о природе человека.
Астафьев вообще полагал, что сознательное игнорирование советской культурой проблем зла и насилия – свидетельство ее инфантильности («это от недоразвитости, <…> от всеобщей глухоты и слепоты»)[567]567
Астафьев В.П. Нет мне ответа… С. 493.
[Закрыть], и, словно компенсируя это невнимание, в «Зрячем посохе» мировую историю попытался напрямую связать с насилием и подавлением. С его точки зрения, человечество руководствуется не природным – благим и мудрым,[568]568
См.: Там же. С. 101.
[Закрыть] а «казенным законом»:
…возник он, должно быть, еще до появления письменности, а может быть, даже и мысли, и суть его состоит в том, чтобы кто-то кого-то подминал и заставлял работать, добывать пропитание, защищать его от врагов – главный, древний и дикий порядок человеческих отношений: кто не работает – тот ест, да и пьет тоже[569]569
Астафьев В.П. Зрячий посох. С. 120. Ср.: Астафьев В.П. Нет мне ответа… С. 284.
[Закрыть].
В 1985 году Астафьев дорисовывает после разговора со знакомым генетиком картину глобальной инволюции:
Жизнь совсем с планеты не исчезнет, останутся частицы растений, водорослей и мелких, но самых стойких животных, скорее всего крысы, которые, доедая нас, родят тех, кто поест их, потом через миллион лет снова явится миру существо с комиссарскими мозгами и сообразит, что кто не работает, тот лучше и дольше проживет. И все начнется сначала. <…> Надежда – на Вселенную, на иные структуры и иное, не агрессивное устройство разума. Во что я, грешник, лично на исходе жизни совершенно не верю…[570]570
Астафьев В.П. Нет мне ответа… С. 352.
[Закрыть]
Иными словами, подчинение себе более сильными особями менее сильных и уничтожение непокорных (то есть «трудового человека»[571]571
Астафьев В.П. Зрячий посох. С. 120.
[Закрыть] – единственно созидательного типа) Астафьев воспринимает в качестве инварианта развития человеческой истории, отклонения от которого почти невозможны. Парадокс в том, что иного противоядия от тотального отчаяния, кроме все той же периодически реанимируемой веры в спасительную силу культуры, писатель не находит[572]572
См.: Астафьев В.П. Сгорит божественная скрипка. Т. 12. С. 96, 100.
[Закрыть].
Проблематизация, пусть непоследовательная, статуса литературы и искусства, само стремление Астафьева переместить внимание в ту область советской культуры, где наиболее очевиден был дефицит ее знания о природе человека, не замедлили сказаться в изменении образно-символического языка астафьевской прозы. Ужас перед безднами «звериного» в человеке на уровне поэтики вылился в предпочтение иконического знака конвенциональному, в гипертрофию натуралистического начала, предсказуемо избранного в качестве языка для выражения травмированности насилием[573]573
См.: Разувалова А.И. Роман В.П. Астафьева «Прокляты и убиты» как текст-травма // Вестник Красноярского гос. пед. ун-та им. В.П. Астафьева. 2013. № 4.
[Закрыть]. Последовательная тематизация насилия в прозе 1980-х годов[574]574
Отчасти она подстегивалась быстрым ростом преступности в СССР этого периода (см.: Криминология / Под общ. ред. А.И. Долговой. М., 2009. С. 170), процессом, на который писатель реагировал очень бурно.
[Закрыть] и позднее сопровождалась закреплением за Астафьевым в среде читателей и критиков репутации «ожесточенного» художника[575]575
См., например: Ермолин Е. Перекуем ли мы мечи на орала? // Искусство Ленинграда. 1990. № 1. С. 19–20.
[Закрыть]. Еще в начале 1980-х годов тонкий интерпретатор астафьевской прозы критик Валентин Курбатов, прочитав «Зрячий посох» и некоторые «затеси», где уже был очевиден интерес писателя к проблемам зла и насилия, увидел в этих текстах свидетельство кризиса. Он связал последний с нахождением Астафьева в маргинальном пространстве – между «жизнью», ассоциируемой с традиционным крестьянским миром, и «культурой»:
Ожесточение сердца угадывается сразу… доходя до степени неживой, словно Вы сами себя заводите. Раньше Вас лечила природа, родовая память, наследованная баушкина кровь с ее здоровой соразмерностью и покоем поля, дерева, неба, родная земля лечила, потому что была вдали и далью очищена. А теперь, когда она рядом, в ней дурное на глаза первым лезет, и душа осердилась. Тут чистое зрение может быть возвращено только великой культурой, которая всегда милосердна, потому что видела человека в разных ситуациях и научилась прощать его[576]576
Крест бесконечный. В. Астафьев – В. Курбатов: Письма из глубины России. Иркутск, 2002. С. 127–128.
[Закрыть].
В центральных произведениях 1980-х, «Печальном детективе» и «Людочке», Астафьев действительно изображает ситуацию безнаказанного натиска зла и насилия на человечность и в очередной раз демонстрирует, во-первых, открытость проблематике, возникающей на стыке биологического и социального, во-вторых, расфокусированность двух типов оптики, которыми он в равной мере пользуется, – оптики моралиста и оптики «натуралиста». В «Людочке», среди прочего, его занимает природа всеобщей пассивности перед агрессией и насилием, провоцирующей их дальнейшее распространение. К. Лоренц, например, считал это явление одним из признаков кризиса современного человечества и объяснял «биологизаторски» – рассогласованием генетических и социальных механизмов, утратой «естественного правового чувства» и, как следствие, «инфильтрацией общества асоциальными представителями нашего вида»[577]577
Лоренц К. Восемь смертных грехов цивилизованного человечества. М., 1998. URL: http://modernproblems.org.ru/sience/111-faults.html?showall=1.
[Закрыть]. Астафьев же выдвигает двойственную мотивировку происходящего: с одной стороны, моралистико-психологическую – в публицистических отступлениях он ссылается на русскую привычку к терпению и неоправданную жалость к преступникам, в общем, перебирает мифологемы, трактующие специфику «национальной ментальности», с другой стороны, биологическую, по сути близкую к интерпретации Лоренца, но работающую непосредственно на уровне развертывания сюжета. В «Людочке» возмездие Стрекачу, «порочному, с раннего детства задроченному»[578]578
Астафьев В.П. Людочка. С. 401.
[Закрыть] вожаку местной шайки развращенных юнцов и насильнику, приходит со стороны отчима героини – «двуногого существа с вываренными до белизны глазами», в котором клокочет «от пещерных людей доставшееся, сквозь дремучие века прошедшее, <…> всесокрушающее, жалости не знающее бешенство»[579]579
Там же. С. 425.
[Закрыть]. Первобытная агрессивность отчима страшна, но, по Астафьеву, биологически и этически оправдана, ибо кладет конец насилию, творимому от рождения испорченным существом. В последнем же астафьевском романе[580]580
Видимо, в связи с этим романом происходит окончательная личностная самоидентификация автора с темой насилия. Во всяком случае, именно в комментариях к «Прокляты и убиты» он посчитал нужным объяснить читателю корни своего интереса к ней. См.: Астафьев В.П. Прокляты и убиты. Т. 10. С. 760.
[Закрыть] насилие заполняет все поры социального организма и выступает сутью мироздания, в котором мучающиеся люди обречены быть «проклятыми и убитыми». Здесь автор предельно обнажает первичную жестокую сущность бытия, защитой от которой ему в разное время представлялась то людская солидарность («артельность»), то самая «природная» и естественная форма человеческой близости – семья, то культура.
В начале своего творческого пути Астафьев был убежден, что именно культура – пространство преображения личности и спасения от жестокости, заключенной в социуме, но, размышляя о ней, он открывал в человеке глубины, которые не могут быть подчинены культуре. Крах советского политико-культурного проекта, участником и свидетелем которого писатель был, кризис в 1990-е годы личного проекта только усилили его разочарование в человеке, хотя окончательно расстаться с идеей просвещающего воздействия культуры Астафьев не хотел и, видимо, не мог, ибо идея эта, даже после ее многократной ревизии, структурировала его писательскую идентичность. В 1995 году в частном письме он заметит: «…пишу для того, чтобы если не обуздать, так хоть немножко утишить в человеке агрессивное начало»[581]581
Астафьев В.П. Нет мне ответа… С. 564.
[Закрыть]. Другими словами, наличие в природе человека склонности к агрессии и насилию для него были уже бесспорны, но оправдание собственного творческого проекта требовало наделения культуры сверхсмыслом, и такой сверхсмысл писатель ей вновь и вновь придавал.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































