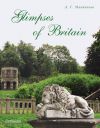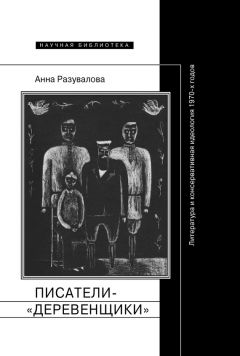
Автор книги: Анна Разувалова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
порой он сознательно простился, очень скромно одевался. <…> Любил вставлять в свою речь простонародные выражения и даже матерные словечки (говорил, что это у него родимое пятно беспризорного детства), сморкался на улице без помощи носового платка, и вообще, как мне казалось, сознательно эпатировал так называемое приличное общество[353]353
Матусевич В. Записки советского редактора. Журнал «Наш современник» (1978–1981) // Новое литературное обозрение. 1998. № 29. С. 319.
[Закрыть].
Полубессознательные игры «деревенщиков» со стилем – пример того, как можно было получить символические дивиденды от тонкого использования шокирующе-неуместной либо естественной «простоты» и от просчитанного (с пресловутой «деревенской хитростью») совпадения / несовпадения с ожиданиями внешнего наблюдателя. Если публика в период послевоенного увлечения «русской эстетикой» хотела видеть высокого румяного крестьянского парня-самородка, то такую возможность ей предоставляли. В. Солоухин не без внутреннего удовлетворения вспоминал свое первое выступление перед московской публикой – чтение стихов в Литстудии МГУ и пришедшиеся ко времени «простонародные» детали собственного облика: «Я вышел в яловых сапогах и в черной косоворотке с белыми пуговицами. Был фурор»[354]354
Солоухин В.А. Последняя ступень. С. 35.
[Закрыть]. В дальнейшем Солоухин, следуя описанной Бурдье логике производства различий, мягко эксплуатировал в среде литературного истеблишмента свою внешность «богатыря-русака», в частности, сохраняя в речи оканье, которое, как замечают некоторые мемуаристы, почти исчезало в узком семейном кругу[355]355
См.: Панин И. Крестьянин во дворянстве // НГ – Exlibris. 2008. 5 июня. URL: http://exlibris.ng.ru/tendenc/2008 – 06–05/9_solouhin.html).
[Закрыть].
Интеллектуалы, интеллигенты, «народ»: маргинальность и «промежуточная» идентичность писателей-«деревенщиков»
Проекция образа «героя в кирзовых сапогах» на личность В. Шукшина делает более очевидным маргинальный характер[356]356
Одним из первых об этом явлении заговорил критик Л. Аннинский. Он утверждал, что Шукшин стал специалистом по «межукладному слою», «полугороду-полудеревне», возникшим в советском культурном ландшафте к «последней четверти двадцатого столетия» (Аннинский Л. Путь Василия Шукшина // Аннинский Л. Тридцатые – семидесятые. М., 1977. С. 252). «Осовременив» терминологию критика, можно сказать, что речь идет о процессах маргинализации. Этот термин, и сейчас имеющий в обыденном языке негативный оттенок, в советское время практически не использовался, и Аннинский к возмущению части публики говорил о Шукшине и некоторых его героях, точнее, об их амбивалентной социокультурной идентичности, как о «полуинтеллигентах» (ср.: Заболоцкий А. Указ. с оч. С. 134). См. также: Ан С.А. Маргинальный человек в кинематографе В.М. Шукшина // Провинциальная экзистенция: К 70-летию со дня рождения В.М. Шукшина. Барнаул, 1999. С. 84–86.
[Закрыть] этого автомифологизированного персонажа: «деревенски-колхозного» стиля упорно придерживается человек, давно живущий в городе и активно использующий для самореализации институты и инструменты городской культуры. Позиция Шукшина – своего рода эмблема консервативной модернизации со специфичными для нее процессами социокультурной маргинализации вчерашних крестьян, составивших в хрущевский период бо´льшую часть городского населения СССР[357]357
См. об этом: Вишневский А.Г. Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР. М., 1998. С. 109.
[Закрыть]. «…Как крестьянин я, может быть, растянул этот процесс сближения (с городской культурой. – А.Р.), так сказать, на слишком долгое время и, может быть, был излишне осторожен»[358]358
Шукшин В.М. «Я родом из деревни…». Т. 8. С. 169.
[Закрыть], – однажды заметил Шукшин. Дистанция, некогда отдалявшая его от социального и символического капитала, впоследствии, когда то и другое было присвоено, все-таки оставалась ключевым элементом самоидентификации[359]359
О компенсаторном характере идеологических конструкций, возникающих как следствие «отверженности», см. применительно к французской литературе: Бурдье П. Поле литературы. С. 70.
[Закрыть]. Собственную позицию «деревенщики» упрямо определяли через констатацию удаленности – как от интеллектуалов, владевших символическим капиталом, так и от писателей, занимавших начальственные должности в творческих союзах и наделенных капиталом административным[360]360
Некоторые из «деревенщиков» предпочитали буквально, географически дистанцироваться от столицы, которая кумулировала представление о всех видах управления и контроля (Астафьев жил в Перми, Вологде, Овсянке; Белов – в Вологде; Шукшин незадолго до смерти неоднократно свидетельствовал о желании вернуться в Сростки; в провинции оставались В. Распутин, Е. Носов, В. Лихоносов и др.).
[Закрыть]. Но, отстаивая принципиальную «инаковость» по отношению к оппонентам, они вольно или невольно постулировали отсутствие единого смыслового пространства, в котором могла бы быть выработана общая система критериев и оценок, и тем самым давали понять, что диалог не предусмотрен[361]361
По замечанию Ильи Кукулина, «в конце 1960-х – 1970-е годы националистические круги писателей были близки к тому, чтобы образовать самостоятельную субкультуру, объединенную собственным риторическим языком, а иногда даже – по примеру славянофилов – и “русским” стилем одежды… В целом они стремились образовать своего рода самостоятельную литературу, претендующую заменить современную русскую литературу в целом» (Кукулин И. Реакция диссоциации: легитимация ультраправого дискурса в современной российской литературе // Русский национализм: Социальный и культурный контекст. М., 2008. С. 289).
[Закрыть].
Такого рода дистанцирование похоже на самомаргинализацию, сознательное удерживание себя на некотором расстоянии от пространства, где сосредоточены институциональные возможности и механизмы осуществления профессиональной карьеры, от групп, претендующих на выработку инноваций. Но в силу избранного рода занятий (писательство, режиссура) «деревенщики» оказывались дистанцированными и от разнообразных групп, которые можно включить в конструкт «народ». Конечно, с крестьянской средой они были связаны по рождению, она оставалась «питательной почвой» их творчества[362]362
Обоснование необходимости существовать в аутентичной культурной и языковой среде см.: Шукшин В.М. Последние разговоры. С. 183; Астафьев В.П. Верность своей земле // Красноярский рабочий. 1984. 29 апреля. С. 3.
[Закрыть], оттого они испытывали серьезную нужду в контакте с ней. Тем не менее, идентификация с «материнской» средой и представляющими ее социальными группами была частичной, и «деревенщики» довольно остро переживали оправданный, но не ставший от того безболезненным выход за пределы сословно-родовой традиции. Даже благополучно «переквалифицировавшийся» в «писатели» и «интеллигенты» В. Солоухин изменение судьбы крестьянского рода в романе «Мать-мачеха» (1964) осмысливал как слом:
Допустим, станет Митя интеллигентом, пусть даже и самым завалящим, и вот уж линия его рода устремится из стихии деревни в стихию города. Уж будущий, допустим, сынишка Мити будет называться не сыном крестьянина, а сыном… ну, кем там сделается Митя к тому времени? И уж все потомство Мити на много колен вперед от рождения до смерти будет глядеть не на лошадиный круп со шлеей, а на цепочки уличных фонарей, на рояль, на книжные полки, на заманчивую прибранность рабочего стола, освещенного настольной лампой. <…>
Может быть, Митя-то весь не больше, чем игрушка в руках судьбы, как говорилось в старинных романах. Может быть, он лишь очередное звенышко в железной цепи закономерностей, и помимо его воли наступила пора сломаться, хрупнуть немудреной линии крестьянского рода. Так уж совпало, что самый излом, самый что ни на есть разрыв вековых волокон пришелся как раз на рыжего парня Митю. Больно ли будет Мите от этого излома – ничего пока не известно[363]363
Солоухин В.А. Мать-мачеха: Рассказы. Кишинев, 1980. С. 107.
[Закрыть].
«Деревенщики» могли не без гордости прокламировать свое крестьянское происхождение («Я родом из деревни, крестьянин, потомственный, традиционный»[364]364
Шукшин В.М.«Я родом из деревни…» С. 166.
[Закрыть]), но осознавали, что профессиональная деятельность дистанцирует их от «народа», требует трансформации многих психо-социокультурных склонностей и реакций, обусловленных крестьянским габитусом. У того же Солоухина появляется идея писателя «из крестьян» как медиатора между «народом» и образованной публикой – идея, с одной стороны, смягчавшая и оправдывавшая «разрыв» со средой, с другой стороны, опиравшаяся на разработанную просветительскую риторику и облегчавшая трудности культурного автоописания:
Ну да, ну да, – цеплялся он (Митя. – А.Р.) за разные теоретические соломинки, – многоступенчатое влияние и воздействие культуры. Я понимаю Блока и Вийона. Значит, я – передаточное звено. От них к народу, к Юрке Горямину и Васятке Петухову. Но что я могу им передать? Значит, что же я есть и зачем я? В университете студенты мне аплодируют и просят читать еще. Я читаю. А этим людям, с которыми я вырос, которые меня породили, мне нечего сказать! Позор! Позор и позор! Один ли Блок должен спускаться до них всех, они ли все должны подниматься до него, или такие, как я, должны уходить от них к тончайшему пониманию и ощущению Блока?[365]365
Солоухин В.А. Мать-мачеха. С. 176.
[Закрыть]
Правда, в многозначительном финале романа, одной из бесчисленных парафраз на тему «возвращения к истокам», обманутый городом Митя, врачуя свои раны, припадал к «почве» – «разрыв» с нею, на который почти решился запутавшийся герой, оказывался деянием морально предосудительным, и в негласном соревновании города и деревни все-таки побеждала последняя.
Идея культурного посредничества, рупором которой Солоухин сделал своего героя, не разрешала конфликт лояльностей[366]366
В набросках к незавершенному роману «Чистая книга» Ф. Абрамов доверяет наиболее ему близкому герою из революционной среды Юре Сорокину описать идеальный культурный взаимообмен между крестьянством и интеллигенцией: «Почему у социал-демократов такое высокомерное отношение к крестьянину? Человек второго сорта, неполноценный человек. Человек полу-полу (определение, адресованное некогда С. Рогинским Абрамову. – А.Р.). <…> Мы, интеллигенция, по сравнению с ним недоноски. Что можем, что умеем по сравнению с ним? Культуру крестьянину надо. Это мы должны дать ему. Но и самим от него взять культуру» (Абрамов Ф.А. Чистая книга: незавершенный роман. СПб., 2008. С. 238). В этой модели взаимодействия («дать» культуру – «взять» культуру) Абрамов занимает позицию интеллигента, претендующего на знание народных «нужд», увещевающего, пытающегося «исправлять нравы». Ср.: «Народ хочет наконец понять, что в нем хорошее и что плохое. И в этом должны помочь ему. Это задача всей интеллигенции, ибо для того и существует интеллигенция, чтобы просвещать… делать его более умным, гуманным и граждански сознательным» (Абрамов Ф.А. 50-летие советской власти и задачи писателя. Т. 5. С. 201). В сходном ключе написано абрамовское обращение к землякам «Чем живем-кормимся» (1979) (см.: Абрамов Ф.А. Слово в ядерный век. С. 83–90), за которое он заочно получил от В. Астафьева аттестацию «огорожанившегося человека»: «…его письма, его назидания крестьянам, присвоенное себе право всех поучать, наставлять и чваниться своей гениальной простотой – все это было отвратительно» (Астафьев В.П. Нет мне ответа… С. 334).
[Закрыть], на который «деревенщики», казалось бы, были обречены. Более того, она делала еще очевидней маргинальность их положения – его, огрубляя, можно описать как позицию «между крестьянством и интеллигенцией». Первое оставалось «почвой», разрыв с которой стал бы для автора-«почвенника» губительным в прямом и переносном смысле, вторая обозначала цель и идеал положительной самоидентификации. «Как трудно, невыносимо тяжело стать, да и потом сохранять себя интеллигентом при нашем-то мужицком мурле»[367]367
Астафьев В.П. Нет мне ответа… С. 192.
[Закрыть], – писал об этом Астафьев. В подобном духе высказывался и Шукшин: «…мне бы хотелось когда-нибудь стать вполне интеллигентным человеком»[368]368
Шукшин В.М. Монолог на лестнице. Т. 8. С. 26.
[Закрыть].
Ориентация «деревенщиков» на сакрализованную традицией отечественной культуры модель интеллигента и присущие последнему формы самопредставления вписывалась в скрытую конфронтацию с интеллектуалом – антагонистом интеллигента, который якобы успешно владел всеми технологиями «умственного труда», но был вопиюще равнодушен к проблемам морали и общественному служению. Генеалогия интеллектуала национал-консервативной критикой тесно связывалась с процессами модернизации; его приверженность определенного рода ценностям (активность, рациональность, индивидуализм, антиавторитарность) и коммуникативные привычки после соответствующей реинтерпретации представали проявлением поверхностной эрудированности, эгоистического самолюбования, легкомыслия, неизменно отмеченных печатью искусственности.
В стремлении разграничить интеллектуалов и интеллигентов в «долгие 1970-е» «неопочвенники» шли в ногу с профессиональными идеологами, озабоченными вписыванием новых социальных и культурных реалий в привычные объяснительные схемы. Потребность в интеллектуальных группах, способных к производству инноваций, была ясна либералам из партаппарата, но официально запустить в обращение номинацию «интеллектуал» и тем самым признать существование особой позиции советские идеологи, видимо, не решались. В итоге они совершали удивительные риторические пируэты с единственной целью – обосновав необходимость в интеллектуалах, назвать их как-нибудь иначе, применительно к уже существующему репертуару номинаций:
…оно (понятие «интеллектуал». – А.Р.) страдает неопределенностью с точки зрения моральной позиции и социального назначения литературного творчества. В нем отсутствует главное и специфичное для функций писателя – требование активного добра, человечности, справедливости, прогресса. В этом отношении бесспорное преимущество имеет слово “интеллигент” в том смысле, в каком оно существует в русском языке с середины XIX века, в трактовке передовой демократической и социалистической мысли оно имеет не только, так сказать, культурную, образовательную, но и большую морально-этическую и социальную нагрузку[369]369
Бурлацкий Ф. Интеллектуализм, интеллигентность и «массовая культура» // Иностранная литература. 1972. № 10. С. 223.
[Закрыть].
Интересно, что участники контролируемой полемики на страницах советской прессы и свободных дискуссий в диссидентски-(там-)самиздатовской периодике, где можно было надеяться на использование альтернативных языков обсуждения современности, на самом деле в равной степени оперировали семантикой интеллигенции как «части». Например, в эссе Григория Померанца «Человек ниоткуда», написанном во второй половине 1960-х годов «по оси спора с почвенниками»[370]370
Померанц Г. Выход из транса. М., 1995. С. 137.
[Закрыть] (Ильей Глазуновым, В. Солоухиным и др.), высказывались эксцентричные для официального обществоведения идеи (об исчезновении крестьянства и «народа» как исторической и культурной силы, ключевом значении интеллигенции – своеобразной диаспоры внутри общества). Предпринятая Померанцем инверсия традиционной модели соотношения «целого» и «части», где первое безусловно первенствовало над вторым[371]371
М. Лобанов, дискутируя с критиком Вадимом Ковским по поводу интеллектуализма и мещанства, откровенно противопоставлял этим «продуктам цивилизации» интеллигенцию, «порождаемую народом и выражающую его культурно-исторические потребности» (Лобанов М. «Интеллектуализм» и «надобность в понятиях» // Литературная газета. 1968. 27 ноября. С. 4).
[Закрыть], таила в себе вызов, поскольку за ней стояло более модернизированное видение социума: во-первых, стандарты гражданского, интеллектуального, нравственного поведения доверялось вырабатывать численно небольшому сообществу, консолидированному способностью к самостоятельному умственному и духовному поиску, во-вторых, роль промышленного производства и традиционного сельского хозяйства предлагалось снизить в пользу наукоемких технологий. Однако в утверждении исключительной «креативности» интеллигенции в «Человеке ниоткуда» национал-консерваторы усмотрели «отчетливую русофобскую позицию автора»[372]372
Бородин Л. Без выбора // Бородин Л. Собр. соч.: В 7 т. М., 2013. Т. 6. С. 264. Ср. со статьей: Вехин Н. [Вагин Е.] Об интеллигенции и русском народе // Вече. 1981. № 3. С. 35–43.
[Закрыть]. Леонид Бородин позднее заявлял, что на семинарах Юрия Левады при участии «главного теоретика философского русофобства»[373]373
Бородин Л. Без выбора. С. 196.
[Закрыть] Померанца складывалась «своеобразная школа “антирусской подготовки молодых интеллектуальных кадров”»[374]374
Там же. С. 196.
[Закрыть], запускались в оборот «антирусские идеи», в пересказе Бородина звучавшие так: «интеллигенция как носитель подлинной культуры антиприродна, то есть антинародна по существу и диаспорна по мироощущению… Мы – жуки в муравейнике, со скорбным достоинством свидетельствовали братья Стругацкие. Сегодня задача всякого интеллигента определить себя вне так называемого русского народа…»[375]375
Бородин Л. Без выбора. С. 196.
[Закрыть] Бородин в эссе Померанца увидел не особенно старательно зашифрованную идею ведущей роли еврейства в процессах модернизации, однако массовая аудитория претензии на «элитарность» приписывала интеллигенции как таковой, часто без уточнения ее этнической принадлежности – интеллигент есть тот, кто занят на «чистой» работе и взирает на простонародье свысока. «Неукоренный», антидемократически настроенный интеллигент для «неопочвенников» – это и есть интеллектуал с его стремлением противопоставить себя «толпе», «космополитизировать» знание, освободить его от национального духа, снять с себя моральные обязательства перед «народом». Так что интеллигента «подлинного» от «псевдоинтеллигента» можно было легко отличить по просветительским порывам и самоотверженному служению культуре[376]376
Например, у «деревенщиков» огромным авторитетом пользовались филолог Д.С. Лихачев, археограф В.И. Малышев, ученые, по роду занятий воплощавшие связь с русской культурой и посвятившие себя ее сохранению (Ср.: Абрамов Ф.А. Когда умирает праведник. Т. 6. С. 106–107; Распутин В.Г. Вся жизнь – страда: К 80-летию Д.С. Лихачева // Распутин В.Г. Что в слове, что за словом? Иркутск, 1987. С. 326–334; Астафьев В.П. Затеси: Из тетради о Николае Рубцове // Новый мир. 2000. № 2. С. 7–8). Тем не менее, отношение к Д.С. Лихачеву, если брать национально-консервативную среду в целом, нередко разительно отличалось от почтительного уважения, исповедуемого «деревенщиками». «Теоретики» и «стратеги» «русской партии» были недовольны «колебаниями» ученого и отсутствием поддержки в опасных для них ситуациях. Валерий Ганичев спустя годы вспоминал, что Лихачев присоединился к критикам поэтического сборника «О Русская земля» (М., 1971), издание которого национал-консерваторы считали знаковым. Фактически Ганичев отказал Лихачеву в праве считаться «почвенным» русским интеллигентом: «Когда значительно позднее я позвонил Академику и спросил, почему он это сделал (поставил подпись под статьей. – А.Р.), то он вроде бы смутился, говорил что-то невнятное, даже оправдывался, пообещав написать к чему-нибудь предисловие. Нам нашептывали, что Академик масон, слуга антирусских сил. Мы не знали этого и простили его тогда, памятуя о его нелегкой жизни, но считать символом и абсолютным авторитетом русской культуры больше не стали. Было ясно, что Власть, определенные силы позволяли быть авторитетом по русской культуре только тем, кому они считали возможным и небезопасным для себя его дать. И эта часть интеллигенции, которая не связывает себя с народными чаяниями и с судьбой России, как до революции, так и после, ориентировалась на внешние силы» (Ганичев В. Русские версты. М., 1994. С. 8). Упоминая о масонстве академика, Ганичев, видимо, имел в виду участие Лихачева в кружках конца 1920-х годов «Хельфернак» и «Братство преп. Серафима Саровского» (см.: Брачев В.С. Оккультисты советской эпохи: Русские масоны ХХ века. М., 2007. С. 129–148). Впрочем, зловещий ореол, которым была окружена тема масонства в национально-консервативной среде, способен был на корню погубить любую репутацию.
Следующий виток внимания к проблеме интеллигенции «неопочвенническая» мысль пережила в 1990-е годы, что связано с глубоким кризисом групповой идентичности. Однако и в постсоветский период конструкция «интеллигента» в национально-консервативной версии не претерпела больших изменений по сравнению с «долгими 1970-ми». К интеллектуальным источникам, поддерживавшим ее (славянофильство, почвенничество Федора Достоевского, «Вехи»), добавился Иван Ильин и открыто цитируемая «Образованщина» Александра Солженицына (Ср.: Распутин В. Интеллигенция и патриотизм // Москва. 1991. № 2. С. 6 – 19; Кожинов В. Между государством и народом: попытка беспристрастного размышления об интеллигенции // Кожинов В. Россия как цивилизация и культура. М., 2012. С. 410–437).
[Закрыть].
«Деревенщики» среагировали и на семиотический аспект поведения «настоящего русского интеллигента». Здесь главными для них оказались высоко ценимые качества органичности и естественности, то есть самопредставления, свободного от потребности предъявлять кому-либо свою образованность, хорошие манеры, компетентность и, как следствие, демонстративно выстраивать дистанцию по отношению к не владеющим необходимыми социальными навыками и этикетными тонкостями. С благодарностью «деревенщики» вспоминали встречи с «настоящими интеллигентами», которые деликатно устраняли разделявшую собеседников дистанцию. О своем глубоко почитаемом литературном наставнике критике Александре Макарове Астафьев впоследствии говорил:
И как истинно культурный человек он умел не делать, не показывать дистанции. Пожалуй, это отличительная черта тех немногих подлинно культурных интеллигентных людей, которых я встречал. <…> Как сегодняшнему обществу недостает таких людей! Без снобизма, заносчивости, угодливости и перехмура. Зато сколько полукультурных снобов![377]377
Цит. по: Ростовцев Ю. Указ. соч. С. 170–171.
[Закрыть]
Естественность поведения в глазах «деревенщиков» была характеристикой, объединявшей рафинированного интеллигента и «простого» человека в рамках символической народной общности. «…Люди настоящие – самые “простые” (ненавижу это слово!) и высококультурные – во многом схожи, – заявлял Шукшин. – <…> Ни тем, ни другим нет надобности выдумывать себе личину, они не притворяются…»[378]378
Шукшин В.М. Послесловие к фильму. Т. 8. С. 11. Ср. также: Шукшин В.М. Насущное как хлеб [вариант]. Т. 8. С. 144.
[Закрыть]. Органичное поведение интеллигента и крестьянина, по Шукшину, не нуждается в «личине», в то время как поведение интеллектуала, порожденного городской цивилизацией, в восприятии тех, кто этой цивилизации до определенного момента не был причастен, оставалось маркированным[379]379
О маркированности поведенческих репрезентаций с точки зрения внешнего наблюдателя см.: Лотман Ю.М. Бытовое поведение и типология культуры в России XVIII века. С. 293–294.
[Закрыть], потому воспринималось как утрированно раскованное и утрированно артистичное[380]380
Ср. с пассажем в одной из шукшинских статей: «У меня было время и была возможность видеть красивые здания, нарядные гостиные, воспитанных, очень культурных людей, которые непринужденно, легко входят в эти гостиные, сидят, болтают, курят, пьют кофе… Я всегда смотрел и думал: “Ну вот это, что ли, и есть та самая жизнь – так надо жить?” Но что-то противилось во мне этой красоте и этой непринужденности: пожалуй, я чувствовал, что это не непринужденность, а демонстрация непринужденности, свободы – это уже тоже, по-своему, несвобода. В доме деда была непринужденность, была свобода полная» (Шукшин В.М. Признание в любви (Слово о «малой родине»). Т. 8. С. 53).
[Закрыть]. Столь же искусственным и тоже маркированным виделось «деревенщикам» поведение вчерашнего деревенского жителя, а сегодня мещанина, чье овладение культурой было формальным, ориентированным на «маленькие нормы»[381]381
Шукшин В.М. Возражения по существу. Т. 8. С. 57.
[Закрыть]. «Культурность», призванная прежде всего посылать окружающим сигнал об изменившемся социальном статусе ее носителя, оценивалась «деревенщиками» иронически, а то и саркастически. Шукшин обращался к читателю:
Это вранье, если нахватался человек «разных слов», научился недовольно морщить лоб на выставках, целовать ручки женщинам, купил шляпу, галстук, пижаму, съездил пару раз за рубеж – и уже интеллигент. Про таких в деревне говорят: «С бору по сосенке». Не смотри, где он работает и сколько у него дипломов, смотри, что он делает[382]382
Шукшин В.М. Монолог на лестнице. С. 27.
[Закрыть].
Сами же «деревенщики» склонялись к противоположной стратегии самопрезентации – поведению «естественному», основанному на игнорировании условностей этикета, прямоте, спонтанности реакций, «искренности» (то есть к акцентированию не «культивированного», а «природного»). Такое поведение, как не раз отмечалось, было попыткой достичь независимости от власти чужих правил. Выбор в пользу «естественного» поведения мотивировался следованием «натуре» и нежеланием осваивать «вторичный» пласт культуры – «поверхностную» цивилизованность, нашедшую выражение в тех элементах светскости и свободы специфически интеллектуалистской самопрезентации, которой таланты из провинции противопоставляли молчаливую серьезность, пусть иногда граничащую с тяжеловесной неуклюжестью, но таящую глубину и незаемный жизненный опыт. Описывая участие в 1959 году в литературном семинаре, Астафьев по этому признаку разводил писателей из провинции и «высоколобую» московскую творческую среду:
Я был на этом семинаре и убедился воочию, что молодые «культурные» москвичи, имеющие под боком первоклассные библиотеки, академиков, маститых писателей и т. п., ничего за душой не имеют, кроме цинизма, пошленьких анекдотцев, литературных сплетен и беспрецедентного апломба. Они и научились-то только тому, чтобы плюнуть в руку, которая дает им хлеб. Рабочий для них – быдло с жерновами вместо мозгов. <…> Ведь не они дали рассказы-то на-гора во время работы семинара, а все те же периферийщики, умеющие работать и не говорить красиво, не удивлять блестящими верхушками, нахватанными повсюду[383]383
Астафьев В.П. Нет мне ответа… С. 31–32.
[Закрыть].
Соединив оппонентов с «цивилизованностью» («блестящими верхушками, нахватанными отовсюду»), маркировавшей чужой социально и культурно язык, посчитав ее искусственной и избыточной, для себя «деревенщики» избрали, как подразумевалось, более тяжелый, требующий серьезных внутренних усилий путь – путь внутреннего, глубинного приобщения к культуре, самолегитимацию через «культуру», минуя «культурность», иначе говоря, путь превращения в «подлинного интеллигента».
Впечатлившие «деревенщиков» интеллигентские стратегии публичной самопрезентации с эффектом не акцентируемой, но всеми ощутимой значительности (тогда говорят о «масштабе», «величине» личности) были стратегиями мягкого контроля над «объективирующим взглядом других»[384]384
Bourdieu P. Op. cit. S. 259.
[Закрыть]. Интеллигентские естественность и органичность в сочетании с образованностью и культурной утонченностью, так же как крестьянские органичность и естественность в сочетании с душевной деликатностью, давали в сумме «внутреннюю культуру». Судя по высокой частотности использования этого понятия в публицистике и письмах «деревенщиков», оно стало для них одним из наиболее эффективных способов культурной самолегитимации. Астафьев доказывал:
…чем выше уровень эстетический у человека, чем богаче его внутренняя культура… тем он сдержанней, уважительней и человечней в своих замечаниях[385]385
Астафьев В.П. Указ. соч. С. 481.
[Закрыть];Дело ведь не в классах, а в самообразовании, в прирожденной внутренней культуре, которая порой бывает тоньше, поэтичней, чем у людей с «поплавком» на борту пиджака[386]386
Там же. С. 108. Ср. замечания о В. Шукшине Г. Буркова и В. Астафьева: он был «глубинно образованным человеком, по-настоящему знал литературу, историю» (Бурков Г. Указ. соч. С. 264); «европейски образованный, тонкий, умный, глубоко интеллигентный», «воплощение русской интеллигентности» (цит. по: Каминский П. В.М. Шукшин в публицистике С. Залыгина, В. Распутина и В. Астафьева. С. 112).
[Закрыть].
Как можно понять, то имплицитное, то эксплицируемое Астафьевым противопоставление «внутренней культуры» симуляции этого качества при помощи академических знаков отличия (диплом, «поплавок») в приведенных фрагментах возникает неслучайно. Авторские суждения полемически заострены против тех, кто был источником социального и культурного унижения и боли от его неизжитых последствий. Уязвленность культурной «неполноценностью», пережитая некогда «деревенщиками», оказалась тем более сильной, оттого что вошла в резонанс с инкорпорированным в крестьянина чувством «отсталости» и желанием от него избавиться. «Внутренняя культура», о которой вел речь Астафьев, была идеальным вариантом мягкой трансформации габитуса путем глубокой, последовательной, нетравматичной интернализации культурных норм. Именно это понятие, обладавшее выраженным терапевтическим смыслом, позволяло «деревенщикам» согласовывать две идентификационные модели (народно-крестьянскую и интеллигентскую) и самоопределяться в поле культуры, занимая позицию антиинтеллектуалистскую и антицивилизаторскую, но требующую «внутренней» приобщенности к культуре, дающую возможность почувствовать себя «интеллигентом духа»[387]387
Шукшин В.М. Монолог на лестнице. С. 27.
[Закрыть].
Культура и культурность: Производители и потребители
«Обличая мещанство»: «деревенщики» как интеллигенция
В основе провозглашаемых «деревенщиками» намерений пробуждать в читателях «чувства добрые», усмирять разрушительные инстинкты лежало признание педагогической функции культуры, точнее Культуры – «образовывающей» и «образующей» человека. Отсюда же исходило стремление писателей ценностно ранжировать режимы приобщения к ней, отделять подлинное «вживание» от имитации. Так возникла упоминавшаяся в предыдущих разделах типология социальных персонажей, дифференцированных по степени интернализации культуры, – интеллектуал, мещанин, интеллигент, «человек из народа». Реанимация «неопочвенниками» череды этих узнаваемых фигур во многом есть следствие «картографирования» реальности через призму конфликта культуры и цивилизации, который их интеллектуальным предшественникам в XIX и начале ХХ века казался надежным аналитическим инструментом и в таковом качестве продолжал использоваться в «долгие 1970-е»[388]388
См. об этом: Вихавайнен Т. Внутренний враг: борьба с мещанством как моральная миссия русской интеллигенции. СПб., 2004.
[Закрыть]. По сути, «неопочвенники» с небольшими вариациями воспроизвели давно знакомую идеологическую конфигурацию, в которой два первых персонажа объединялись причастностью к городской культуре и отсутствием «оригинальности», «подлинности», но разводились как «высокий» и «низкий» варианты современного урбанизированного человека. Стойкое неприятие интеллектуалов сплачивало «деревенщиков» как представителей «почвы», а конфликт с мещанством помогал осознать себя интеллигентами, причастными настоящей, не суррогатной культуре.
В «долгие 1970-е» критичное отношение к мещанству, урбанизирующимся выходцам из рабоче-крестьянской среды не было прерогативой «неопочвенников», но объединяло практически все группы отечественной интеллигенции, которая всегда перед лицом этой разновидности Другого консолидировалась весьма успешно[389]389
«Удивительную взаимосогласованность» казалось бы непримиримых позиций русской интеллигенции конца XIX века в отношении к «мещанину» отмечал Патрик Серио: «…общим врагом русской интеллигенции безусловно был “мещанин” как воплощение иностранного, то есть европейского, начала. Тем самым отказ от “буржуазных” ценностей был “общим местом”, объединявшим в России последней трети XIX века различные группы интеллигенции… <…> Философы всех ориентаций, писатели, ученые, художники – все они объединялись в острой ненависти к культурным и социальным последствиям капиталистической индустриализации…» (Серио П. Структура и целостность: Об интеллектуальных истоках структурализма в центральной и восточной Европе. 1920 – 30-е гг. М., 2001. С. 100–101).
[Закрыть]. Мещанин в позднесоветский период в официальном идеологическом дискурсе трактовался как балласт, отягчающий движение социалистического общества в будущее, носитель социального эгоизма, самим фактом существования тормозящий решение «архитрудной задачи воспитания нового человека»[390]390
Кузнецов Ф. А был ли мальчик? //Литературная газета. 1968. № 3. С. 12.
[Закрыть]. Подводя итоги дискуссии о мещанстве, прошедшей в 1967 году на страницах «Литературной газеты», Феликс Кузнецов указывал на ошибки Леонида Жуховицкого и Юрия Сотника, усомнившихся в наличии мещанства в СССР, и демонстрировал образец «диалектичного» подхода к данной проблеме:
…[проблема] преодолени[я] мелкобуржуазной, мещанской психологии и нравственности не решается лишь в сфере сознания и так быстро, как нам хотелось бы. Она будет решена, в конечном счете, упорным трудом народа, развивающего производительные силы общества и в этом труде, созидании преобразующего себя[391]391
Кузнецов Ф. А был ли мальчик? // Литературная газета. 1968. № 3. С. 12.
[Закрыть].
Интеллектуалов либерального толка мещанин оскорблял ограниченностью интересов, вкусовой эклектикой и потребительским настроем[392]392
Ср.: «Эпоха НТР породила новый тип массового человека, уже не связанного принадлежностью к определенным профессиональным или социальным группировкам… Я имею в виду Массового Сытого Невоспитанного Человека…» (Стругацкий А. Новые человеческие типы // Вопросы литературы. 1976. № 11. С. 16).
[Закрыть], а вот критика мещанства национально-консервативными группами методично претворяла контрмодернизационные реакции в культурно-идеологическую программу. В знаменитой статье М. Лобанов ядовито рассуждал об уродливом явлении – «просвещенном мещанстве» (консервативная версия «человека массы»), вызванном к жизни процессами модернизации, и доказывал, что оно возникает в результате разрыва с «первоисточником культуры» – «народной почвой». В контексте размышлений Лобанова возникало имя Александра Герцена, чьи обличительные тирады в адрес европейского мещанства и «буржуазности» были близки позднесоветским консерваторам. Варьируя идеи Герцена и объясняя современные реалии в духе романтической риторики «органичности», критик заявлял: «Нет более лютого врага для народа, чем искус буржуазного благополучия. Это равносильно параличу для творческого гения народа»[393]393
Лобанов М. Просвещенное мещанство // За алтари и очаги. М., 1989. С. 46.
[Закрыть]. Виктор Чалмаев, также комбинируя «организмическую» и «механистическую» метафорику, диагностировал пугающий процесс «выветривания почвы» – освобождение составляющих ее песчинок от связи с целым и возникновение «толпы»:
Толпа – <…> свидетельство распада народа на механическое, связанное чисто материальными нуждами, арифметическое множество. <…> в ней происходит понижение психического типа личности, человеку внушается утилитарная мысль, что лучше быть сытой свиньей, чем недовольным, изнемогающим от гуманистических тревог и сомнений Сократом[394]394
Чалмаев В. Неизбежность // Молодая гвардия. 1968. № 9. С. 272.
[Закрыть].
В статье о Максиме Горьком Чалмаев в самых мрачных тонах рисовал натиск в начале ХХ века на Россию «одноклеточных хищников»[395]395
Чалмаев В. Великие искания // Молодая гвардия. 1968. № 3. С. 279.
[Закрыть], «буржуазного чудовища материализма»[396]396
Чалмаев В. Великие искания. С. 274.
[Закрыть] и перелагал на язык позднесоветского национал-консерватизма идею «антибуржуазной» сущности русского народа: Россия – «омут» в «мелководной» Европе[397]397
Там же. С. 283.
[Закрыть], а потому «русский народ не мог так легко и безболезненно, как это произошло на Западе, обменять свои былые святыни на чековые книжки…»[398]398
Там же. С. 274.
[Закрыть] Старательное отождествление критиком модернизационного и европейского, утверждение национальной самобытности в акте отказа от «иностранного»[399]399
По признанию одного из модераторов националистического движения С. Семанова, антизападничество многих членов «Русского клуба» было настолько идеологически выраженным, что уравновешивало их антисоветизм: «Мы все были горячими патриотами, горой стояли за Советскую власть… ну, с патриотическими поправками, конечно… Запад и вообще всю буржуазную сущность и культуру мы нескрываемо презирали, а ведь именно там был официально! – главный враг страны» (Семанов С.Н. Русский клуб // Москва. 1997. № 3. С. 180). Любопытно, что «деревенщики» оказались менее склонны к гибридизации «советского патриотизма» и антизападничества, для них была более характерна комбинация скрытого, «ползучего» антисоветизма и явного антизападничества (превращение В. Распутина и В. Белова в защитников «советской цивилизации» в 1990-е годы стало реакцией на «геополитическую катастрофу» распада СССР и последующие социально-экономические изменения).
[Закрыть], как говорилось, были далеко не новы: Лобанов, Чалмаев, Кожинов, позднее Селезнев следовали в этом за русскими интеллектуалами последней трети XIX века (прежде всего Константином Леонтьевым и Николаем Данилевским), представителями «скифства», «евразийцами», тревожившимися по поводу «обуржуазивания» русской жизни и народа[400]400
См.: Серио П. Указ. соч. С. 101–102.
[Закрыть]. «Деревенщики» разделяли давнюю неприязнь русской интеллигенции к мещанству. Внимание к проблемам культуры и ее «цивилизационному» аспекту – «культурности», усиленное обстоятельствами их собственной социальной биографии, продолжало традицию русской консервативной мысли рубежа XIX – ХХ веков, с той существенной разницей, что критика мещанства, его вульгарных вкусов и примитивных ценностей на этот раз исходила от маргинализированных представителей крестьянства.
В прозе «деревенщиков» проблематика мещанства и «культурности» более или менее последовательно тематизирована. Власть мещанских вкусов и представлений для многих из них – фактор, всецело определявший социокультурную специфику современности. «Эпоха великого наступления мещан, – писал Шукшин. – И в первых рядах этой страшной армии – женщины. Это грустно, но так»[401]401
Шукшин В.М. Рабочие записи. Т. 8. С. 284. Женская эмансипированность – источник сюжетного конфликта в некоторых произведениях писателя (например, «Чудик», «Жена мужа в Париж провожала…»). В «Тяжести креста» Белов вспоминает об ироничном отношении традиционалиста Шукшина к проявлениям феминизма: «Говорили в тот день и о требовании ленинградских коммунистов изменить Устав партии. Откуда-то Макарыч расчухал, что ленинградцы требуют ограничить прием в партию женщин. Мы оба выражали ленинградцам тайную солидарность. Шукшин вообще относился к женщинам здраво, то есть где всерьез, а где с юмором. Высмеивал моду, стремление женщин подражать мужикам в одежде и в физической силе, страдал от “бабьих” потуг обходиться без мужей в обеспечении семьи. Уже тогда шла психологическая атака на традиционные семейные ценности» (Белов В. Тяжесть креста. С. 43–44). См. также писательские размышления о женской стыдливости в связи с фильмом Ю. Райзмана «Странная женщина» (Белов В. Без стыда… // Вологодский комсомолец. 1978. 8 декабря. С. 4). Интересно, что у прозаика вызвала недоумение сама потребность редакции молодежной газеты и ее читателей обсуждать «простой и ясный вопрос» (там же) об адюльтере, а по сути, праве женщины на романтическое чувство, самостоятельный выбор его объекта.
[Закрыть]. Новая гендерная специфика, которую, наблюдая за современной женщиной, то надрывно, то иронично описывали «деревенщики», соединяла наивно-агрессивный феминизм (например, «Воспитание по доктору Споку» (1974) В. Белова) с мещанской зацикленностью на престиже и моде. То и другое были новейшими городскими веяниями, дезориентировавшими героинь, которые, полагал Белов, выбирая роль современной женщины, а не хранительницы домашнего очага[402]402
См. психоаналитическую трактовку женоненавистничества героя цикла «Воспитание по доктору Споку» Кости Зорина: Большев А.О. Исповедально-автобиографическое начало в русской прозе второй половины ХХ века. СПб., 2002. С. 114–119.
[Закрыть], уходят от своей социальной, культурной и биологической сущности. В повести «Моя жизнь» (1974) перемещение героини, Тани, в город из пространства традиции – деревни, где она находилась в эвакуации с матерью и братом, подано автором как бессознательная утрата ею моральных ориентиров с неизбежным последующим превращением в незадачливую и вместе с тем хваткую мещанку[403]403
См.: Сурганов Вс. Константин Зорин – его беда, любовь, загадка // Литературное обозрение. 1977. № 10. С. 54.
[Закрыть], стремящуюся любыми путями наладить «личную жизнь»[404]404
Гендерная модель «новой горожанки» была популярна и в кинематографе 1970-х – начала 1980-х годов («Сладкая женщина», 1976, «Родня», 1981), где иногда переводилась в комедийную тональность.
[Закрыть]. Мещанство, по мысли «деревенщиков», прирастает за счет покинувших деревню бывших сельских жителей, чье обращение в горожан часто сводится к разучиванию элементарных правил поведения в новом пространстве. Шукшин типовой вариант адаптации деревенского жителя к городской жизни описывал таким образом:
Деревенский парень, он не простой человек, но очень доверчивый. Кроме того, у него «закваска» крестьянина: если он поверит, что главное в городе – удобное жилье, сравнительно легче прокормить семью (силы и сметки ему не занимать), есть где купить, есть что купить – если только так он поймет город, он в этом смысле обставит любого горожанина. Тогда, если он зажмет рубль в свой крестьянский кулак, – рубль этот невозможно будет отнять ни за какие «развлечения» города. Смолоду еще походит в кино, раза три побывает в театре, потом – ша! Купит телевизор и будет смотреть. И будет писать в деревню: «Живем хорошо. Купил недавно сервант. Скоро сломают тещу, она получает секцию. Наша секция да ее секция – мы их обменяем на одну секцию, и будет у нас три комнаты. Приезжайте!»[405]405
Шукшин В.М. Монолог на лестнице. С. 26.
[Закрыть]
Писатель не скрывал иронии по поводу потребительской ориентации новых горожан и их способности довольствоваться суррогатами культуры, хотя от морализаторства по поводу массового исхода деревенских жителей в город удерживался, видимо, осознавая, что такого рода упреки будут мгновенно обращены против него самого. Весной 1966 года на обсуждении с молодыми физиками в Обнинске фильма «Ваш сын и брат» (1965) Шукшину задали глубоко его задевший вопрос: «А сами вы хотели бы сейчас пройтись за плугом?»[406]406
Там же. С. 22.
[Закрыть]. Впоследствии Шукшин специально оговаривал отсутствие у него каких бы то ни было предубеждений по поводу возможности покинуть деревню: «Я люблю деревню, но считаю, что можно уйти из деревни. И Ломоносов ушел из деревни, и русский народ от этого не потерял, но вопрос: куда прийти?»[407]407
Там же. С. 46.
[Закрыть]. Показательно, что «возвращение на родину» встроившегося в городскую жизнь бывшего колхозника – мотив, который критика считала опознавательным знаком «деревенской прозы»[408]408
Д. Быков безапелляционно связывает мотив возвращения в родную деревню с «деревенской прозой», оговариваясь, что имеет в виду стандартный рассказ в журнале «неопочвеннического» направления: «В родную деревню приезжает городской житель. Он выбился там в начальники чего-то. Жена его – обязательно крашеная блондинка с сантиметровым слоем косметики. Дома его ждет сгорбленная маманя, а то и ветеран папаня, нацепляющий по случаю приезда отпрыска все медали. Сдвигают столы, режут сало (выполняющее функцию библейского тельца), и вечером менее удачливые одноклассники нашего героя, сплошь почему-то механизаторы или “шофера”, сходятся повспоминать да подивиться обновам, которых начальничек навез родне. <…> Я как сейчас вижу этот кадр, кочевавший из одной сельской картины в другую: пригорюнились, опершись на натруженные руки, неотличимые старушки – и поплыла над столом тихая, простая песня на музыку Евгения Птичкина <…> Утром, страдая от похмельной тоски, начальничек выходит босыми ногами на росную траву. На крыльце уже смолит самосад рано просыпающийся батя. “Подвинься, батя”, – угрюмо говорит отпрыск. Батя подвигается, отпрыск выбрасывает бездуховную пегасину и просит у старика самосаду. Старик охотно делится. Петуховы (почему-то обязательно Петуховы), старший и младший, неуловимо схожие статью и ухваткой, молча дымят. Финал открытый – но у читателя, зрителя и любого другого потребителя не остается сомнений в том, что сынок-начальник забросит свой пробензиненный, заасфальтированный город, кинет и продавщицу – и переедет к истоку» (Быков Д. Указ. соч.). Показательно, что Быков структурообразующий мотив «телегий» описывает в отсылке к его визуализированным образчикам и эпигонским текстам (примечательно отсутствие авторских имен и заглавий). Если не вникать в критерии, которыми пользуется критик, причисляя кого-то к «деревенской» школе или исключая из нее, стоит заметить, что описанная им вариация мотива возвращения почти ни у кого из крупных авторов-«деревенщиков» не встречается. Напротив, они обычно изображают химеричность надежд на спасительный для личности и для деревенской «малой родины» возврат (ср. «Мамониху» Ф. Абрамова, «За тремя волоками» В. Белова). Исключением является, пожалуй, роман «Мать-мачеха» В. Солоухина, где поддавшийся соблазнам городской жизни герой Митя Золушкин в финале слышит «зов» родной земли и спешит «припасть к истокам».
[Закрыть], – у Шукшина иногда разворачивается в пространстве сна, мечты, как в рассказах «Два письма» (1967), «Жена мужа в Париж провожала…» (1971), или превращается в ритуал, не имеющий последствий («Выбираю деревню на жительство», 1973), то есть оборачивается «невозвращением». Еще более драматичный вариант возвращения «к истокам» был разыгран Шукшиным в «Калине красной», где, перенесенное в реальность, оно завершилось трагедией, подтвердившей невозможность возврата.
В отличие от Шукшина, В. Астафьев не заботился о лояльности в оценке миграции из деревни в город. В «Зрячем посохе» (1978–1982, опубл. 1988) массовый исход вчерашних крестьян он интерпретировал как поворотный исторический пункт: это – отрыв от земли, «корней», за которым стоит переориентация человечества с «подлинного» на «искусственное», утрата индивидуальности и всеобщая унификация. Вероятно, психологической подоплекой подобных оценок был инстинктивный страх перед тем, что Зигмунт Бауман называет «текучей современностью»[409]409
См.: Бауман З. Текучая современность. СПб., 2008. С. 14.
[Закрыть] – отсутствием сложившихся паттернов и порядков, регулировавших человеческое поведение, неясностью ценностных норм и ориентиров. При этом Астафьев переворачивает прогрессистские концепции и утверждает, что внутри «несовершенного» социального порядка деревни были все потенции для развития личности, ныне ставшей лозунгом движения по пути прогресса. Старая крестьянская жизнь, с точки зрения писателя, и была «царством свободы», неведомой современному цивилизованному человеку:
…крестьянин был всегда занят, всегда в заботах и работах, это потом, не сами крестьяне, а те, кто «радеть» будет за них и «освобождать» их, назовут жизнь крестьянина кабалой и освободят от кабалы…
Так вот что же это мы, вчерашние крестьяне, освободившиеся от «кабалы», вдруг затосковали о прошлом, запели, заныли, заголосили о родном уголке, о сельском мире. Мы ж свободны! Достали справочки и мотанули из села, от коллективного труда, дали взятку местным властям за убег в город, не вернулись из армии иль из заключения в отчий дом, словом, правдами, чаще неправдами сменившие одно крепостное право на другое, на все сжигающую и пожирающую кабалу прогресса после деревенского «рая», кажущегося пределом сбывшихся мечтаний и надежд. <…> Правда, «свободу» эту мы не знаем куда девать, оказались неподготовленными к ней и ударились в разгул, в пьянство, ухватились за то, что близко лежит и без труда дается – жуем солому (так бы я назвал массовую культуру), да еще и облизываемся[410]410
Астафьев В.П. Зрячий посох. С. 133.
[Закрыть].
Писатель использует местоимение «мы», как бы причисляя себя к этой новообразованной общности вчерашних деревенских жителей, но скорее «мы» включает лишь отторгаемую часть собственного «я» и отождествляется с теми социально-культурными явлениями, оправдать которые он не согласен. Бескомпромиссность неприятия «человека массы» в публицистике Астафьева порой удивительна. Безликость, «усредненность» мещанина для него есть следствие культурной маргинальности, получавшей в данном контексте исключительно негативные коннотации. В принципе, маргиналами были и сами «деревенщики», балансировавшие на грани двух миров (крестьянского и городского), но стремившиеся минимизировать отрицательные эффекты своего положения желанием «не оторваться от народа» (то есть сохранить тесную связь с культурой деревни) и одновременно войти в культуру, исторически генерируемую городом. Однако применительно к «межедомку» – мещанину маргинальность трактовалась не как включенность в обе традиции, а как исключенность из обеих. «Культурность», которой жаждал мещанин, обличалась Астафьевым иногда в почти невротической тональности, хлестко, памфлетно, но слабо мотивированно.