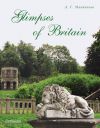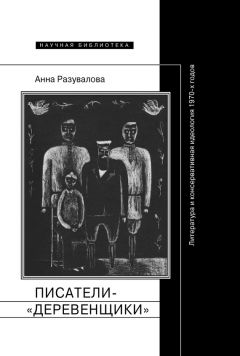
Автор книги: Анна Разувалова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Чем чувствительнее были неудачи в приспособлении к новой среде, тем сильнее становились тактики самозащиты, вырабатываемые отверженными. Применительно к «деревенщикам» уместно говорить по преимуществу о тактике, связанной с сознательным самоупрощением, как бы о принятии чужого иронично-снижающего взгляда на себя. В итоге происходило что-то вроде разыгрывания спектакля в рамках культурной формы, закрепленной за «человеком из народа», исполнение роли «простака». К предвосхищающему насмешки «опрощению» прибегал Ф. Абрамов, который, по свидетельству Моисея Кагана, среди «ленинградских “аборигенов”, выросших в интеллигентных семьях, говоривших на иностранных языках, знавших собрания Эрмитажа и Русского музея, завсегдатаев театров и филармонических концертов» «комплексовал» и «старался скрыть это, нарочито усиливая свои социальные приметы…»[301]301
Каган М. На войне и после // Воспоминания о Федоре Абрамове. С. 75.
[Закрыть]. Психологически в основе защитной тактики лежало «самоуничижение паче гордости», демонстративное, маскирующее амбиции снижение притязаний. Эту лукаво-артистическую природу самопредставления Абрамова чувствовали многие общавшиеся с ним:
Федор Александрович любил изображать простака, прикидываться деревенщиной: мы, дескать, мужики, наше дело за плугом ходить, мы этих тонкостей ваших не понимаем…[302]302
Левитан Л.С. Указ. соч. С. 80. Стоит обратить внимание на риторику разделения, консервирующую антагонизм (мы – вы, «нам вас не понять», и наоборот).
[Закрыть];Абрамов был человек непростой, не каждое его слово стоило принимать за чистую монету. Жила в нем этакая крестьянская лукавинка <…> Он не прочь был прикинуться простачком, любил прибедняться[303]303
Оклянский Ю. Шумное захолустье: В 2 кн. М., 1997. Кн. 2: Веркольский народник. С. 6.
[Закрыть].
В применении подобной тактики признавался и Шукшин:
…я должен был узнавать то, что знают все и что я пропустил в жизни. И вот до поры до времени я стал таить, что ли, набранную силу. И, как ни странно, каким-то искривленным и неожиданным образом я подогревал в людях уверенность, что – правильно, это вы должны заниматься искусством, а не я. Но я знал, вперед знал, что подкараулю в жизни момент, когда… Ну, окажусь более состоятельным, а они со своими бесконечными заявлениями об искусстве окажутся несостоятельными. Все время я хоронил в себе от посторонних глаз неизвестного человека, какого-то тайного бойца, нерасшифрованного[304]304
Шукшин В.М. Последние разговоры. С. 191. Об умении Шукшина «маскироваться» и сознательно вводить в заблуждение критику и читательскую аудиторию вспоминал В. Астафьев: «Василий Макарович только представлял себя мужичком-морячком в кирзовых сапогах. Этим он потрафлял официозным бонзам от культуры, благосклонно подававшим в приветствии два пальца талантам “из глубинки”. Дескать, есть у вас потребность, так умиляйтесь на меня: немытого, нечесаного, малограмотного» (цит. по: Каминский П. В.М. Шукшин в публицистике С. Залыгина, В. Распутина и В. Астафьева // Творчество В.М. Шукшина в межнациональном культурном пространстве: Материалы VIII Всерос. юбилейной научной конференции. Барнаул, 2009. С. 112).
[Закрыть].
Игровую самопримитивизацию, к которой прибегал Шукшин, особенно на ранних этапах карьеры и прежде всего в отношении тех, кто мог повлиять на его профессиональное будущее, он трактовал как форму выживания во враждебном окружении. По словам оператора шукшинских фильмов Анатолия Заболоцкого, тот делился с ним грустным опытом мимикрии и рассказывал, как, будучи студентом Михаила Ромма во ВГИКе, числился на курсе посмешищем, «подыгрывал, прилаживался существовать»[305]305
Заболоцкий А. Указ. соч. С. 92.
[Закрыть] – иначе говоря, заключал себя в границах чужого восприятия собственной личности. В целом же, сокрытие своего Я, не равного расхожим представлениям о «деревенщине», попавшем в «приличное общество», было ни чем иным, как трансформацией типичных для крестьянской среды практик избегания, ускользания от власти чужих культурных норм и контроля за их исполнением со стороны высокогабитусных групп. Хорошо знавшая Шукшина Ренита Григорьева полагала, что писатель, «шифруясь», одно время сознательно использовал маску «простака»:
Он был такой хитроватый в этом смысле человек и всегда любил ввести вас в заблуждение, любил, что называется, попридуриваться. Говорил, например: «Камю? А это кто такой?» Хотя знал, разумеется, прекрасно[306]306
Цит. по: Куляпин А.И. Творчество В.М. Шукшина: От мимезиса к симеозису. Барнаул, 2005. С. 5.
[Закрыть].
Сомнительно, чтобы Шукшин в самом деле ничего не слышал об А. Камю и не читал его текстов[307]307
Дж. Гивенс настаивает на том, что «неутомимый читатель» Шукшин «не мог обойти вниманием литературу экзистенциалистов», и обращает внимание на упоминание в рассказе «Медик Володя» имени А. Камю (Гивенс Дж. Особенности реализации экзистенциалистских идей в прозе В. Шукшина // В.М. Шукшин – философ, историк, художник. Барнаул, 1992. Вып. III. С. 14; о преломлении экзистенциалистских идей в прозе Шукшина см. также: Творчество В.М. Шукшина: Энциклопедический словарь-справочник. Т. 2. Барнаул, 2006. С. 239; о воздействии творчества французских экзистенциалистов на интеллигентское сознание в СССР 1960-х годов: Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека // Вайль П., Генис А. Собр. соч.: В 2 т. Екатеринбург, 2003. Т. 1. С. 809–810).
[Закрыть]. Столичная кинематографическая элита, с которой он оказался связанным еще со ВГИКа и в которой продолжал вращаться, работая как режиссер и актер, была средой, во многом диктовавшей интеллектуальную моду, так что имя французского писателя – одного из властителей дум интеллигенции 1960-х было не просто известно в ней, но служило своего рода культурным паролем, позволявшим установить близость интеллектуально-эстетических вкусов и тем самым очертить круг «своих». Отрицая свое знакомство с прозой Альбера Камю, Шукшин, видимо, преследовал прямо противоположную цель. Недоуменно интересуясь, кто такой Камю, он обеспечивал коммуникативный сбой в общении со всезнающими собеседниками, эпатировав их «незнанием» символически значимого имени, нарочито выводил себя за пределы общности интеллектуалов, живо обсуждавших экзистенциализм. Целью демонстрируемой непричастности к данному кругу было, если уж не освобождение от его норм и культурных авторитетов, то хотя бы ослабление их диктата. В публично продекларированном Шукшиным незнании Камю можно усмотреть и работу защитного механизма вытеснения, ведь «не зная», «не читая» французского прозаика, он вроде бы ничего не знает и об основном концепте его прозы – отчуждении. Но именно социальный (и экзистенциальный[308]308
См.: Гивенс Дж. Указ. соч. С. 11–35.
[Закрыть]) опыт отчуждения (конечно, с учетом того факта, что Камю и Шукшин осмысливают разные фазы и аспекты этого явления, с разных позиций, и пользуются разными культурными языками) в значительной степени определил ситуацию существования Шукшина в городе, специфику его самоидентификации, образ героя-маргинала в шукшинских книгах и фильмах. Кстати, вынужденное разыгрывание Шукшиным для публики роли «деревенщины-простака» чередовалось с периодами явного нежелания использовать эту маску. Припоминаемые мемуаристами шукшинские замкнутость и отстраненность, в которых находило выход внутреннее напряжение, окружающим часто казались невоспитанностью, бестактностью. Белла Ахмадулина рассказывала, как «мрачнел и дичился» Шукшин, когда в первую его московскую бездомную зиму они приходили в гости к ее знакомым: он «не отвечал на любезности, держал в лице неприступно загнанное выражение…»[309]309
Ахмадулина Б. Не забыть // О Шукшине. Экран и жизнь. М., 1979. С. 331.
[Закрыть] Как и в случае с мнимым незнанием Камю, угрюмостью и презрением к нормам светского разговора Шукшин минимализировал либо обрывал процесс общения в чужой для него среде.
Этика конфронтации: дистанцирование как основа самоидентификационных процессов
Ретроспективно воссоздавая ситуацию существования Шукшина во ВГИКе среди представителей советской «золотой молодежи», В. Белов уверял: «отчуждение было полным, опасным, непредсказуемым»[310]310
Белов В. Тяжесть креста. С. 11.
[Закрыть]. На эмоциональном уровне как «отчуждение» представители подчиненных групп переживали социальную дистанцию, отделявшую их от привилегированной группы. Ответственность за ее выстраивание и поддержание Белов в случае с Шукшиным всецело возлагал на кинематографическую элиту, еще со времен ВГИКа стремившуюся, по версии автора, с помощью интриг и навешивания оскорбительных ярлыков нейтрализовать амбиции опасного конкурента из «плебейской» среды. Однако, утверждают социологи, развивая идеи Бурдье: «отношение к другому есть по сути коммуникация габитуса с габитусом, связь скорее практическая, чем интеллектуально воспроизводимая. Именно из этой связи вырастает солидарность, оформляющая социальные группы»[311]311
Шматко Н.А. «Габитус» в структуре социологической теории // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1. № 2. С. 70.
[Закрыть]. Исходя из этой логики, дистанция будущим «деревенщикам» была нужна не меньше, чем элите, отличавшей себя таким образом от групп, не обладавших достаточным культурным капиталом. Дистанция стимулировала процессы достраивания образа негативного Другого, оправдывала конфронтацию с ним и, собственно, создавала сообщество в его не всегда четких, но уловимых очертаниях. Символическое самовоспроизводство притязавших на элитарность групп требовало культурно отсталого Другого – консервативного, шарахающегося от «новаторских поисков», следующего косным «дедовским заветам». Наоборот, группы традиционалистского толка успешно эксплуатировали образ оторванного от национальных «корней», предприимчивого и самовлюбленного чужака. «Все знали о Бахтине, все говорили о его теории, – пишет Мариэтта Чудакова о коммуникативном тупике 1970-х. – К диалогу (курсив автора. – А.Р.) между двумя умственными движениями никто почти не был способен. Копилось только взаимное неприятие, близящееся к ненависти»[312]312
Чудакова М.О. Пора меж оттепелью и застоем (Ранние семидесятые) // Семидесятые как предмет истории русской культуры. М., 1998. Вып. 1. С. 99.
[Закрыть]. Конечно, картина литературного процесса «долгих 1970-х» даст немало примеров не только конфронтации, но сотрудничества и неожиданных культурно-идеологических альянсов, тем не менее, межгрупповое противостояние со временем только усугублялось[313]313
Ср., например: Самойлов Д. Перебирая наши даты. М., 2000. С. 439, 461.
[Закрыть], чтоб достичь пика в полемике времен перестройки и начала 1990-х годов.
Потребность в противостоянии, готовность к азартной игре «на чужом поле» с целью взять реванш за былые унижения задавались крестьянским габитусом и были важнейшими элементами социальной идентичности писателя – выходца из народа. Изобретенное или реально существовавшее противостояние позволяло аккумулировать ресурсы для изменения баланса сил в свою пользу, использовать фору, которую давало бывшим крестьянам умение ограничивать себя и сосредоточенно работать в ситуации предельного напряжения. Юрий Григорьев вспоминал: как-то раз в приятельском кругу Шукшин заявил, что всех обойдет (дело было в 1962 году, после триумфа «Иванова детства»), а на ответную реплику Тарковского («Мы посторонимся, пожалуйста, проходи»), возразил: «Нет… вы сопротивляйтесь. Я не люблю, когда мне зажигают зеленый свет»[314]314
См.: Гордон А.В. Указ. соч. С. 236. А. Саранцев, знавший Шукшина в студенчестве, утверждает, что конфликт с «элитой» «обнаружился у Шукшина очень рано, вероятно, еще и до ВГИКа. <…> Вне этого конфликта нет Шукшина. Писателя. Режиссера. Актера» (Саранцев А. Указ. соч. С. 30). Ср. также: Золотусский И. «Совесть, совесть, совесть…» // Статьи и воспоминания о Василии Шукшине. Новосибирск, 1989. С. 63–68.
[Закрыть]. Не менее выразительно признание самого Шукшина о претворении колоссального внутреннего напряжения, защитно-мобилизационного по функции, в телесные реакции. Он говорил писателю Юрию Скопу:
Я ведь… еще ни разу не позволил себе расслабиться. <…> Всю дорогу в натуре. В напряге. На нерве, как этот… Оттого и не сшибли, не смяли, не растерли покуда. <…> веришь-нет… сплю со сжатыми кулаками…[315]315
Скоп Ю. Конспекты по собственной истории // Статьи и воспоминания о Василии Шукшине. С. 284.
[Закрыть]
На элиту «деревенщики» переносили негативные определения переживаемой ситуации, прежде всего – представления о неких силах, обдуманно противодействующих продвижению писателей из народной среды. Примерно с конца 1960-х конкурентная борьба между столичной интеллектуальной элитой и провинциалами – писателями из народа стала переопределяться (что подтверждают мемуарные материалы и переписка) в терминах этнического противостояния: русские – евреи. Оказалось, что тревоги и напряжения процесса социализации в новом культурном пространстве можно легко артикулировать и в какой-то степени вытеснить, прибегая к языку антисемитского мифа. В официально правом сегменте писательского сообщества, который В. Солоухин назвал «русачки-правачки»[316]316
Солоухин В.А. Последняя ступень // Солоухин В.А. Собр. соч.: В 5 т. М.: Русскiй миръ, 2011. Т. 5. С. 209.
[Закрыть], антисемитская риторика держалась еще со времен кампании по борьбе с космополитизмом. Ближе к концу 1960-х к «теоретическому осмыслению антисемитской мифологии»[317]317
Митрохин Н. Русская партия. Движение русских националистов в СССР. 1953–1985. М., 2003. С. 533. Среди множества работ, где рассматривается роль антисемитизма в процессах группового самоопределения и политико-культурной борьбы в поздне– и постсоветской культуре, перечислю лишь несколько: Dunlop J. The Faces of Contemporary Russian Nationalism. Princeton, 1983; Korey W. Russian Antisemitism, Pamyat, and the Demonology of Zionism.The Hebrew University of Jerusalem, 1995; Russian Nationalism: Past and Present / G. Hosking, R. Service (eds.). London, 1998; Kochanek H. Die russisch-nationale Rechte von 1968 zum Ende der Sovjet Union: Eine Diskursanalyse. Stuttgart, 1999; Cosgrove S. Russian Nationalism and the Politics of Soviet Literature: The Case of Nash Sovremennik, 1981–1991. N. Y., 2004.
[Закрыть] обратилось и новое поколение интеллектуалов-националистов, сгруппировавшихся вокруг действовавшего в 1968–1969 годах на базе ВООПИиК «Русского клуба». «Вообще о евреях и тогда говорили почти все, – свидетельствовал В. Белов, – одни напрямую и громко, другие тихо, с оглядкой»[318]318
Белов В. Тяжесть креста. С. 28.
[Закрыть]. В среде, институционально курировавшей продвижение «деревенской» литературы (через издательства и редакции журналов), антисемитская мифология – полуофициально и для «своих» – фигурировала в качестве концепции, которая упорядочивала факты сравнительно недавнего исторического прошлого и современные реалии, оправдывала амбиции новой национально-консервативной элиты и канализировала свойственные многим выходцам из деревни – писателям, критикам, актерам рессентиментные эмоции (подробно эта проблема будет рассмотрена в главе V). Самоощущение, выросшее из невыговоренной боли от социальной и культурной депривированности, зеркально отразилось в образе могущественного и коварного Другого – еврея, на которого возлагалась ответственность за разрушение традиционной русской государственности и культуры и создание на их обломках дискриминационной по отношению к русскому населению системы, где доступ к основным благам контролируется представителями еврейского меньшинства. Метафоры демаркации, с одной стороны, и пересечения установленных границ, с другой, организующие повествование в воспоминаниях В. Белова «Тяжесть креста» (2002), довольно точно отражали убеждение в том, что образованное еврейство существует в привилегированном символическом пространстве, обособленном от жизни «народа» и прочно закрытом для крестьянских детей. Белов ставил вопрос о возможном жизненном сценарии Шукшина и сам же отвечал на него уверенностью в жесткой детерминированности судьбы социально-сословными характеристиками:
Как бы сложилась его жизнь, не будь он сыном расстрелянного сибирского крестьянина, объявленного «не с числа, не с дела» каким-то кулаком теми же фридрихами (для обозначения элиты Белов использует в качестве нарицательного имя Ф. Горенштейна, чей некролог о Шукшине был прочитан как оскорбительный отклик столичных интеллектуалов о покойном писателе. – А.Р.)? Если б он закончил в свое время школу, затем институт, затем… Но ему выпала иная стезя, иная доля, связанная с колхозной нуждой, с флотской службой и т. д. А кто бы работал на поле и стройке, кто бы служил на кораблях? Фридрихи, что ли? Они бы ничего этого делать не стали. Они еще до своего рождения отгородились от кораблей и колхозных полей дипломами своих родителей[319]319
Белов В. Тяжесть креста. С. 67.
[Закрыть].
В «Тяжести креста» не раз проговорено распространенное в «неопочвенническом» кругу убеждение в существовании некой «невидимой “табели о рангах”»[320]320
Там же. С. 39.
[Закрыть], или еврейского политического и культурного лобби[321]321
О борьбе национал-патриотов против «еврейского лобби» см.: Куняев Ст. Поэзия. Судьба. Россия. Кн. 1. С. 186–194.
[Закрыть]. В свете подобных убеждений адресованные писателям – выходцам из народа упреки в недостатке образованности и культуры трактовались как манипулятивные приемы, призванные узаконить право еврейской элиты распоряжаться культурными ресурсами. Белов так комментировал сложившуюся ситуацию:
Нам усиленно прививали всевозможные комплексы. Враги ненавидели нашу волю к борьбе. Тот, кто стремился отстоять свои кровные права, кто стремился к цели, кто понимал свое положение и осознал важность своей работы, кто защищал собственное достоинство, был для этих «культурников» самым опасным. Таких им надо было давить или дурить, внушая комплекс неполноценности[322]322
Белов В. Тяжесть креста. С. 38–39.
[Закрыть].
В общем, у «столичных литературных жлобов»[323]323
Там же. С. 13.
[Закрыть], «столичных культуртрегеров»[324]324
Там же. С. 44.
[Закрыть], унижавших писателей из народа «снобистской, порой презрительной снисходительностью»[325]325
Там же. С. 39.
[Закрыть], в большинстве случаев следовало подозревать еврейское происхождение, даже если о нем специально не упоминалось.
В конфронтации с «“культурным” еврейским щеголем»[326]326
Там же. С. 66.
[Закрыть] новая интеллектуальная группа уясняла свои границы. Но, говоря об объединяющей для части «неопочвенников» роли антиеврейских настроений, нужно иметь в виду отмеченную Евгением Добренко специфику антисемитского дискурса в советской культуре, который так и не обрел в ней «доктринальной легитимности»:
Поскольку продолжала действовать интернационалистская марксистская риторика, постольку, даже став системным явлением, антисемитизм в СССР продолжал оставаться полуофициальным, латентным. Это вызывало сложности с артикуляцией антисемитской политики, проводившейся при Сталине (и позже его наследниками), порождая различные формы заменного дискурса[327]327
Добренко Е. Сталинская культура: скромное обаяние антисемитизма // Новое литературное обозрение. 2010. № 101. С. 54. На рубеже 1980 – 1990-х годов антисемитский дискурс, подчинив себе прежние свои «заменные» вариации, сделался в публичном пространстве на некоторое время практически легитимным, а для значительной части аудитории еще и определил парадигму прочтения «деревенской прозы» (к каковой она, тем не менее, не сводима – антисемитский дискурс был одной из форм артикуляции травмы).
[Закрыть].
Показательно, что у критиков и литературоведов национально-консервативного плана (Вадима Кожинова, Петра Палиевского, Михаила Лобанова, Сергей Семанова и др.), взявшихся на рубеже 1960 – 1970-х годов объяснять противостояние интеллектуальной элиты (в большинстве случаев – евреев) и условного «простонародья» (русских), на выходе нередко получался антиэлитаристский нарратив. В нем антисемитская семантика могла и вовсе аннигилироваться – в том случае, если она не была для автора актуальной.
Так случилось со статьей Анатолия Ланщикова «“Исповедальная” проза и ее герой» (1967)[328]328
Ланщиков А. «Исповедальная» проза и ее герой // Ланщиков А. Времен возвышенная связь. М., 1969. С. 3 – 33.
[Закрыть], публично обозначившей амбиции новой национально-консервативной элиты. Автор без камуфлирования ставил вопрос о столкновении в литературном процессе привилегированных и подчиненных групп и сомневался в оправданности распределения между ними символического и культурного капитала. Проверенная риторика, клеймившая претендующих на «элитарность», далеких от подлинных нужд «народа» героев Василия Аксенова и Анатолия Гладилина, помогала Ланщикову идеологически растождествить продвигаемую им группу писателей (среди упомянутых авторов был В. Белов[329]329
Позднее к этому поколению критик причислит и В. Шукшина: Ланщиков А. Исповедь Василия Шукшина // Ланщиков А. Избранное. М., 1989. С. 316–317.
[Закрыть]) с лидерами прозы 1960-х. Критик тонко почувствовал, что новые политические веяния и формируемый официальной идеологией дискурс допускают экспериментаторство и элитарность в качестве факультативного элемента культуры, на первый же план в качестве бесспорных ценностей отныне выдвигаются «демократизм» и эстетический консерватизм, гарантировавшие востребованность текста всеми категориями потенциальных читателей. Эти ценности Ланщиков нашел в творчестве писателей примерно того же поколения, что и Аксенов, но представлявших его социально обездоленную часть. Невозможность своевременного доступа к образованию и культуре для слоев, на чьи плечи легли главные тяготы военного и послевоенного существования, обусловленная этим отсроченность творческого старта в статье Ланщикова впервые были истолкованы как фактор интеграции «задержанных» в литературное сообщество. Впрочем, основания для объединения на общей платформе столь разных художников, как Василий Белов, Виктор Лихоносов, Дмитрий Балашов, Георгий Владимов, Владимир Максимов, Евгений Носов, Ланщиков прописывает не совсем внятно, упоминая о «зрелости» писателей и умении воплотить «общенародный опыт». Но в этой статье они и нужны ему как собирательный образ художника, обращенного к той самой «народной» жизни, о которой, с его точки зрения, представления не имели авторы «исповедальной» прозы.
Эстетика / этика солидарности: семиотика поведения и костюма
В «Тяжести креста» В. Белов досадует на запись Алексея Кондратовича в «Новомировском дневнике» за 1968 год, где критик упоминал про «умненькие» глаза, помятые «пиджачок и брючишки» вологодского автора[330]330
См.: Белов В. Тяжесть креста. С. 39.
[Закрыть]. «Прочие благоглупости, – негодует Белов, уловивший в этом отзыве пренебрежительное к себе отношение, – с помощью суффиксов так и вылезают из этого дневника»[331]331
Там же.
[Закрыть]. Анна Самойловна Берзер, замечает он, оказалась куда тактичнее и проницательнее Кондратовича. Она
была опытной журналисткой и, несмотря на некоторую специфичность своих взглядов, являлась прекрасной добропорядочной редакторшей. (По крайней мере, она не сюсюкала по поводу «умненьких глазок» и гардероба «деревенского мужичка». Кстати, гардероб-то у меня был вполне приличный, это Кондратовичу хотелось придать моим брюкам определенный вид.)[332]332
Там же. С. 40.
[Закрыть]
Высокомерное (или интерпретированное подобным образом) наблюдение Кондратовича над провинциалом, пожаловавшим в редакцию лучшего советского журнала, уже привычно ранит Белова снобистским отношением к «деревенскому мужичку». Дистанция между представителями разных групп обозначена здесь несоответствием костюма провинциала неписаным представлениям о столичном и «приличном». Костюм, следование правилам этикета (или их нарушение) являются полноценным маркером группового самоопределения, визуализацией социальных различий, и потому имеет смысл рассматривать их как механизмы производства групповой общности.
Как уже отмечалось, прорехи в образовании, невысокий поначалу уровень культурной компетентности, «провинциальная» манера одеваться и вести себя – все это при первых контактах писателей из простонародья с городской образованной средой послужило основанием, чтобы столичная богема не признала в них «своих», а тем более равных, и насмешливо дистанцировала их от себя. Ответом «деревенщиков», если иметь в виду область поведенческих самопрезентаций, стала артикуляция различий посредством одежды и стиля поведения. Выбор костюма подчас обнаруживал нарочитое небрежение вкусовыми нормами и стандартами, принятыми в столичной творческой среде. Образчиком условного «столичного стиля» и отторгаемой «деревенщиками» «поэтики» поведения, вероятно, можно считать Василия Аксенова – московского диссидентствующего писателя-экспериментатора, представителя артистической богемы. Любопытным образом модернистская (и «проамериканская») стилевая ориентированность его прозы коррелировала с манерой «не-советски» одеваться – носить вещи западных фирм, недоступные большей части населения СССР, которой старательно прививали принцип «скромно, но со вкусом». Аксенов признавался: «Любопытно, что в нашем кругу большую роль играло то, что потом стало называться “прикидом”, а тогда просто “шмотками”»[333]333
Аксенов В. Зеница ока. Вместо мемуаров. М., 2005 (см. вклейку с фотографиями). Близко знавшая Аксенова З. Богуславская вспоминает характерное для писателя внимание к одежде, которое, как и в случае с «деревенщиками», так же было способом отреагировать на прежние лишения. Однако Аксенов избрал для этого кардинально иную тактику: «Не помню Аксенова небрежно одетым, в помятом костюме или застиранной рубашке. В его прикиде всегда “фирма”, известные лейблы. Я объясняю его стойкое увлечение фирменным стилем, техникой, обворожительными женщинами теми лишениями в детстве, когда, быть может, подростком он стоял перед нарядной витриной магазина, подобно героям из сказки, мечтая о том, что когда-нибудь он тоже сможет все это купить. И смог, и купил» (Богуславская З. Возвращенец Аксенов // Российская газета. 2012. 21 сентября. URL: http://www.rg.ru/2012/09/21/aksenov.html).
[Закрыть]. Юрий Нагибин, в 1970-е годы входивший в редакцию «Нашего современника», вспоминал, что В. Распутин (зашифрованный под фамилией Распадов) называл его «барин», «не вкладывая в это чего-либо осудительного»[334]334
Нагибин Ю. Тьма в конце туннеля. М., 1998. С. 139.
[Закрыть], но другие коллеги не особенно скрывали недоброжелательность, замешанную, помимо прочего, на осознании принадлежности к разным социально-культурным кругам. Нагибин платил тем же и подчеркивал дистанцию между собой и провинциалами, составлявшими большую часть авторов и редакции «Нашего современника»:
Наши корифеи отправлялись в Москву, напялив на себя все, что имелось в доме: на подштанники – лыжные штаны, а сверху брюки; так же многослойно был укутан торс: нательная рубашка, шерстяная и верхняя, какой-нибудь свитерок, на все это натягивался пиджак, который топорщился, не застегивался и так жал в проймах, что руки становились ластами; не менее заботливо утеплены ноги: портянки, носки домашней вязки, тонкие носки, обухоженные таким образом ступни вколачивались либо в бурки, либо в войлочные ботики, реже в шнурованные ботинки с калошами. Мать говорила, что на бедных людях всегда много надето. Отчасти из-за холода, отчасти из желания придать себе хоть какой-то вид. Мои друзья по редколлегии не были так уж бедны, чтобы не укрыться от стужи более цивилизованным способом, и в изобилии их одежд не проглядывало франтовство, причина была в дикости, в полном отсутствии бытовой культуры[335]335
Там же.
[Закрыть].
Впрочем, Нагибин признает, что талантливость и «твердость жизненной позиции»[336]336
Там же. С. 140.
[Закрыть] многих авторов журнала его восхищала, как и их «внешняя непрезентабельность», в которой ему хотелось видеть «презрение к материальным благам жизни»[337]337
Нагибин Ю. Указ. соч. С. 139.
[Закрыть]. Да и сами писатели из крестьянской среды подчеркнутым безразличием к стилевой продуманности и завершенности костюма стремились произвести именно такой эффект – выразить протест против «мелочного» интереса к «прикиду». Моду и стиль они демонстративно относили к сфере профанного, сиюминутного, в координатах которого художник не должен выстраивать свой мир. Мода, по пародийно сдвигающим исходную ситуацию словам Шукшина, –
это нечто выдуманное, цепкое, крикливое и пустое. Живая природа не знает моды; там, где решаются коренные вопросы бытия, мода молчит. Если бы это было не так, нам было бы очень важно знать: красиво ли, элегантно ли бежали солдаты в атаку? Почему поле вспахано вдоль, а не в елочку? Как ведет себя боксер в своем углу между раундами – обозревает светски рассеянным взглядом толпу или только успевает надышаться? Как написано: «Сказались бессонные ночи, полные сжимающей душу тревоги, раздумий, бесконечных давлений, сопоставлений, ассоциаций…» или: «Ванька устал», если нам, в данном случае, важно знать по Ваньку, а не про автора – что он «может»?.. Ну и так далее[338]338
Шукшин В.М. «Мода…». Т. 8. С. 81–82.
[Закрыть].
Не стильная небрежность, а пренебрежение стилем подчеркивало неважность, вторичность для «деревенщиков» формально-стилевой составляющей их отношения к костюму. Воспоминания Юрия Оклянского о бросившемся ему в глаза при первой встрече с Абрамовым в 1972 году крайне эклектичном одеянии писателя типичны для мемуаристики, посвященной «деревенщикам»:
На нем был серый толстый свитер с высокой горловиной, поверх тогда модный кожаный черный заграничный пиджак, впрочем, нередкий в литературной среде, на ногах теплые войлочные ботинки. Одет без намека на официальный случай, вразнобой, скорее по-домашнему[339]339
Оклянский Ю. Указ. соч. С. 7.
[Закрыть].
Свидетельства очевидцев, описывавших появление «деревенщиков» в столичном кругу, фокусировали, как правило, внимание на деталях, недвусмысленно отсылавших к колхозно-крестьянскому либо армейскому прошлому писателей. И если поначалу элементы не-цивильного городского стиля объяснялись нуждой, то со временем их присутствие в гардеробе получило идеологический статус. А. Саранцев, учившийся одновременно с Шукшиным во ВГИКе, описывал характерные приметы стиля студентов из простонародья, которые отличали их от отпрысков интеллигентных московских семей:
Военную форму мы носили не ради форса, а просто потому, что ничего другого не имели. Шукшин… тоже был одет в военное, только не во флотское, а в обычное армейское: гимнастерка, брюки, сапоги. Из флотского у него, помню, были только тельняшка да бушлат. Но он чаще носил не бушлат, а «московку»… Шапчонка тоже была неказистая, цигейковая. <…> Никогда не носил галстук. Одно время, после ВГИКа, были у него бурки, белые такие, войлочные… Позже, на съемках, часто ходил в кирзовых сапогах, но это уже не от бедности, это была уже «позиция»[340]340
Саранцев А. Указ. соч. С. 28.
[Закрыть].
Впоследствии Б. Ахмадулина знаменитую деталь шукшинского гардероба, своего рода маркер его индивидуального стиля – кирзовые сапоги справедливо истолковывала как «знак, утверждение нравственной и географической принадлежности, объявление о презрении к чужим порядкам и условностям»[341]341
Ахмадулина Б. Указ. соч. С. 331. Об одном из вариантов розыгрыша, видимо, льстившего самолюбию Шукшина, рассказывала журналистка Т. Пономарева: «…во время съемок фильмов, режиссируемых Василием Макаровичем, его часто не узнавали журналисты, которым поручено было взять у Шукшина интервью. Объектом их внимания, как правило, был оператор Валерий Гинзбург, одевающийся с иголочки, бросавшийся в глаза своей респектабельностью. Гинзбург с Шукшиным придумали нечто вроде розыгрыша. Оператор невозмутимо рассказывал о новой киноработе, прекрасно понимая, за кого его принимают, а когда журналист вдруг произносил опрометчивое:
– Василий Макарович, а…
– “Василий Макарович”? – перебивал незамедлительно журналиста Валерий и делал широкий жест в сторону Шукшина: – Это туда!
И работники прессы слегка обалдевали, видя Шукшина в фуфайке и сапогах, без всяких, как говорится, излишеств» (Пономарева Т. Потаенная любовь Шукшина. М., 2003. С. 92–93).
[Закрыть]. Идеологический статус костюма или его деталей Шукшин прекрасно осознавал и даже обыгрывал в свойственной ему самоироничной манере. В статье, написанной в 1969 году для сборника «Мода: за и против», он трактовал следование моде как «дешевый способ самоутверждения»[342]342
Шукшин В.М. «Мода…» С. 81.
[Закрыть], замечая, что таковым может стать и борьба с модой. В качестве примера он ссылался на эпизод собственной студенческой молодости, когда выбором костюма – по славянофильскому образцу – пытался в борьбе со «стилягами» манифестировать свою позицию:
Для некоторых «деревенщиков» в неумении носить костюм, галстук выражались бравирование свободой от условностей и акцентуация своей «природы», естественной «фактуры», которую не переделать. Астафьев, например, вспоминал, как однажды в Москве билетерша не хотела пускать его на собственный литературный вечер: «Что на себя ни наденешь, рожа всегда выдает происхождение»[344]344
Цит. по: Ростовцев Ю. Указ. соч. С. 263.
[Закрыть], – заключал он. В самоироничной констатации «простоты», которую не скрыть приличествующим торжественной ситуации костюмом, есть рефлексивно-игровое начало, побуждающее акцентировать то, что Астафьевым осознается как отступление от представлений о «человеке культуры». Модус самоиронии в данном случае работает как инструмент защиты, поскольку самоирония опережает возможные негативные оценки «простака» со стороны просвещенной публики и снижает их болезненность.
Выбор одежды, костюма, вариантов самопозиционирования выполнял обычную функцию – проводил границу между «чужими» и «своими», причем в число «своих» включался не только «ближний» круг (провинциалы, стремившиеся добиться успеха в различных творческих областях, испытавшие неприятие со стороны столичной среды), но и предельно условная общность – «народ», идентификацией с которым и ссылкой на который можно было объяснить небрежение грамматикой современного городского поведения. В этом смысле ориентация на «своих», демонстрация «невыделенности» из «народной массы» «деревенщикам» были нужны не меньше, чем демонстрация «непричастности» к столичной интеллектуальной элите. Любопытны два мемуарных свидетельства о Шукшине, внешне противоречащих друг другу, но вполне укладывающихся в линию поведения человека, который выстраивает свою культурную идентичность в отсылке к разным группам. Режиссер Александр Гордон, учившийся с Шукшиным на одном курсе, вспоминал, что примерно в середине 1960-х он случайно встретил того в Москве на улице, одетым в ратиновое пальто, в которых «ходили тогда партийные начальники, руководители предприятий, директора магазинов»[345]345
Гордон А. Указ. соч. С. 235. Через некоторое время, добавляет Гордон, ему довелось встретить Шукшина, одетого уже в иной стилистике – он был в «белом нагольном полушубке» (Там же). Вообще, в повседневных обстоятельствах, насколько можно об этом судить, «деревенщики» одевались совершенно стандартно, никак невыделяясь из общей массы горожан. Астафьев, например, выписываясь из больницы, просит жену принести ему пальто, шляпу и черные ботинки, то есть перечисляет предметы гардероба среднестатистического горожанина «интеллигентных профессий» (См.: Астафьев В. Нет мне ответа… С. 190), и в этом нет ни вызова, ни эпатажа, ни желания идентифицировать свою принадлежность к простонародной среде. Другими словами, то, что «деревенщиков» помнят «странно» одетыми, характеризует не только тип их публичной самопрезентации, но и оптику наблюдателя (мемуариста). В воспоминаниях о «деревенщиках» немало свидетельств о стилистическом разнобое в их гардеробе или презрении к культурным нормам городского круга. Однако нельзя исключить, что такого рода «нарушение» стилевых и вкусовых норм заострялось специфическим взглядом очевидца, принадлежавшего иной среде, нежели «деревенщики», и именно поэтому критично оценивавшего (если не переоценивавшего) культурный вызов, заключенный в упомянутых ситуациях.
[Закрыть]. Журналист Василий Белозерцев приводит свои впечатления от Шукшина-актера на встрече со зрителями в провинциальном Бийске примерно в то же время, в середине 1960-х: «Был он в пиджаке, в рубашке без галстука, в сапогах и был похож не на деятеля искусства, а на рядового колхозника, только что выбравшегося случайно в город»[346]346
Белозерцев В.Ф. Встречи с В.М. Шукшиным // Бийчане о Шукшине. Бийск, 2000. С. 17–18.
[Закрыть]. Очевидно, различные варианты шукшинского костюма содержат послание, адресованное разным аудиториям. В первом случае обладание статусным предметом гардероба (ратиновым пальто) позволяет продемонстрировать окружающим нынешнее благополучие, компенсировавшее былую ограниченность в возможностях. Это знак самоутверждения в городском пространстве, подчинения его себе. Шукшин больше не чувствует себя в нем «чужаком», «инородным телом», он – один из успешных горожан. Но примерно тот же смысл («я – один из вас») транслирует провинциальной зрительской аудитории Шукшин-актер, когда нивелирует признаки причастности к творческой элите и преподносит себя как «обычного», «простого» человека. В подобных переключениях из одного стилевого регистра одежды в другой[347]347
Например, в комментарии к статье «Мода…» в последнем томе 8-томного собрания сочинений Шукшина упомянута серия фотографий, снятых фотокорреспондентом ТАСС Анатолием Ковтуном в мае 1974 года: «…мы видим писателя в модных, дефицитных в СССР, джинсах, импортном кожаном пиджаке и элегантных ботинках. Попала в кадр и модная югославская стенка (“Хелена”), “героиня” пьесы “Энергичные люди” (Ковтун А. Время Шукшина. [Альбом]. Б/м, 2004. С. 15, 26, 27 и др.)» (Комментарии // Шукшин В.М. Собр. соч. Т. 8. С.371).
[Закрыть] нет ничего странного, но показательно, что Шукшин, невероятно чуткий к семиотике костюма, довольно быстро вернул в свой гардероб элементы социально отмеченного («деревенски-колхозного»), знакового для него стиля одежды и впоследствии, уже добившись признания, автомифологизировал себя именно как «героя в кирзовых сапогах»[348]348
Данный код, констатирует А.И. Куляпин, стал после смерти Шукшина главным в интерпретации его творчества и биографического мифа, что существенно упростило представления о художнике (см.: Куляпин А.И. Указ. соч. С. 5).
[Закрыть].
Какую бы стратегию самопредставления в чужом пространстве, если речь идет о манере одеваться, ни избирали «деревенщики» (избегая вещей, положенных творческому человеку по статусу, культивируя «скромность», «аккуратность», «безликость»[349]349
Ср.: «… одеваюсь так, как где-то уже принято, что теперь надо так одеваться» (Шукшин В.М. «Мода…» // Шукшин В.М. Вопросы к самому себе. М., 1981. С. 76).
[Закрыть] костюма либо социально маркируя его «простонародными» элементами), подчас они выстраивали ее, неявно ориентируясь на наличие внешнего наблюдателя. В подобных ситуациях они чувствовали себя, по определению Бурдье, замкнутыми «в пределах судьбы, навязанной коллективным восприятием»[350]350
Bourdieu P. Op. cit. S. 259.
[Закрыть], и прежде всего, восприятием со стороны привилегированных групп. Игнорирование «деревенщиками» кодов городской одежды, во-первых, помогало им выйти за рамки сложившейся системы правил, разводивших «уместное» / «неуместное», «престижное» / «непрестижное», «модное» / «немодное», во-вторых, создавало условный ареал независимости, где можно было играть по своим правилам, избегая просветительски-педагогического контроля со стороны групп с более высоким образовательным статусом, и, что немаловажно, чувствовать себя собой. Утверждение права не подчиняться стандартам чужого культурного круга и было конечной, возможно, не отрефлексированной до конца целью «игр» с костюмом и самопредставлением. «Воспитанность как часть цивилизационного процесса, – замечал Виктор Живов, анализируя коллизии травматичного нахождения разночинцев 1860-х годов в дворянской среде, – ставит преграду для проникновения в элиту людей из других социальных групп»[351]351
ЖивовВ.М. Указ. соч. С. 46.
[Закрыть]. Бунт против «несправедливости» подобных социально-культурных ограничений выражается в акцентировании негативных отличий от норм элитарной культуры, которым «противополагаются естественность и искренность – постоянные составляющие любого антицивилизационного движения…»[352]352
Там же. С. 43.
[Закрыть] В этой логике сопротивления закрепощающей власти норм, продуцируемых элитарной средой, было выдержано, например, поведение В. Астафьева. По свидетельству Владислава Матусевича, периодически видевшегося с писателем в 1970-е годы,