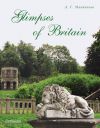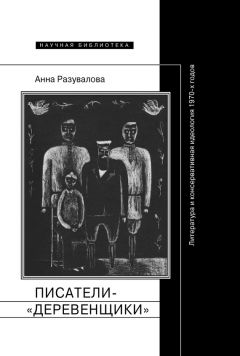
Автор книги: Анна Разувалова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Красноречивая иллюстрация обсессивной антимещанской риторики – фрагмент главы «Не хватает сердца» («Норильцы») из «Царь-рыбы» (1975–1977), в которой писатель впервые безоговорочно свяжет с экспансией мещанства весь советский проект (в письмах он также не раз будет возвращаться к этой идее: «Ах какое мещанство-то мы возродили взамен низвергнутого пятьдесят лет назад!»[411]411
Астафьев В.П. Нет мне ответа… С. 172.
[Закрыть]). Исключенная цензурой при публикации глава содержала эпизоды, где рассказывалось о поездке повествователя за лекарством для умирающего брата. Оказавшийся на теплоходе соседом «советского баринка»[412]412
АстафьевВ.П. Царь-рыба. Т. 6. С. 71.
[Закрыть], он сначала весьма желчно описывает «культурные» повадки своего спутника: тот делает в каюте гимнастику, тщательно умывается, вытирается огромным полотенцем, вертится перед зеркалом, играя мускулатурой, утомленно пьет коньяк, закусывая апельсином, хвастается поездкой в Париж и пробует завести разговор, подтверждающий его начитанность («“Раковый корпус”, “В круге первом” Солженицына читали?»[413]413
АстафьевВ.П. Царь-рыба. Т. 6. С. 70.
[Закрыть]). Язвительность по поводу демонстрации соседом принадлежности к кругу «культурных» людей («…вот ведь выучился ж где-то культуре человек, а мы, из земли вышедшие, с земляным мурлом в ряды интеллигенции затесавшиеся, куда и на что годимся? <…> Не умеем создать того шика, той непринужденной небрежности в гульбе, каковая свойственна людям утонченной воспитанности…») довольно быстро сменяется гневными обличениями случайного соседа:
«Парижанин» утомился, я отвернулся и стал глазеть в окошко – всю-то зимушку это, нами новорожденное существо таскало, крадучись, денежки в сберкассу, от жены две-три прогрессивки «парижанин» ужучил, начальство на приписках нажег, полярные надбавки зажилил, лишив и без того подслеповатого, хилого северного ребенка своего жиров и витаминов. По зернышку клевал сладострастник зимою, чтоб летом сотворить себе «роскошную жизнь».
<…> Где-то, поди-ко, был или еще и есть в этом самозабвенно себя и свои культурные достижения любящем человеке тот, который строем ходил в пионерлагере и взухивал: «Мы – пионеры, дети рабочих!..», потом тянул на картошке, моркошке да на стипендии в политехе; где-то ж в костромской или архангельской полуистлевшей деревне, а то и на окраине рабочего поселка с названием «Затонный» доживает или дожила свой век его блеклая, тихая мать либо сестра-брошенка с ребятишками от разных мужиков – жизнь положившие на то, чтоб хоть младшенького выучить, чтоб он «человеком стал».
Такие уже на похороны не ходят, не ездят. Зажжет интеллектуал свечу негасимую перед «маминой» иконой, то есть из родной деревни вывезенной, с разрешения жены напьется и церковную музыку в записи послушает, скупую слезу на рубаху уронит. Ложась спать, тоскливо всхлипнет: «Э-э-эх, жизнь, в рот ей коптящую норильскую трубу… Отпеть маман просила, да где она, церковь-то, на этой вечной мертвой мерзлоте?..»[414]414
Там же. С. 71.
[Закрыть]
Детали социальной биографии, подробно и неоправданно пространно, если учесть, что речь идет о второстепенном персонаже, прописанные Астафьевым, принадлежат не конкретному герою, а типажу, чьи «параметры» уже предзаданы[415]415
Астафьев вообще избегал конкретизации или индивидуализации при разговоре о мещанстве – он рисовал обобщенный антипатичный ему тип и использовал преимущественно «генерализующие» смысловые ходы. Ср.: «А тут в связи с “Царь-рыбой”, такой читатель из подворотен вылез, такое воспитанное мурло, интеллигентно себя понимающее. Он в школе вызубрил две цитаты – “Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно стыдно…” и “В человеке все должно быть прекрасно…”, а сам, сука, всю жизнь в казарме или на эсминце пил кровь из подчиненных, обогащал свою квартиру, наряжал в панбархат бабу-дуру или воровал с баз» (Астафьев В.П. Нет мне ответа… С. 245).
[Закрыть]. Иначе говоря, крайняя саркастичность портрета советского мещанина никак не вытекает из сюжетных перипетий, но сопровождает повествование как развернутый авторский комментарий, сделанный «по поводу». «Мещанство» и «культурность» остаются здесь, в художественном тексте, элементами идеологического дискурса – их содержание автор более или менее подробно проговаривает, но они не трансформируются в сюжет, сцены, повествование, систему героев, стиль (соответственно и исследователи при литературоведческом анализе вычленяют их как «элементы публицистичности»). Впрочем, по отношению к творчеству Шукшина это наблюдение было бы уже неправомерным: писатель и режиссер весьма определенно формулировал свое отношение к проблемам мещанства и «культурности», делая их, в отличие от Астафьева, частью сюжетных коллизий рассказов, повестей, фильмов, «растворяя» в системе мотивов, портретных деталях, речевых характеристиках персонажей.
Два следующих параграфа работы написаны в духе case study: случаи Шукшина и Астафьева, вместившие опыт индивидуальных поисков и кризисов, по моему убеждению, рельефно раскрывают перипетии культурного самоопределения «деревенщиков» как сообщества. Эти два во многом пересекавшиеся автора в рефлексии культуры двигались в разных направлениях. Астафьева культура больше интересовала как символическая, но вполне функциональная ценность: все, что говорилось выше о самосоздании субъекта через культуру, по отношению к этому писателю актуально более чем по отношению к любому другому представителю «деревенской прозы». Астафьев был особенно восприимчив к «возвышающему» и «воспитывающему» воздействию культуры, возможно, потому что прошел войну и столкнулся с ситуациями крайнего расчеловечивания. Соотнесение «реального» исторического человека с «вершинами» культуры, во-первых, обнажало глубокое зияние между «опытом» и «образцами» (отсюда астафьевская романтическая риторика в отношении неизбывного конфликта гениев культуры, терзающих себя ради блага человечества, и примитивной толпы), во-вторых, побуждало проблематизировать основания человеческой природы и культуры. Шукшина-художника, напротив, культура больше интересовала как «практика». Он внимательно наблюдал за попытками внедрить городскую интеллигентскую программу «культурности» в крестьянский мир, за изменениями «человека почвы», включенного в новый проект. Негативные последствия «оцивилизовывания» Шукшину, как и некоторым другим «деревенщикам» (например, Ф. Абрамову[416]416
См. впечатления прозаика от посещения западных стран: Абрамов Ф.А. Неужели по этому пути идти всему человечеству? Путевые заметки: Франция, Германия, Финляндия, Америка. СПб., 2002.
[Закрыть]), казались очевидными, но тогда особо острым становился вопрос об альтернативных программах развития. Специфически консервативные смыслы философско-идеологической позиции «деревенщиков» в отношении официального прогрессистского дискурса о культуре, попытки его проблематизации, трактовка пропагандируемых новых культурных практик станут предметом анализа в двух следующих разделах.
«Культурность» и формирование «неопочвеннической» идентичности в киноповестях и фильмах В.М. Шукшина (1964–1972)
В работах о Шукшине часто цитируется его высказывание из статьи «Послесловие к фильму» (1964): «…есть культура и есть культурность. Такая культурность нуждается почему-то в том, чтобы ее поминутно демонстрировали, пялили ее в глаза встречным и поперечным»[417]417
Шукшин В.М. Послесловие к фильму. С. 11.
[Закрыть]. Объясняющее многое в эстетике раннего Шукшина, культивировавшего «простоту» характеров и стиля, связанное с психологически травмирующими обстоятельствами его биографии, оно требует контекстуализации.
«Культурность», вызывавшая у писателя иронический протест, была важным элементом «оттепельной» программы по реформированию повседневной сферы и поведенческих образцов, которые надлежало усвоить современному советскому человеку[418]418
О хронологически первой программе «культурности» и ее роли в формировании цивилизационной идентичности советского человека см.: Волков В.В. Концепция культурности, 1935–1938: Советская цивилизация и повседневность сталинского времени // Социологический журнал. 1996. № 1–2. С. 203–221. О «перестройке быта» в хрущевскую эпоху см.: Лебина Н.Б. Энциклопедия банальностей. Советская повседневность: контуры, символы, знаки. СПб., 2006. С. 25.
[Закрыть]. Актуальность подобной программы была обусловлена двумя обстоятельствами. Во-первых, на рубеже 1950 – 1960-х годов происходила частичная эмансипация индивида от государства: за личностью было признано право иметь приватную сферу, разнообразить практики потребления, выбирать формы проведения досуга. Во-вторых, потребность в «окультуривании» повседневной жизни, распространении и внедрении современных цивилизационных стандартов диктовалась крупными социальными сдвигами, прежде всего ростом городского населения. В общем, дискурсы и практики «культурности» («внешней культуры»[419]419
Эстетика поведения. М., 1965. С. 8. Примечательно, что, отражая единую «диалектику» (от внешнего к внутреннему) проектов культурного развития общества, спустя три года появится сборник «Культура чувств» (1968), переключающий читателя с усовершенствования «манер» и накопления знаний на развитие эмоциональной сферы.
[Закрыть]) должны были пропагандистски сопровождать очередную фазу модернизационного проекта. В такой атмосфере вышел сборник «Эстетика поведения» (1965), первоначальный тираж которого в 300 тысяч, по утверждению составителя и редактора издания Валентина Толстых, был распродан в течение нескольких дней[420]420
См.: Толстых В.И. Мы были. Советский человек как он есть. М., 2008. С. 168–170.
[Закрыть]. Авторы книги призывали облагородить поведение советского человека в будничной сфере, не преминув мотивировать это необходимостью самосовершенствования на пути к коммунизму[421]421
Идеологическим импульсом к распространению идей и практик «культурности» стал принятый XXII съездом КПСС (1961) «Моральный кодекс строителя коммунизма».
[Закрыть].
На повестку сегодняшнего дня встал вопрос создания нового человека, человека будущего коммунистического общества. <…>
<…> Не успеешь оглянуться, и появятся юноши и девушки из сегодняшних перво– и второклассников. И хочется видеть их такими же смелыми, мужественными, красивыми, обаятельными, умными и – хочется подчеркнуть – воспитанными, как, скажем, герои сегодняшнего дня, обессмертившие себя навеки, – советские космонавты[422]422
Эстетика поведения. С. 5.
[Закрыть].
Во вступительной статье к «Эстетике поведения» Лариса Орданская предельно ясно раскрывала не только задачу запущенной программы (воспитать гармоничного человека, пригодного для жизни в коммунистическом обществе), но и односторонне-иерархическую модель цивилизующего обучения – что-то вроде «спуска образцов»[423]423
Вадим Волков замечает, что в России термины «культура» и «культурность» получили широкое хождение в обществе, начиная примерно с 1870-х годов, когда либералы, работавшие в земских школах, учителя воскресных школ для рабочих и крестьян, интеллигенты-народники стали осознавать в этих понятиях свою работу среди отсталых масс. «Не исключено, что именно в их деятельности воплотилось понимание культуры как ресурса, который может быть накоплен “наверху”, целенаправленно передан и определенным образом усвоен “внизу”», – пишет исследователь (Волков В.В. Указ. соч. С. 205). Таким образом, модель культурной политики изначально была устроена иерархично: есть носители культурных образцов и масса, которой их нужно привить.
[Закрыть]. Предполагалось, что советская интеллигенция, в силу своего социального статуса освоившая стандарты культурного поведения, ознакомит с ними обычных граждан, которые по разным причинам сделать этого не смогли. Орданская допускала характерную оговорку – на мысль о создании книги, ненавязчиво знакомящей с правилами хорошего тона, ее навело общение с молодыми деревенскими жителями:
Встретившись с молодежью села, хорошей, чистой, умной, мы сразу увидели, как нуждаются они в помощи по самым элементарным вопросам воспитания. Мы увидели, что на них подчас одежда из дорогих тканей, но сшита безвкусно, что они плохо двигаются, что на танцах неуклюжие юноши не умеют ни встать, ни сесть, ни пригласить девушку на танец, ни посадить ее на место. Что иные ребята понятия не имеют о том, что, придя в общественное место, надо снять головной убор, если в помещении тепло – раздеться, девушку или женщину надо пропустить вперед, если она несет тяжелую сумку, помочь ей, некрасиво ругаться вообще, а в присутствии женщины, девушки или ребенка тем более и т. д. и т. п.[424]424
Эстетика поведения. С. 6.
[Закрыть]
Сельская молодежь уподоблялась здесь материалу, требующему обработки, и автоматически превращалась в основной объект педагогического воздействия, что еще раз подчеркивало: программа «культурности» – произведение интеллигентское и городское. Именно с точки зрения городского образованного слоя (интеллигенции), присвоившего монополию на экспертную оценку культурных практик, крестьянский образ жизни и «деревенские будни» признавались «убогими», «дремуче-патриархальными», то есть не маркированными принадлежностью к цивилизации и потому подлежащими преобразованию.
В целом, интеллигентская риторика 1960-х, как это нетрудно заметить, тяготела к двум типам мотивации «культурного строительства» на селе: первый (превалировавший) основывался на уже упомянутом «спуске образцов», второй, подпитывавшийся «народническими» идеалами и стилистикой, убеждал в необходимости учиться у «народа», а не только учить его. Так, отказывавшийся играть «на понижение» с потенциальным сельским зрителем / слушателем режиссер Григорий Козинцев заявлял:
Понятие «культура села» мне кажется неестественным. Двух культур у нас не существует. Я считаю, что селу, как и городу, нужны симфонические оркестры, эрмитажи, театр Брехта. В понятии же «культура села» мне видится какое-то противопоставление, за которым – намек: городу нужно одно, селу другое[425]425
Прекрасного на душу населения // Зарницы. М., 1969. С. 145.
[Закрыть].
Козинцев ведом благой идеей познакомить деревенских жителей с «настоящей» культурой, однако при этом он не сомневается, что набор подлежащих распространению культурных ценностей (симфонические оркестры, эрмитажи, театр Брехта) будет определяться городскими экспертами, в данном случае полагавшими, что Брехт жизненно необходим крестьянину, которого надо только «доразвить» до понимания экспериментов немецкого драматурга. Противоположную точку зрения в ходе той же дискуссии высказал Михаил Ульянов, который апеллировал к опыту общения с «народом» во время съемок фильма «Председатель» (1964) и заявлял, что у деревенских жителей есть сложившиеся вкусы, далекие от модернизма:
В том негласном споре об эстетических возможностях жителей села, который все еще ведется по принципу «опускаться или дорастать», я со всей ответственностью за свои слова утверждаю, что работникам искусства надо именно дорастать до крестьянства, до героев наших кинофильмов.
Дорастать – значит перенимать у народа не только душевное здоровье, ясность чувствований и поступков, но и свежесть эстетического восприятия, то здоровое, зоркое видение мира, которое безошибочно отличит модерновую подделку от чистого золота правды…[426]426
Там же. С. 148.
[Закрыть].
Итак, односторонняя и категоричная интерпретация горожанами другого для них образа жизни и соответствующая просветительская риторика стали сильным раздражителем для отдельных авторов, составивших впоследствии «деревенскую» школу. «Я представляю себе общество, где все грамотны, все очень много знают и все изнурительно учтивы»[427]427
Шукшин В.М. Послесловие к фильму. С. 10.
[Закрыть], – с чрезмерным простодушием рисовал Шукшин результат культурного реформирования села и города, обнажая эпитетом «изнурительно учтивы» иронический подтекст оценки идеального социума. Неудивительно, что существенным дискурсивным компонентом оформлявшегося литературного «неопочвенничества» стало указание на ограниченность интеллигентского видения деревни и встречная критика поставляемых городом реформаторских проектов. Шукшина, к примеру, занимало столкновение, в духе консервативной логики, «обычая», некогда спонтанно возникшего в недрах крестьянской жизни, и «проекта» – цивилизационного стандарта, повсеместное насаждение которого упрощало «живую жизнь»:
Критика идеологии «проектирования» в различных формах и на различных уровнях вообще была важным элементом национально-консервативных воззрений. Можно назвать целый ряд программных высказываний на этот счет: от антиструктуралистских статей Петра Палиевского, доказывавшего, что «жизнь не является моделью и не построена из моделей»[429]429
Палиевский П. Мера научности // Палиевский П. Литература и теория. М., 1974. С. 70.
[Закрыть], что «высокие принципы» организации объекта лежат «вне досягаемости структуралистских систем»[430]430
Палиевский П. О структурализме в литературоведении // Там же. С. 34.
[Закрыть], до возмущения «моделированием» интеллектуалами (подразумевается, еврейскими) перспектив развития русских как этнической группы в романе В. Белова «Все впереди» (1986)[431]431
См.: Белов В. Все впереди. М., 1987. С. 222–223.
[Закрыть]. Шукшин, воспринимавший «окультуривание» как устранение из жизни личности и общества всего своеобычного, неповторимого, непредсказуемого, также был подозрителен к «проектам» и пытался фабульно и стилистически конкретизировать романтическую антитезу культуры и цивилизации.
Программа «культурности» к положению советского крестьянства имела непосредственное отношение еще и потому, что властями она согласовывалась с намеченными преобразованиями в социально-экономической структуре села. С середины 1950-х начались «укрупнение» малорентабельных колхозов, их перевод в совхозы с попутной ликвидацией «неперспективных» деревень. В этот период Н.С. Хрущев, вопреки провозглашенным на ХХ съезде КПСС планам развертывания индивидуального строительства на селе, стал энергично продвигать идею «агрогородков» – унифицированного обустройства сел по городскому типу. Задуманная реорганизация сельского хозяйства должна была уменьшить государственные затраты на содержание малоэффективной отрасли и интенсифицировать ее развитие, однако предлагаемые реформы не учитывали ни историко-культурных оснований крестьянского уклада, ни куда более утилитарного аспекта – специфики отраслевой специализации колхозов и их технической обеспеченности. Череда сменяющих друг друга партийных постановлений о развитии сельского хозяйства сначала, видимо, породила некоторые иллюзии (В. Астафьев даже написал роман «Тают снега», герои которого «вдохновляются» решениями сентябрьского пленума ЦК КПСС 1953 года[432]432
См.: Разувалова А.И. Соцреалистический дискурс в ранней прозе В.П. Астафьева // Современная филология: актуальные проблемы, теория и практика. Красноярск, 2007. С. 280–284.
[Закрыть]), но уже в 1960-е годы «деревенщики» сосредоточились на осмыслении «раскрестьянивающего» эффекта осуществляемых властью мер. «Неопочвеннический» дискурс конца этого десятилетия в его характерном для «деревенщиков» варианте стал попыткой скорректировать государственную политику, ретушировавшую подлинные, с их точки зрения, проблемы деревни. Элементы подобного дискурса, с акцентированием стилевого и мировоззренческого противостояния «культурного» города «некультурной» деревне, будут проанализированы в киноповестях Шукшина «Живет такой парень» (1964), «Ваш сын и брат» (1965), «Печки-лавочки» (предположительно 1967)[433]433
О спорной датировке киноповестей см.: Киноповести // Творчество В.М. Шукшина: Энциклопедический словарь-справочник. Т. 2. Барнаул, 2006. С. 52.
[Закрыть] и одноименных фильмах[434]434
Фильмы Шукшина его оппоненты из кинематографической среды воспринимали как «идеологический текст», попытку перенести на экран определенные общественные настроения и создать «русское кино». Ср.: «…творческая элита “Мосфильма” приняла“ Калину красную”, мягко говоря, без особого энтузиазма. <…> Удивляться тут было нечему – фильм Шукшина был “слишком” русским и по этой части достаточно болезненно и озабоченно воспринимался представителями столичной кинообщественности, да и не только ею» (Фомин В. Указ. соч. С. 415). В. Белов и А. Заболоцкий были убеждены в целенаправленном противодействии Шукшину-режиссеру, которое диктовалось желанием сдержать рост прорусских настроений. Не случайно Белов полагал, что гонимость А. Тарковского не более чем интеллигентский миф, на самом же деле не ему, а Шукшину киноначальство пыталось всячески воспрепятствовать в осуществлении замыслов (см.: Белов В. Тяжесть креста. С. 59–60).
[Закрыть]. Киноповесть, по мысли Шукшина, в отличие от технического «режиссерского» сценария, представляет собой «изложение общей концепции фильма в литературном тексте, фиксирующем суть характеров, ситуаций и допускающем импровизацию в процессе создания экранной формы»[435]435
Киноповести. С. 51. Ю.М. Лотман отмечал интересующую меня в связи с поставленной проблемой «способность кинотекста впитывать семиотику бытовых отношений, национальной и социальной традиций», что делает его «насыщенным общими нехудожественными кодами эпохи» (Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин, 1973. С.116). См. также соображения о спонтанном новаторстве кинематографических опытов Шукшина: Гивенс Дж. Screening The Short Story: The Films of Vasilii Shukshin // Творчество В.М. Шукшина в межнациональном культурном пространстве. С. 372–390.
[Закрыть]. Поскольку «культурность» по природе своей требует предъявления внешнему наблюдателю (зрителю), идеологические подтексты, с нею связанные, уместно проанализировать именно на материале киноповестей и фильмов, визуализирующих «культурность». Понятно, что эффект визуализации в той или иной степени достигается и в литературном тексте при помощи специфично-литературных приемов, но тем интереснее наблюдать за корреляцией текста киноповести и визуального образного ряда фильма – за тем, что попадает в камеру, а что представляется избыточным для создания нужного эффекта.
Оппозиция город – деревня, которая современным исследователям подчас кажется безосновательно гипертрофированной[436]436
Мартазанов А.М. Идеология и художественный мир «деревенской прозы» (В. Распутин, В. Белов, В. Астафьев, Б. Можаев). СПб., 2006. С. 4.
[Закрыть], для Шукшина приблизительно с середины 1960-х годов стала одним из главных инструментов сюжетного упорядочивания материала[437]437
См.: Город // Творчество В.М. Шукшина: Энциклопедический словарь-справочник. Т. 2. С. 89.
[Закрыть]. В конфликте двух типов практик (условно говоря, «городских» и «деревенских»), который был предметом авторского осмысления и одновременно задавал ракурс взгляда на проблему, реализовалась общекультурная дихотомия «субстанции» и «формы». Эти понятия, как показал П. Бурдье, не имеют стабильного ценностного наполнения и трактуются в зависимости от позиции, занимаемой группой или субъектом в социальном пространстве. Шукшин отстаивал точку зрения подчиненных, являвшихся объектом культурной «обработки» групп и придерживался характерного способа маркирования универсальной оппозиции «материи» и «видимости»: «…действительность против подделки, имитации, пускания пыли в глаза, <…> натуральность (“он естествен”) и безыскусность против сложности, позерства, гримас, манерности и церемонности…»[438]438
Bourdieu P. Op. cit. S. 251.
[Закрыть] С точки зрения вписанной в габитус убежденности в подлинности «субстанции», «материи» того, что не формализовано, идет «от натуры», а не «от культуры», Шукшин и подвергал сомнению нормы культурного городского поведения.
В первом полнометражном шукшинском фильме и написанной по его следам киноповести (в основе сценария – рассказы «Классный водитель» и «Гринька Малюгин», оба 1963) городского пространства нет, но присутствие города обозначено в фабуле вереницей встреч главного героя, шофера Пашки Колокольникова, с представителями городского образованного класса. Социальное пространство современной деревни в изображении Шукшина – это пространство, видоизменяемое новыми для крестьянской среды культурными стандартами. Достаточно вспомнить знаменитую сцену демонстрации мод в сельском клубе. Показанная манекенщицами одежда, моделирование ведущей условных ситуаций ее использования (кормление «маленьких пушистых друзей»[439]439
Шукшин В.М. Живет такой парень. Т. 1. С. 233.
[Закрыть], работа в полеводческой бригаде, приятное времяпрепровождение на пляже, вечерние развлечения или комфортный домашний быт, допускающий пошив модного платья для повседневной носки) контрастно противопоставлены реалиям существования человека села´ (эпизоды грязной работы в колхозе, в которой заняты по преимуществу женщины) и обесценены своей надуманностью. Тем не менее, в сцене показа мод в сельском клубе камера внимательно фиксирует заинтересованные лица девушек-зрительниц, захваченных пропагандой иного образа жизни и старательно впитывающих доносящиеся со сцены рекомендации.
Критерии бытовой «культурности» в той или иной мере уяснены и главным героем фильма Пашкой Колокольниковым. Его «представление себя другим в повседневной жизни» (И. Гофман) периодически подчиняется власти этих не всегда понятных, но завораживающих норм. Желая произвести впечатление на библиотекаршу Настю, он представляется ей москвичом – фигурой в культурном смысле привилегированной. Затем в библиотеке он требует «Капитал» Маркса, где якобы осталась недочитанной глава (самостоятельное чтение, «проработка» классиков марксизма-ленинизма – одна из широко пропагандируемых в советском обществе практик самосовершенствования, и герой примеряет на себя маску «развитой» личности). Правда, попытки Пашки создать о себе впечатление как о человеке «культурном» дезавуируются им же самим – путем бесхитростной презентации подлинных вкусов и привычек («Люблю смешные журналы. Особенно про алкоголиков», «Сыграем в шашки… в шахматы скучно»[440]440
Там же. С. 231.
[Закрыть], – признается он Гене). Последние, согласно П. Бурдье, непосредственно связаны с габитусными характеристиками личности[441]441
Bourdieu P. Op. cit. S. 215–222.
[Закрыть] и выдают в Пашке «сельского жителя». «Образованность» и «культурность» размещены Шукшиным вне деревенского пространства, и герой пробует присвоить их, примеряя не свойственные ему роли. В итоге возникающий в мечтах Пашки собственный «культурный» образ, где он во фраке и цилиндре имитирует французский прононс, но находится при этом в антураже деревенской избы, оказывается карикатурой на интеллигентский проект преображения деревенской «неотесанности».
В киноповести и фильме «Живет такой парень» деревенский житель по большей части определялся мотивами, актуальными для «шестидесятнической» культуры. Речь идет, прежде всего, о мотиве искренности (подразумевавшей непосредственность самораскрытия личности, ее нравственную чистоту и доверие к миру[442]442
Ср.: «Я хотел сделать фильм о красоте человеческого сердца, способного к добру» (Шукшин В.М. Послесловие к фильму. С. 10).
[Закрыть]), который позднее Шукшиным будет включен в более объемные и сложно структурированные представления об «органичности» деревенского человека. О своем герое автор скажет, что тому «нет надобности выдумывать себе личину»[443]443
Шукшин В.М. Послесловие к фильму. С. 11.
[Закрыть], уточнив тут же – это свойство объединяет «простых» людей и людей «высококультурных». В самом деле, Пашкина игра в «культурность» инспирирована встречами с представителями города и в известной степени – стихийным артистизмом его натуры. В эпизоде поездки со случайной попутчицей, городской женщиной, герой подпадает под ее энергичные внушения. Она же воспринимает Пашку в качестве пластичного объекта намеченных позитивных преобразований. Пропагандистская часть ее речи выдержана в рамках интеллигентского просветительского дискурса о благоустроении деревенской жизни, но парадокс в том, что именно эта героиня не готова воспринять «человека из народа» в качестве полноправного субъекта коммуникации. Неудивительно, что обычно разговорчивый Пашка в ее возбужденно-напористую речь успевает вставить несколько реплик, которые тут же опровергаются («Это же пошлость, элементарная пошлость! Неужели это трудно понять?»[444]444
Шукшин В.М. Живет такой парень. С. 239.
[Закрыть]). Окончательно девальвирует ценность Пашки как самостоятельного и самоценного участника процесса общения муж городской женщины, оскорбляющий героя несправедливыми подозрениями. Они обретают форму резких упреков жене в неосторожном поведении, причем о присутствующем здесь же водителе, вопреки нормам этикета, говорится в третьем лице. Напоминание героини о том, что Пашка и есть тот народ, о котором в их кругу так много рассуждают, не меняет сути общения между представителями разных социальных страт. Персонажи-«интеллигенты» в какой-то момент начинают коммуникативно игнорировать Пашку: для образованного героя в модном свитере он – «шоферня», чьи действия совершенно непредсказуемы («тот самый народ, который сделает с тобой что хочешь и глазом не моргнет»[445]445
Показательно, что из киноповести эта саморазоблачительная для героя-интеллектуала фраза будет изъята.
[Закрыть]). Свойственная «интеллигентам» (в контексте фильма, следуя логике Шукшина, уместнее говорить о «псевдоинтеллигентах») смесь полубессознательных высокомерия, пренебрежения и опаски делает Пашку объектом то просвещения, то ожидаемого девиантного поведения.
Если возвращаться к пропагандируемым городской женщиной нормам новой «культурной» повседневности (обличение «думочек разных, подушечек, слоников дурацких»[446]446
Шукшин В.М. Живет такой парень. С. 239.
[Закрыть], предложение обставить помещение в новом «функциональном» стиле), то попытка реализовать их – в визуализированных режиссером мечтах Пашки и на практике, когда уже сам герой пытается разъяснить разведенной приятельнице Кате Лизуновой «серость» ее существования, – должны убедить зрителя в их неорганичности крестьянскому миру. Самоуверенно воспроизводя в разговоре с Катей усвоенные им с ходу стилевые приметы интеллигентской речи, Пашка обнаруживает словно сращенные с просветительским дискурсом эмоциональную глухоту и отсутствие деликатности, жертвой которых он ранее стал при общении с образованной попутчицей и ее мужем. Когда из самых добрых побуждений он призывает Катю избавиться от «пошлости» деревенского быта, обличает ее «некультурность» и предлагает новый сценарий поведения, позволяющий, как ему кажется, избавиться от участи «разведенки», он невольно отрицает ее личность, так или иначе сформированную «средой», хоть и не равную ей, и получает в ответ гневную отповедь, наподобие той, что произносил сам в адрес оскорбившего его городского интеллигента.
Советы Пашкиной попутчицы реорганизовать деревенский быт были выдержаны в риторике «обучающих» статей в журналах и газетах. Когда же такие советы дает герой, «считывание» их с готовых чужих культурных образцов становится еще более очевидным. Так же, как Пашка схватывает элементы чужого языка и культурного поведения, диссонирующие с его психосоциальным строем, деревенская повседневность, перепроектируемая по рекомендациям городской женщины (с современными репродукциями на стенах, торшером, тахтой и т. п.), переживается автором как «отчуждаемая», существующая по правилам новой социальной грамматики, которые необходимо специально разучивать, хотя и после этого они не становятся «своими»[447]447
Возможно, в попытках Пашки выйти одним рывком за пределы интерпретативных схем и практик, обусловленных его габитусом, нашла отражение ироничная попытка Шукшина описать собственный мучительный опыт «заимствования» чужого культурного языка. Ср.: Фомин В. Указ. соч. С. 404.
[Закрыть].
Шукшина, с одной стороны, глубоко уязвляли упреки в адрес Пашки, показавшегося иным критикам примитивным. Он убежденно доказывал, что дар героя быть «своим» в жизни[448]448
См.: Шукшин В.М. Послесловие к фильму. С. 11.
[Закрыть], его стремление к гармонии и красоте на условной аксиологической шкале расположены выше, нежели поведение «теть в красивых пижамах, которые в поездах, в купе, в дело и не в дело суют вам “спасибо” и “пожалуйста” и без конца говорят о Большом театре…»[449]449
Там же. С. 11.
[Закрыть]. С другой стороны, певцом «немытой», но аутентичной России Шукшин быть не собирался, и о необходимости образования говорил неоднократно и недвусмысленно:
Я сам еще помню, какой восторг охватывал, когда Чапаев в фильме говорил: «Я ведь академиев не кончал…» Не кончал, а генералов, которые академии кончали, лупит. <…> Попробуйте – сегодня вообразить героя фильма или книги, который с такой же обезоруживающей гордостью скажет: «я академиев некончал» – восторга не будет. Будет сожаление: зря не кончал. Эта «гордость низов» исторически свое отработала. Теперь надо кончать академии[450]450
Шукшин В.М. Судьбу выстраивает книга. Т. 8. С. 122.
[Закрыть].
Для своего героя Шукшин также в качестве желаемого намечает путь образования и приобщения к культуре. Об этом Пашке говорит его сосед по палате, прочитавший «много книжек» старый учитель: «Ты тоже счастливый, только… учиться тебе надо. Хороший ты парень, врешь складно… А знаешь мало»[451]451
Шукшин В.М. Живет такой парень. С. 260.
[Закрыть]. Предваряющая финальный сон героя сцена разговора с учителем от предыдущих ситуаций общения с интеллигенцией отличается кардинально, поскольку здесь Шукшин воссоздает идеальную для него на тот момент модель взаимодействия между интеллигентом и представителем народа. Устами учителя Шукшин формулирует свои представления, во-первых, о единственно оправданной цели внедрения «культурности» на селе – «учиться тебе надо»[452]452
Там же.
[Закрыть], во-вторых, об идеальном человеке, который должен быть «добрым, простым, честным»[453]453
Там же.
[Закрыть], но образованным. В финальном сне героя, действие которого разворачивается весной, Пашка одет в белую рубаху, что, с одной стороны, символизирует его чистую душу, а с другой, содержит коннотации, связанные с интеллектуальной наивностью. Учитель же в этой сцене в фильме предстает в атрибутированном интеллигенту массовым сознанием строгом костюме и при галстуке. Возможно, цветовое решение костюмов (светлый – темный) полубессознательно продиктовано воспроизведением отношений в паре «обучающий» (семантика завершенности, целостности) – «обучаемый» (семантика открытости, интеллектуальной «простоты»). Тем не менее, «простой человек» Пашка Колокольников, которому только предстоит учиться, в финале отстаивает свою независимость в праве формировать собственный жизненный сценарий. Роль «обучающего», интеллигента сводится к тому, чтобы дать «человеку из народа» направляющий импульс и впоследствии поддержать его:
– Ведь нельзя же сидеть и ждать, пока придет кто-нибудь и научит, как добиться счастья.
– Нельзя.
– А говорили, что можно. Упрощали, значит?
– Упрощал немножко.
– А зачем же? Будешь ждать, что найдется кто-нибудь, научит, а он возьмет и не найдется. Так ведь?[454]454
Привожу вариант диалога из фильма, в котором, помимо Пашки и Насти, участвует учитель.
[Закрыть]
Интересно, что, связав потенциальное развитие своего героя с образованностью и культурой, Шукшин в «народническом» духе все же продолжал апеллировать к интеллигенции, напоминая об этическом императиве ее деятельности – выполнить долг перед народом, то есть по-прежнему мыслил в границах ролевой асимметрии «просвещенной и просвещающей» интеллигенции и нуждающейся в «свете культуры» деревни. На этом основывалась сформулированная писателем в статье «Монолог на лестнице» (1968)[455]455
С точки зрения современных исследователей, «Монолог на лестнице» свидетельствовал о желании Шукшина риторически совпасть с «Новым миром», где он тогда публиковался, потому писатель «сделал вид», что принял культурные установки журнала (сама же статья варьировала расхожие интеллигентские тезисы о воспитательной роли классики, «хождении в народ» и т. п.). См. об этом: Куляпин А.И., Левашова О.Г. В.М. Шукшин и русская классика. Барнаул, 1998. С. 45–46.
[Закрыть] программа очередного «хождения в народ». Она содержала популярный в идеологическом языке 1960-х троп освоения целины и его непременные компоненты («сеятели» и «почва»). Но с тем же успехом ее можно возвести к традиции описания отношений российской политической и культурной элит с народными «низами» посредством внутреннеколониального дискурса, и позиция Шукшина в данном случае интересна своей амбивалентностью. Представитель «почвы» (по происхождению), ныне принадлежащий к статусным группам, он болезненно реагирует на уготованную крестьянину роль «культурно колонизуемого», но, несмотря на это, настаивает на необходимости просвещения для «почвы» и уповает на усилия культурных «верхов»:
Образовалась бы вдруг такая своеобразная «целина»: молодые люди, комсомольцы, вы всегда были там, где трудно, где вы очень нужны, где надо сделать благое великое дело! Сегодня нужны ваши светлые головы, ваши знания диковинных вещей, ваша культура, начитанность – «сейте разумное, доброе, вечное» в благодарные сердца и умы тех, кто нуждается в этом[456]456
Шукшин В.М. Монолог на лестнице. С. 33.
[Закрыть].
Другое дело, что Шукшин, сознавая невозможность решить культурные проблемы села «лекторскими набегами»[457]457
Шукшин В.М. Слушая сердце земли. Т. 8. С. 95.
[Закрыть], надеялся на превращение приехавшей в деревню образованной молодежи в «сельскую интеллигенцию», которая долгим и кропотливым трудом сможет привить деревенскому люду «настоящую культуру»[458]458
Там же. С. 95. Рассуждения Шукшина в этом интервью 1968 года о положении сельского учителя, не способного из-за перегруженности «нести культуру народу» (Шукшин В.М. Слушая сердце земли. С. 95), через четыре года практически без изменений будут перенесены в «Печки-лавочки».
[Закрыть].