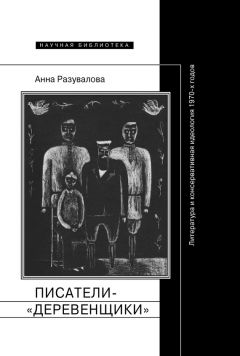
Автор книги: Анна Разувалова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Глава III
«НА ФОНЕ ПУШКИНА…»: КЛАССИКА И «ДЕРЕВЕНЩИКИ» (К ВОПРОСУ О КОНСТРУИРОВАНИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ)
«Что Белов, Астафьев, Распутин – прямые и законные наследники русской классики, для меня факт столь же бесспорный, как и для вас. Несомненно то, что “Привычное дело”, “Царь-рыба”, “Живи и помни” – крупное явление всей нашей художественной истории. Их не зачеркнут никакие публичные выступления авторов этих книг»[582]582
Н. Анастасьев – Ю. Давыдов. Любовь к «ближнему» или «дальнему»? // Литературная газета. 1989. 22 февраля. С. 2.
[Закрыть], – утверждал в 1989 году Николай Анастасьев. Первый аргумент, к которому он обратился, давая собеседнику понять, что осознает масштаб «деревенщиков», – упоминание об их преемственности по отношению к классической литературе XIX века, основному символу русского культурного величия. И хотя реплика Анастасьева прозвучала в пору горячего обсуждения советской интеллигенцией «перестроечной» демократизации общественной жизни, характерная для предыдущей, брежневской, эпохи отсылка к классике и преемственности все еще работала как «объективный», не зависящий от политической конъюнктуры довод.
«В качестве нормообразующих для русской литературы»[583]583
Литовская М.А. Прогностический потенциал прозы Валентина Распутина // Время и творчество Валентина Распутина. Иркутск, 2012. С. 30.
[Закрыть], и в этом смысле наследующих классике, произведения «деревенщиков» признали довольно рано. Первые статьи о них в специализированных педагогических журналах появились уже в 1970-е годы, что говорило о востребованности создававшихся текстов и предложенных в них моделей социализации[584]584
См.: Сурганов В. Свет в окне (о проблемах деревенской прозы В. Астафьева и Ф. Абрамова) // Литература в школе. 1971. № 4. С. 6 – 15; Лощиц Ю. У жизненных начал // Литература в школе. 1979. № 1. С. 5 – 12; Рыбаков В. «Везде жизнь…» По страницам прозы В. Белова // Семья и школа. 1979. № 6. С. 49–51; Крупина Н.Л. «А земля-то у нас одна» // Литература в школе. 1982. № 6. С. 56–60; Милых М.К. Заметки о языке повести «Последний поклон» В. Астафьева // Русская речь. 1982. № 1. С. 30–35; Бейлина К.С. О сборнике «Зорькина песня» // Детская литература. 1982. № 5. С. 44–45; Прищепа В. Без крови и страданий (о военных повестях В. Астафьева) // Учительская газета. 1984. 5 июня; Лавров В. Писатель читает классику: проблемы стилистического воздействия классики на современную литературу // Литература в школе. 1984. № 5. С. 9 – 15; Рыбаков В. Свет в родном доме: по страницам прозы В. Астафьева // Семья и школа. 1984. № 2. С. 50–51; Смирнова Л.А. С позиций историзма (Заметки о прозе Ю. Бондарева и В. Астафьева) // Литература в школе. 1984. № 6. С. 2 – 11; Звягинцева Г.К. Воспитание памятью // Литература в школе. 1987. № 3. С. 14–18; Христенко М.А. В тайге, у Енисея: Рассказы В.П. Астафьева на внеклассных занятиях в 3 классе // Начальная школа. 1987. № 5. С. 29–32.
[Закрыть]. В середине 1980-х годов Александр Лапченко о преемственности «деревенщиков» по отношению к русской классике рассуждал как о чем-то само собой разумеющемся:
В связи с прозой о деревне всегда неизбежно заходит разговор о традициях. Она традиционна в лучшем смысле этого слова, как традиционна для отечественной литературы и сама проблема «человек и земля»[585]585
Лапченко А.Ф. Человек и земля в русской социально-философской прозе 70-х годов. Л., 1985. С. 4.
[Закрыть].
Другими словами, примерно с конца 1970-х тезис о наследовании «деревенщиками» классической русской прозе требовал не принципиального обоснования, но конкретизации, которой занялись советские литературоведы[586]586
См. выборочную библиографию вопроса: Макина М.А. Деревенская проза 60 – 70-х годов в ее историко-литературном и современном контексте. Л., 1980; Ковский В.Е. Преемственность («Деревенская» тема в современной литературе). М., 1981; Кузьмук В.А. Василий Шукшин и ранний Чехов: опыт типологического анализа // Русская литература. 1977. № 3. С. 198–205; Драгомирецкая Н.В. Толстой и стилевые искания в современной советской прозе // Толстой и наше время. М., 1978; Дворяшин Ю.А. Традиции Ф.М. Достоевского в творчестве В.Г. Распутина // Проблемы творчества Ф.М.Достоевского. Поэтика и традиции. Тюмень, 1982. С. 97 – 108; Юдалевич Б.М. Сергей Есенин и Василий Шукшин // Известия Сибирского отделения АН СССР. Серия обществ. наук. 1981. Вып. 1. С. 148–154; Ермакова М.Я. Традиции Горького и Достоевского в современной социально-философской прозе (Повесть В. Распутина «Живи и помни») // Традиции и новаторство в художественной литературе. Горький, 1983. С. 36–53; Быстров В.Н. В.М. Шукшин и Ф.М.Достоевский (К проблеме гуманизма) // Русская литература. 1984. № 4. С. 18–33; Щепанова Т.А. Традиции М. Горького в творчестве В. Астафьева // Максим Горький и современный литературный процесс. Горький, 1984. С. 75–81; Гимпель С.И. Традиции Горького в творчестве В. Шукшина // Тенденции развития русской литературы Сибири XVIII–XX вв. Новосибирск, 1985. С. 78–90; Базанова А.Е. Традиции русской классической литературы (Ф.М. Достоевский, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов) в прозе В.М. Шукшина: Автореф. дис…. канд. филол. наук. М., 1986; Сатымова Р.Ю. Л.Н. Толстой и В.П. Астафьев. О литературных традициях // Сравнительное изучение национальных литератур. Ташкент, 1986. С. 89–96; Цветов Г. Право на наследство // Поиски и традиции. Л., 1986. С. 66–89; Логинов В.М. Традиции гуманистической поэтики В.Г. Короленко в творчестве В.П. Астафьева и В.Г. Распутина // Сибирские страницы жизни и творчества В.Г. Короленко. Новосибирск, 1987. С. 64–84; Сохряков Ю. Ненавидеть зло сейчас мало: О классической традиции в современной прозе // Наш современник. 1987. № 12. С. 162–171.
[Закрыть]. Ясно, что отношение к «деревенщикам» как продолжателям классической традиции, способным представлять на страницах школьных учебников аксиологическую и стилистическую норму, сложилось не сразу. В 1986 году Виктор Астафьев не без иронии напоминал, что современным апелляциям к «деревенской прозе» «по делу и без дела»[587]587
Астафьев В.П. К вершинному течению // Астафьев В.П. Собр. соч.: В 15 т. Красноярск, 1997. Т. 12. С. 599. Далее ссылка дается на это издание с указанием номера тома и страниц.
[Закрыть] предшествовало ее неприятие:
Любой «деревенщик», порывшись в столе, найдет вам десятки отповедей <…> критиков, где в закрытых рецензиях, давая «отлуп» тому или иному, ныне широко известному произведению, глумливо, с интеллектуальным сарказмом писалось, что в «век НТР и этакая вонь онучей?», «да куда же вы идете-то и насколько же отстали от жизни и передовых идей?»[588]588
Там же. С. 599–600.
[Закрыть].
Упреки «деревенщикам» в непонятной любви к «задворкам» цивилизации в самом деле периодически раздавались на протяжении 1960-х и 1970-х годов[589]589
См. ответ на эти обвинения: Абрамов Ф.А. О хлебе насущном и хлебе духовном. Выступление на VI съезде писателей СССР (1976) // Абрамов Ф.А. Собр. соч.: В 6 т. Л., 1990–1995. Т. 5. 1993. С. 8. Далее ссылки на это издание даются с указанием номера тома и страниц.
[Закрыть], но все же Астафьев заострил внимание лишь на одной, задевшей его писательское самолюбие, стороне вопроса. Факты, тем не менее, свидетельствуют и об обратном – наличии у писателей-«неопочвенников» поддержки со стороны критики и, как показали Николай Митрохин и Ицхак Брудный, представителей официальных инстанций[590]590
См.: Brudny Y. Reinventing Russia. Russian nationalism and the Soviet State, 1953–1991. Cambridge, Mass., 1998; Митрохин Н. Русская партия. Движение русских националистов в СССР. 1953–1985. М., 2003.
[Закрыть]. Роль символических преемников русской классической литературы, на которую критика «долгих 1970-х» совместными усилиями ввела «деревенщиков», также давала им ряд явных и неявных преимуществ. В этой главе речь пойдет о дискурсах традиции и наследования в процессах индивидуальной и групповой самоидентификации «деревенщиков». А поскольку новые интерпретации русской классики и базирующиеся на них схемы самообъяснения вырабатывались и распространялись критиками и публицистами, деятельности последних в этой главе также будет уделено особое внимание.
«Консервативный поворот» и «классикоцентризм»[591]591
Термин «классикоцентризм» заимствован из работы: Дубин Б. Массовая словесность – национальная культура – формирование литературы как социального института // Дубин Б. Классика, после и рядом: Социологические очерки о литературе и культуре. М., 2010. С. 90.
[Закрыть] «долгих 1970-х»
Чтобы убедиться в «классикалистских» предпочтениях культуры «долгих 1970-х», достаточно бросить беглый взгляд на периодику. Газеты и журналы сообщают о праздновании во всесоюзном масштабе юбилеев классических авторов, бурно обсуждают постановки классики на театральной сцене и в кино, предлагают новые варианты прочтения известных со школы текстов, в очередной раз констатируют благотворность влияния классического искусства на современность. Советские школьники, юноши и девушки брежневской поры, внимающие стихам Пушкина и что-то открывающие в этот момент в себе, – выразительная сцена из фильма Динары Асановой «Ключ без права передачи» (1976), ставшая визуализированной эмблемой интеллигентского переживания контакта с классикой-Культурой в годы «застоя». «Предстояние» героев перед памятником Пушкину, вслушивание в стихи современных поэтов знаменовали перемещение из казенно-правильного мира советской школы, ассоциируемой с государством, в пространство настоящих чувств и жизни.
Дискуссии о классике в позднесоветском газетно-журнальном пространстве возобновлялись регулярно, но оставляли впечатление пробуксовывающих на месте, – из года в год при помощи одних и тех же аргументов обсуждалась одна и та же «нестареющая» проблема «классика и современность». К классике как исторически специфицированному явлению эти дебаты имели косвенное отношение. Длившийся десятилетиями разговор о ней был ориентирован на другое – постоянное воспроизведение формул объяснения мира и человека, выработанных классикой и очерчивающих более или менее единое смысловое пространство для ее читателей, как «профессиональных», так и знакомых с ней в объеме школьной программы. По сути, русская классика, в качестве «великого наследия» окончательно апроприированная советскими институтами, в «долгие 1970-е» стала одним из главных факторов поддержания коллективной культурной идентичности разных слоев и групп.
«Классика всегда определяется тем, для чего ее используют»[592]592
Компаньон А. Демон теории / Пер. с фр. С. Зенкина. М., 2001. С. 281. Существенная для данной статьи проблематика социального функционирования классики рассматривается в работах: Jauss H. – R. Literarische Tradition und gegenwärtiges Bewusstsein der Modernität // Aspekte der Modernität. Göttingen, 1965; Die Klassik Legende. Frankfurt a. M., 1971; Kermode J.F. The Classic: Literary Images of Permanence and Change. Harvard University Press, 1983; Дубин Б., Зоркая Н. Идея классики и ее социальные функции // Проблемы социологии литературы за рубежом. М., 1983; Дубин Б. Слово – письмо – литература: очерки по социологии современной культуры. М., 2001; Он же. Классика, после и рядом.
[Закрыть], – заметил Антуан Компаньон, и существование русской классики в культуре «застоя» подтверждает точность этого наблюдения. Интеллигентская среда и массовый читатель разделяли уверенность в том, что именно классика способна дать ответы на вопросы и запросы, исходившие от противоположно ориентированных социальных групп. Несменяемость авторитетов, составлявших классический пантеон, регулярность празднуемых юбилеев, продуцировали смыслы, связанные с утешительной для власти идеей стабильности существующего порядка. Одновременно диссидентствующая часть советской интеллигенции черпала из произведений А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.И. Герцена поучительный опыт «тайной свободы». В признании всеобщей значимости отечественной классики были солидарны тогда и традиционалисты, и «новаторы». Основополагающий тезис доклада Петра Палиевского, с которым он выступил в ходе дискуссии «Классика и мы» (1977) – «не столько мы интерпретируем классику… сколько классика интерпретирует нас»[593]593
Классика и мы // Москва. 1990. № 1. С. 184.
[Закрыть], – вызвал единодушное согласие у всех, кто бурно оппонировал друг другу в ходе сопровождавшегося скандалами заседания. «Опора на нравственный авторитет классики, аргументация от традиции»[594]594
Белая Г.А. Категория художественной традиции в освещении современной критики // Современная литературная критика. Семидесятые годы. М., 1985. С. 142.
[Закрыть] (курсив автора. – А.Р.), по определению Галины Белой, стали интеллектуально-эстетическими приоритетами 1970-х, а неизбежные издержки «классикализации» культуры этого периода в иронической формуле суммировал Станислав Рассадин: «трепет перед классикой стал такой же модой, как прежнее отрицание ее»[595]595
Рассадин Ст. Не ходите в театр с папой // Литературная газета. 1976. 9 июня. С. 8.
[Закрыть].
Очередная «нобилитация» классики протекала в контексте позднесоветской «нобилитации традиции»[596]596
Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990. С. 366.
[Закрыть]. В 1970-е культурный радикализм 1920-х годов стал официально рассматриваться как возмутительный «перегиб» и проявление нигилизма, вовремя пресеченные Лениным[597]597
См., например: Сахаров А.Н. История истинная и мнимая // Молодая гвардия. 1970. № 3. С. 303–304.
[Закрыть]. О небезобидности переворачивания культурной иерархии, в результате которого классику уже как-то раз сбросили «с парохода современности», часто напоминала правая критика в лице П. Палиевского, Вадима Кожинова, Михаила Лобанова, Юрия Селезнева и др.[598]598
«Использование» классики для конструирования «претендующей на общезначимость традиции» свойственно группам, консолидированным «сознанием эрозии нормативного порядка значимых культурных авторитетов» (Дубин Б., Зоркая Н. Идея классики и ее социальные функции. С. 42).
[Закрыть] Впрочем, идея безусловного авторитета русской классики находила самый широкий отклик у многих групп позднесоветской интеллигенции[599]599
Впрочем, поддержка эта не была и не могла быть повсеместной и безусловной. У консерваторов были конкуренты, полагавшие, что любовь к классике должна дистанцировать от государства, а не приближать к нему на опасное для свободомыслящего интеллигента расстояние. Ср.: «То, что меня отталкивало, была особая разновидность любви к классикам, любви без риска, без личного решения, любовь к разрешенному и рекомендованному, попутно с бранью по адресу нового, рискованного и официально запрещенного. То есть примерно то, что делали Палиевский и Кожинов» (Померанц Г. Записки гадкого утенка. М., 1998. С. 232).
[Закрыть], в том числе и тех, кто не исповедовал «неопочвеннических» идеалов, но полагал, что культурный консерватизм, то есть поддержание иерархично устроенной классикоцентричной культуры, есть единственно разумная политика, позволяющая, во-первых, поставить преграду «упрощению», «безвкусице», «пошлости», во-вторых, изжить неискорененную с 1920-х годов «левизну»[600]600
В «изживании левизны» композитор Георгий Свиридов увидит самое ценное содержание брежневской эпохи, культура которой работала на постоянное подтверждение авторитета классического наследия (См.: Свиридов Г.В. Музыка как судьба. М., 2002. С. 568).
[Закрыть]. Консенсус на почве защиты классики от современной «антикультуры» порождал неожиданные союзы. Так, во время дискуссии «Классика и мы» в унисон с Палиевским и Лобановым выступила Ирина Роднянская, проработавшая с 1971 по 1976 год в «прогрессивном» ИНИОНе и публиковавшаяся в «Новом мире»[601]601
Некоторые коллизии дискуссии «Классика и мы» рассмотрены в статье: Липовецкий М., Берг М. Мутации советскости и судьба советского либерализма в литературной критике семидесятых // История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи. М., 2011. С. 489–492.
[Закрыть]. В своей речи она уподобила классику «незыблемой пристани в водах <…> культурного релятивизма»[602]602
Классика и мы // Москва. 1990. № 3. С. 188.
[Закрыть] и высказала несогласие как с формалистским ви´дением проблемы наследования через «канонизацию» и «остранение», так и с современными социологическими штудиями (в частности, книгой Игоря Кона «Социология личности», 1967), поскольку оба подхода, с ее точки зрения, подтачивали главенство классической литературы. Как видим, типичная для консерватизма апелляция к «устойчивым» структурам[603]603
Ср. свойственную национально-консервативной среде критику принципа «относительности»: Семанов С.Н. О ценностях относительных и вечных // Молодая гвардия. 1970. № 8. С. 308–320.
[Закрыть] (классика здесь выступает гарантом сохранности традиционной аксиологической иерархии) сплотила в «долгие 1970-е» разные интеллектуальные группы, но правые силы продвинулись в этом направлении дальше остальных и попытались обосновать классикоцентристским аргументом уникальность исторического пути России: если великая классика XIX века, предсказавшая все проблемы современности, есть главное достояние России[604]604
См.: Кожинов В. «И назовет меня всяк сущий в ней язык…»: Заметки о духовном своеобразии России // Кожинов В. Размышления о русской литературе. М., 1991. С. 17–62; Селезнев Ю. Лучшее, что создано нами // Селезнев Ю. Глазами народа: Размышления о народности русской литературы. М., 1986. С. 4 – 12. Этот ряд работ можно продолжить статьями о России как о «цивилизации Слова», могущество которой противники подрывают, устраняя выдающихся писателей: Кожинов В. Великое творчество. Великая победа. М., 1999 (в раздел о Пушкине вошли тексты, написанные в 1970 – 1980-е годы); см. также предложенную Селезневым версию гибели М.Ю. Лермонтова: Бурляев Н. «Я грудью шел вперед, я жертвовал собой…» // Бурляев Н. Жизнь в трех томах. Избранные произведения: В 3 т. М., 2011. Т. 1. С. 454–462.
[Закрыть], то надо предпринять меры по ее защите от «искажений».
Примечательным образом оживление интереса к «традиционным ценностям» и классической литературе в «долгие 1970-е» совпало с очередной интенсификацией употребления критиками, искусствоведами и обществоведами понятия «народность». В качестве идеологического клише «народность» в русской культуре XVIII–XIX веков имела долгую и замысловатую историю[605]605
См.: Богданов К.А. О крокодилах в России: Очерки из истории заимствований и экзотизмов. М., 2006. С. 130–145.
[Закрыть], перипетии которой в позднесоветских парафразах «народности» каким-то образом учитывались. В обновленной версии 1960 – 1970-х годов «народность» соотносилась с «простонародностью» и «демократизмом», генерируемыми антиэлитаристским настроем. Историко-генетически он был связан, помимо прочего, со сталинским национал-большевизмом[606]606
См.: Бранденбергер Д. Национал-большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931–1956). СПб., 2009.
[Закрыть] и легитимировал «народ» в качестве главной, но социально трудно опознаваемой исторической силы. Кроме того, «народность» в этот период понималась в духе известного пушкинского высказывания[607]607
«Народность в писателе есть достоинство, которое вполне может быть оценено одними соотечественниками – для других оно или не существует или даже может показаться пороком. <…> Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу» (Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Изд. 4-е. Л., 1978. Т. 7. С. 28).
[Закрыть] – как воплощение специфичных для национальной культуры форм мышления, чувствования, поведения. Формирующийся правый лагерь с 1960-х годов рассуждал о «народности» как синониме «национального своеобразия», хотя употребление последнего понятия было более жестко регламентировано[608]608
Следования классовым критериям и внятного различения «понятий “народ” и “нация”, “национальный” и “народный характер”» требовал, например, известный критик «Октября» (См.: Строков П. О народе-«Саврасушке», о «загадках» русского характера и исканиях «при свете совести» // Октябрь. 1968. № 12. С. 193). Национальная проблематика в СССР не табуировалась полностью, хотя неосторожное обращение с ней было чревато обвинениями в шовинизме и национализме. В большинстве случаев термины «национальное своеобразие», «национальный характер» использовались в отношении литератур союзных республик, чья «инаковость» была нужна для поддержания реноме многонациональной советской культуры. В 1960-е годы ссылки на «национальный характер» в гуманитарных исследованиях стали настолько частыми, что Ю. Суровцев увидел в этом настораживающую тенденцию и поднял тревогу по поводу «схоластических» объяснений «национального своеобразия искусства» «психическим складом народа» (см.: Суровцев Ю. В тисках предрассудка // Литературная газета. 1964. С. 2–3). Ход вялой дискуссии доказывал, что языка для рефлексии «национального», помимо того, что сложился вокруг знаменитого сталинского определения нации, не было. Суровцев, к примеру, соглашался признать, что «мир личности художника вовсе небезнационален», хотя отказывался считать «национальный характер» «регулятором» культуры, его оппоненты заявляли, что «национальный характер» нужно понимать материалистически и тогда в качестве аналитического инструмента он станет вполне приемлем (см.: Джусойты Н. Авторитетна только истина // Литературная газета. 1965. 14 января. С. 3; Зингер Е. Вопрос намного сложнее // Литературная газета. 1965. 4 февраля. С. 3). В возобновившемся спустя некоторое время обсуждении этой проблемы применительно к современному литературному процессу категорию «национальный характер» в споре с критиком В. Оскоцким уже по традиции отстаивали представители национальных литератур (см.: Оскоцкий В. Литературный герой и его национальный характер // Дружба народов. 1966. № 5. С. 259–273; Бязарти К. Национальный характер в искусстве и в действительности // Дружба народов. № 7. С. 254–258; Пакальнишкис Р. Проблема национального своеобразия и творческая практика // Дружба народов. 1966. № 8. С. 269–276; Пархоменко М. Проблемы национального и интернационального в эстетике Ивана Франко // Дружба народов. 1966. № 9. С. 242–247; Чимпой М. Национальный характер и художественное мышление // Дружба народов. 1966. № 10. С. 270–273). Примечательно, что Суровцев и Оскоцкий, высказывавшиеся в ходе дискуссии за соблюдение методологических принципов советского марксистско-ленинского литературоведения, в 1970 – 1980-е годы периодически оппонировали «неопочвенникам» – пропагандистам «национального своеобразия» русской культуры (см.: Суровцев Ю. О национальной самобытности и «фантастически вычурной любви» к ней // Литературное обозрение. 1973. № 2. С. 60–70; Оскоцкий В. Не слишком ли долгое прощание? // Вопросы литературы. 1977. № 2. С. 34–49).
[Закрыть]. «Наращиванием народности в литературе», «все большим ее влиянием на общественное, даже политическое сознание, несмотря на преследования со стороны антирусской (будущей “демократической” прессы)»[609]609
Лобанов М.П. В сражении и любви. М., 2003. С. 165.
[Закрыть], датировал конец 1960-х годов М. Лобанов, тем самым откровенно обнаруживая этноцентристские смыслы «народности», то «корневое», «русское», что было важно для правых сил и не имело в интернационалистском официальном политическом лексиконе приемлемого обозначения. Но даже тогда, в конце 1960-х – 1970-е годы, был заметен дискурсивный сдвиг, возникший в результате удачного манипулирования этим концептом: приспособив давно ставшую элементом официального «новояза» «народность» к своим целям[610]610
Ср.: Хватов А. Духовный мир человека и координаты времени // Звезда. 1968. № 4. С. 192–208; Уроки Льва Толстого // Молодая гвардия. 1969. № 12. С. 267–294; Иванов Ю. Корни народности // Молодая гвардия. 1969. № 2. С. 298–310; Он же. Эхо русского народа // Молодая гвардия. 1969. № 6. С. 286–294; Селезнев Ю. Лучшее, что создано нами. С. 63.
[Закрыть], «неопочвенники» представили ее как отличительное свойство русской культуры, а нацию (не класс), «раскинувшуюся поверх социальных барьеров», перевели в ранг «основной движущей силы истории»[611]611
Добренко Е., Калинин И. Литературная критика и идеологическое размежевание эпохи оттепели: 1953–1970 // История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи. С. 469–470.
[Закрыть].
Подобно дихотомии «традиции и новаторства», понятие «народность» в «долгие 1970-е» было элементом критико-литературного дискурса нескольких интеллектуальных групп: ее использования чуждались исследователи-структуралисты, зато официозная, «неопочвенническая» и либеральная критика, жонглируя этой категорией, ранжировали явления современной литературы и объясняли телеологию отечественной культуры. Согласно Ю. Селезневу, одному из ведущих критиков национально-консервативного направления, стихийная народность древнерусского периода в XIX веке сменилась народностью сознательной, воплощенной «передовыми вестниками»[612]612
Селезнев Ю. Залог возрождения в народности // Селезнев Ю. Глазами народа. С. 301.
[Закрыть] духовных сил народа (аристократами, не порвавшими с «почвой», – Пушкиным, Гоголем, Достоевским, Толстым). На следующем этапе новое качество народности возникло в начале ХХ века, после искушения декадансом и авангардистскими концепциями. Наконец, во второй половине ХХ века на литературной сцене появились авторы, поднявшиеся «непосредственно от земли и станка к высотам (курсив автора. – А.Р.) отечественной и мировой культуры…»[613]613
Селезнев Ю. Лучшее, что создано нами. С. 75.
[Закрыть]:
Процесс обновления в нынешней литературе, связанный в последние полтора-два десятилетия главным образом с так называемой «деревенской» прозой, без преувеличения можно определить словом «возрождение» (пусть и с маленькой буквы): возрождение в народности (разрядка автора. – А.Р.)[614]614
Там же. С. 74.
[Закрыть].
«Деревенщики» в роли преемников: Особенности критического дискурса
Если ориентироваться на прозрачную схему Ю. Селезнева, место главных наследников русской классической литературы национально-консервативная критика отвела писателям-«неопочвенникам», хотя другого мнения по поводу культурного генезиса «деревенской прозы» не было и у критиков противоположных взглядов – споры могли идти о том, что именно в традиции XIX века особенно актуально для «деревенщиков»[615]615
См. диалог В. Чалмаева и Льва Аннинского, в котором мнения критиков относительно «предтеч» «деревенской прозы» в литературе XIX века разошлись. Чалмаев полагал, что в силу ориентации авторов-«неопочвенников» на идеал «натурального человека» это Федор Решетников, Николай Успенский, Николай Помяловский, в то время как Аннинский указывал на значимость толстовской традиции (См.: Проза. Этика. Эстетика: Диалог критиков Льва Аннинского и Виктора Чалмаева // Литературная Россия. 1976. 2 января. С. 8).
[Закрыть], но их общее следование в русле классической традиции казалось несомненным, а на фоне безликого письма эпигонов соцреализма еще и отрадным. «Деревенщики», в самом деле, по многим параметрам идеально подходили на роль «продолжателей» – структурно их тексты были дистанцированы от литературы, претендовавшей на элитаризм (в СССР это произведения, ориентированные на модернистски-авангардистскую эстетику), и литературы массовой, однако именно такое их устройство в наибольшей степени отвечало представлениям о «классическом». По существу, «деревенская проза» соединила умеренные значения новизны (в основном, тематической, связанной со злободневными общественными проблемами) с апелляцией к традиционному / традиционалистскому «образу мира в его целостности, единстве с “изначальным” и “высшим”, соответствующими конструкциями пространства-времени, экспрессивными средствами – эстетическими конвенциями, языковыми нормами»[616]616
Дубин Б. Словесность классическая и массовая: литература как идеология и литература как цивилизация // Дубин Б. Слово – письмо – литература. С. 315.
[Закрыть]. «Формулой» текстов, которые можно «подключить» к классической традиции, по мнению Бориса Дубина, был баланс между «отдельными, отобранными, переосмысленными и переоцененными элементами и “элитарного”, и “массового”»[617]617
Там же. С. 316.
[Закрыть]. «Деревенская проза», несомненно, отвечала этому критерию, поскольку нравоучительность и бытописательскую зоркость «массовой» словесности сумела связать с отказом от «идеологической позитивности»[618]618
Там же. С. 315.
[Закрыть] и интересом к языку социально-географической периферии.
С почти единогласным мнением советской критики о «деревенщиках» – «наследниках» резко диссонировали суждения литературоведа Юрия Мальцева в эмигрантском «Континенте». Мальцев усомнился в возможности зачислить «промежуточных» (то есть идеологически не «советских», не «антисоветских») писателей в разряд продолжателей классической литературы, ибо в их творчестве «во всем, что касается техники письма, культуры выражения, эстетического кругозора и творческой фантазии», он наблюдал «явный регресс»[619]619
Мальцев Ю. Промежуточная литература и критерий подлинности // Континент. 1980. № 25. С. 291.
[Закрыть]. С точки зрения Мальцева, подобно тому, как советская культура неумело подражает русской культуре, «деревенщики» лишь имитируют верность заветам классики. На деле же они глубоко испорчены необходимостью мимикрировать, дабы сохранить возможность публиковаться в государственных издательствах. Критик моралистически выставлял «деревенщикам» счет за конформизм и максималистски разоблачал их двуличие, отнимавшее право наследовать русской классике[620]620
Полемика о «деревенщиках» как наследниках классики продолжилась в зарубежной эмигрантской периодике. Свидетельством отрыва от «народа» и «почвы» и последовавшей за этим аберрацией зрения посчитал позицию Мальцева Николай Вехин (Евгений Вагин). Отвечая критику «Континента», он называл «деревенскую прозу» «подлинной литературой нравственного сопротивления» и утверждал, что именно «деревенщики» «являются истинными продолжателями традиций русской классической литературы…» (Вехин Н. Что делает русскую литературу – русской? // Вече. 1982. № 5. С. 68).
[Закрыть]:
Интересно посмотреть, как эти писатели сами понимают традиции реализма. Можаев, например, говорит о «глубине идей и жизненной достоверности» произведений этих новых реалистов, к числу которых принадлежит и он сам, говорит о «достоверном, бескомпромиссном изображении действительности» и «высшей гражданственности». И тут же дает пример этой гражданственности, дважды подобострастно упомянув в своей статье «вдохновенную» книгу товарища Брежнева[621]621
Мальцев Ю. Указ. соч. С. 292–293.
[Закрыть].
Понятно, что сами по себе «деревенщики» Мальцева занимали мало: проблематизация идеи наследования ими русской классической литературе была частью с жаром утверждавшегося антисоветского идеологического дискурса, наиболее радикальные выразители которого из эмигрантской среды отсутствие открытой конфронтации с властью считали свидетельством постыдного компромисса. Поэтому страстная инвектива Мальцева по поводу «деревенщиков» – псевдонаследников русской прозы XIX века легко сворачивалась до риторического вопроса: если наиболее талантливые и честные советские авторы без особого успеха тщатся выдать себя за наследников классики, то не является ли это лучшим доказательством полного бессилия советской культуры? Немного позднее, в 1986 году, руководствуясь не столько этико-идеологическим максимализмом, сколько эстетическим антитрадиционализмом, Саша Соколов попытался уязвить «деревенщиков» замечанием о «заскорузлости» реалистического письма и следовании «традиции» Арины Родионовны, но не Пушкина (первая, согласно Соколову, вела к бесконечному тиражированию образа мужика, в то время как вторая могла бы сделать современную русскую прозу частью европейской культуры[622]622
См.: Саша Соколов – Д. Глэд // Глэд Д. Беседы в изгнании: Русское литературное зарубежье. М., 1991. С. 197.
[Закрыть]).
Однако и в среде советских критиков в тот момент, когда «деревенщики», казалось бы, миновали фазу упреков в «ретроградстве» и снискали справедливую репутацию «наследников» классики, раздавались голоса сомневавшихся в продуктивности движения в русле традиционализма. На этот раз нарекания исходили от Александра Проханова, в дальнейшем лидера постсоветских «имперцев». Это обстоятельство заставляет взглянуть на его упреки «деревенщикам» с точки зрения конфликта позднесоветского, в лице «деревенщиков» пассеистического и антимодернистского, национализма и советско-постсоветского, по большей части воинственно модернистского имперского государственничества[623]623
См. о Проханове – певце «технотронной России»: Бондаренко В. Имперский герой А. Проханова // Бондаренко В. Дети 1937 года. М., 2001. С. 407–418. Позднее Проханов сам обозначил идеологический «водораздел» между собой и «деревенщиками». Пункт их принципиальных расхождений, в его трактовке, – отношение к государству: «…деревенщики индифферентны к проблемам государства. В своих работах они, скорее, тоже антигосударственники. Трагедия русского крестьянства, трагедия русскости в период социализма сформировала из них полудиссидентов. Это теперь, когда разрушено государство и когда мы оказались на руинах страны, когда пришли страшные либеральные мародеры, они стали воспевать государство, да и то не в творчестве своем, а в манифестальных статьях» (Проханов А. «Я пишу портрет государства» // Бондаренко В. Дети 1937 года. С. 397).
[Закрыть]. Первые тексты Проханова, закрепляющие его в статусе профессионального писателя (рассказ «Свадьба», 1967, повести «Радуйся», «Иду в путь мой», 1971), тематически еще были связаны с модной «национально-традиционалистской» проблематикой второй половины 1960-х[624]624
Об имитативно-стилизационной природе ранних опусов Проханова и их автопародийности см.: Данилкин Л. Человек с яйцом: Жизнь и мнения Александра Проханова. М., 2007. С. 201–208, 234.
[Закрыть]. «Психологические открытия» и «экзистенциальные озарения» случались с героем Проханова во время его путешествий по «исконной» России, поездок в деревню, где он слушал песни, общался с «простыми» людьми и пробивался к долгожданному осознанию культурной подлинности и связи времен («Радуйся»). Однако уже в очерках «Неопалимый цвет» (1972), изображавших процессы обновления в деревне, Проханов не смог удержаться от иронии в адрес писателей, которые «балалаечными устами поют <…> грустно-щемящую прощальную песню»[625]625
Проханов А. Неопалимый цвет. М., 1972. С. 8.
[Закрыть] в адрес русской печи. В романе «Кочующая роза» (1974–1978) герой с выраженными автобиографическими характеристиками еще более решительно отмежевывался от элегического любования прошлым и в характерной патетически-цветистой манере обосновывал перспективность модернистской позиции:
Нарождается новое слово, новейшее… Новая реальность, из-под праха, из-под всех обветшалых мыслей, из-под всех бурьянов, могил. Я видел сегодня ее рожденье. Эта реальность пустила корень в нефтяные пласты и недра, до самой мантии, магмы. А соцветьем уходит прямо в космос, в кометы, в спектры сияний. Она фантастична, свежа, молода, как бабочка, в радужных отсветах. <…> А те – все назад, назад! Цепляются за предания, за родовую память. Из Рюрика уроки хотят извлечь. На том, не ими нажитом состоянии хотят сегодня разжиться… Я отказался! Пусть они там со своими святынями, древностями, пусть по святцам детей нарекают. Я их люблю по-прежнему. Они нужны как музеи[626]626
Проханов А. Кочующая роза. М., 1976. URL: http://royallib.ru/read/ prohanov_aleksandr/kochuyushchaya_roza.html#0.
[Закрыть].
Через несколько лет, когда Проханов статьей «Метафора современности» открыл дискуссию «Деревенская проза: большаки и проселки» (1979)[627]627
См.: Проханов А. Метафора современности // Литературная газета. 1979. 12 сентября. С.4.
[Закрыть], последние сомнения на счет адресата его романной инвективы развеялись. «Цепляющимися за предания», разумеется, оказались «деревенщики». Характерную для второй половины 1960-х годов риторику обвинений в «отсталости» Проханов через десятилетие реанимировал и пустил по второму кругу, оснастив ее техницистскими обертонами[628]628
Ф. Абрамов, откликаясь на эту дискуссию, заявлял: «То хвалили-хвалили деревенскую прозу, за передовой отряд современной литературы выдавали, а сегодня – все у “деревенщиков” худо: НТР – а ныне это главный аршин у литературных закройщиков – не углядели, целину прохлопали, до социально активного героя не доросли, вместо современности – заскорузлая патриархальщина; язык, который всегда считался сильной стороной “деревенщиков”, засоряют диалектизмами и всяким иным словесным мусором… <…> Но вот что удивительно – кому же все это адресовано? Белову, Евг. Носову, Залыгину, Солоухину, Распутину, Можаеву? Молчок» (Абрамов Ф.А. Сотворение нового русского поля: Интервью для журнала «Наш современник». Беседа с доктором филологических наук В. Бузник. Т. 5. С. 290). Недоумение Абрамова и его ссылки на возобновившиеся атаки со стороны критики, конечно, были частью непрекращавшейся борьбы за наиболее престижные позиции на литературном поле. Примечательно, что автор критических замечаний в адрес «деревенщиков», Проханов, стилизацией некоторых мотивов «деревенской прозы» приблизивший их к китчу, долгое время оставался вызывающе чужим для «неопочвенников» («Проханов был воплощением всего того, выступая против чего они сделали себе репутации» – Данилкин Л. Указ. соч. С. 287). В лице Проханова впервые отчетливо о своих претензиях на лидерство заявила новая интеллектуальная группа, взгляды и поведение которой «неопочвенникам» были в принципе неясны. Однако впоследствии, в 1990-е, именно Проханов дал некоторым критикам и писателям патриотического лагеря институциональное «укрытие» (газеты «День»/«Завтра»), хотя идеологическая дистанция между ними сохранилась.
[Закрыть]. Он поставил в вину «деревенской прозе» нежелание замечать позитивные сдвиги в области промышленно-технологического развития и прозрачно намекнул на тупиковость тематического и характерологического традиционализма «неопочвенников»:
Может создаться впечатление, что именно боль распада создает ту поэтическую ситуацию, в которой современной нашей культуре хорошо. Она начинает дышать, творить. Возникает литература, «школа». Почему?
Если спросить об этом самих представителей «школы», пусть не учителей, а учеников, то услышишь ряд объяснений. Ну, скажем, таких: путь искусства пролегает через душу, а не через экономику и политику, и главным образом через душу больную, скорбящую, как было всегда в русской литературной традиции. Задача искусства – ловить постоянное, вечное, отыскивать его в сиюминутных случайных явлениях, а именно такими, не выверенными вечностью явлениями выглядят перемены в сегодняшнем селе, и именно такими, вечными, незыблемыми выглядят основы мужицкого самосознания, сохраняемые если не жизнью, то литературой. Русская литература – продолжают нас убеждать – всегда была равнодушна к тому пласту жизни, где зарождалась политическая, государственная идея, а писала «маленького человека»… Много чего еще говорят, объясняя торжество нынешней «деревенской школы» <…> Мне кажется, современная наша культура допускает заведомое сужение кругозора, предвзятость и самоограничение, каноническое пристрастие к определенному человеческому типу[629]629
Проханов А. Метафора современности. С. 4. Впоследствии Проханов говорил, что дискуссия, в ходе которой он, «может быть, не совсем тактично», обвинил «деревенщиков» в «старомодности, уездности, земскости» (Проханов А. Хождение в огонь: Путешествие по собственной жизни. М., 2011. С. 35), надолго рассорила его с ними, но позволила четко обозначить собственный взгляд на необходимость индустриального роста.
[Закрыть].
В развернувшейся вслед за статьей Проханова полемике большинство оказалось не на его стороне[630]630
В той или иной степени точку зрения Проханова поддержали: Гусев В. Земля и небо // Литературная газета. 19 сентября. 1979. С. 4; Коваленко В. Этот строгий судия – время // Литературная газета. 1979. 3 октября. С. 4; Устинов А. «Первый парень на деревне» // Литературная газета. 1979. 10 октября. С. 4; Бондаренко В. В новую деревню – на телеге? // Литературная газета. 1979. 5 декабря. С. 4. Развернутую и язвительную отповедь, как и следовало ожидать, дал один из «деревенщиков». См.: Можаев Б. Где дышит дух? // Можаев Б. Надо ли вспоминать старое? М., 1998. С. 427–438.
[Закрыть]. У пропагандируемого «деревенщиками» поиска «правды» в глубинах «народной жизни», любования уходящим, этнически и культурно специфичным крестьянским миром, уничтожаемым цивилизационными новшествами, у их эстетизированного пассеизма и ностальгии была обширная группа потребителей-(по)читателей, часть которых искренне полагала, что эскапистское «возвращение к истокам» поможет обрести утраченное в ходе бурных исторических перемен[631]631
О влиянии сюжетно-риторических схем «деревенской прозы» на автобиографический нарратив «человеческих документов» 1970 – 1980-х годов см.: Козлова Н.Н. Советские люди: Сцены из истории. М., 2005. С. 130–131.
[Закрыть]. Технократический модернистский энтузиазм Проханова находился вне пределов социального и культурного опыта такого читателя, соответственно и жанрово-стилевой гибрид (гео)политического и производственного романа с элементами условной поэтики, в создании которого Проханов позднее преуспеет, обретет своего читателя уже в постсоветскую эпоху[632]632
Стратегическую дальновидность Проханова отмечает Брудный: «Лучше чем кто-либо из ведущих русских националистов-интеллектуалов того времени Проханов понял, что меняющаяся природа российского общества и глобальные технологические изменения потребуют значительной трансформации националистической идеологии. Он считал, что город, технологически грамотная интеллигенция держит ключ к российской способности сохранять статус супердержавы. Следовательно, русская националистическая идеология должна быть притягательной прежде всего и преимущественно для этой социальной страты, однако добиться этого невозможно, не положив конец доминированию деревенской прозы внутри движения» (Brudny Y. Op. cit. P. 155–156). Симпатизирующие националистическому движению в современной России историки также полагают, что голос Проханова потонул в «антимодернистском хоре» потому, что националистическая среда проявила редкостную «интеллектуальную слепоту и психологическую глухоту», в очередной раз отказавшись признать «фундаментальную реальность – победу города и городского образа жизни» (Соловей Т., Соловей В. Несостоявшаяся революция: Исторические смыслы русского национализма. М., 2009. С. 249).
[Закрыть].
В качестве сообщества «деревенщики» отличали себя от конкурирующих групп прокламируемым уважением к авторитету классики, однако поначалу их традиционализм существовал как неясная интенция, лишь постепенно оформляясь в более или менее отрефлексированную позицию, правда, так и необозначившуюся литературным манифестом. Происходило это при деятельном участии правой критики, роль которой в придании «неопочвенническому» классикоцентристскому традиционализму дискурсивной завершенности была огромна. Лидер и теоретик национал-консерваторов В. Кожинов полагал, что с шестидесятнической модой на антитрадиционализм нужно бороться: выросшая из неприятия антикосмополитической кампании конца 1940-х – начала 1950-х годов и насаждавшегося тогда культа русского искусства, она уже привела к «увлечению различными явлениями зарубежных литератур»[633]633
Кожинов В. «Самая большая опасность…» // Кожинов В. Россия как цивилизация и культура. М., 2012. С. 750.
[Закрыть] и демонстративному охлаждению к отечественной традиции. Кожинов цитировал типичные для «оттепельных» умонастроений и саморазоблачительные, с его точки зрения, ответы литераторов на анкету «Молодые о себе» (Вопросы литературы. 1962. № 2): «Не думаю, чтобы писателю была полезна близость с литпредшественниками»[634]634
Цит. по: Там же. С. 751.
[Закрыть], или «Русская классическая литература своим величием часто гипнотизирует современного писателя. Опыт же ХХ века давно требует своего языка, способного художественно синтезировать время»[635]635
Там же.
[Закрыть]. Появление в литературном процессе 1960-х годов писателей, олицетворявших «корневое» начало, нарочито чуждавшихся претензий на выработку нового языка, критиками национально-консервативного крыла было преподнесено как верный признак давно ожидаемой «смены вех»[636]636
См.: Ланщиков А. «Исповедальная» проза и ее герой // Ланщиков А. Времен возвышенная связь. М., 1969. С. 3 – 33; Петелин В. Россия – любовь моя. М., 1972. С. 247–333; Михайлов О. Поиски корня // Михайлов О. Верность. М., 1974. С. 61; Лобанов М. Уроки «деревенской прозы» // Лобанов М. Внутреннее и внешнее. М., 1975. С. 154–174; Кузнецов Ф. Самая кровная связь: Судьбы деревни в современной прозе. М., 1977. С. 3 – 10.
[Закрыть], перехода от «прогрессизма» и утопизма к традиционализму и «реставрации» (политически это совпало с кризисом непоследовательных десталинизаторских усилий).
Если маркирующий «долгие 1970-е» дискурс наследования классике рассматривать в аспекте его воздействия на процессы самоидентификации авторов-«неопочвенников», то неизбежно встанет наивный вопрос: как ощущали себя в роли преемников классики художники, полагавшие, что они прорвались к культуре «из низов»? Признание Астафьева: «Меня тоже иногда называют учеником и преемником какого-нибудь классика… Но сам я никогда не осмеливался и не осмелюсь потревожить прах великих писателей…»[637]637
Астафьев В.П. Пересекая рубеж. Т. 12. С. 209.
[Закрыть], на мой взгляд, вовсе не проявление деланной скромности, но косвенное свидетельство того, как трудно было освоиться с ролью преемника даже состоявшемуся автору (процитированное признание относится к 1974 году). Думается, присвоенный критикой «деревенщикам» статус наследников стимулировал у них – мучительно боровшегося со своей «непросвещенностью» Астафьева[638]638
См.: Астафьев В.П. Нет мне ответа… С. 466.
[Закрыть] или сетовавшего на пробелы в образовании Василия Белова[639]639
См.: В. Белов – В. Бондаренко. Молюсь за Россию // Бондаренко В. Серебряный век простонародья. М., 2004. С. 195.
[Закрыть] – серьезные внутренние усилия по самоидентификации «на фоне Пушкина». «За нашей спиной стоит такая блистательная литература, возвышаются горами такие титаны, – уверял Астафьев, – что каждый из нас, прежде чем отнять у них читателя хотя бы на день или час, обязан крепко подумать над тем, какие у него есть на это основания?»[640]640
Астафьев В.П. Сопричастный всему живому // Лауреаты России: Автобиографии российских писателей. М., 1980. С. 24.
[Закрыть]
Далее я сосредоточу внимание на образе классики, выстроенном «неопочвенническим» сообществом, и ее роли в формировании коллективной идентичности «деревенщиков». Такой подход оставляет за рамками исследования апробированную отечественным литературоведением проблематику: «традиции Толстого (Пушкина, Гоголя и др.) в творчестве Абрамова (Шукшина, Солоухина и др.)», которая обычно исследовалась компаративистски, в аспекте эволюции поэтики или преемственности «нравственно-философских исканий». Меня же в большей степени будет интересовать, как апелляции к русской классике, истолкование ее «идеологии», мотивов, приемов работали на самолегитимацию «неопочвенников», в чем заключалась специфика рецепции классики XIX века «деревенщиками» (конечно, при условии, что такая специфика вообще существовала). Сначала будет охарактеризована мотивная топика «неопочвеннической» критики и публицистики, сосредоточенных на осмыслении феномена классики и проблеме «преемственности», затем – варианты проблематизации «деревенщиками» опыта классической литературы.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































