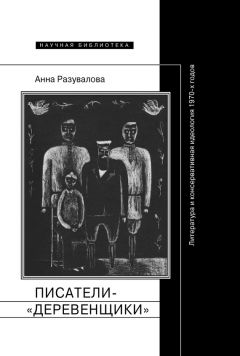
Автор книги: Анна Разувалова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
В снятом через год после фильма «Живет такой парень» «Вашем сыне и брате» (для киноповести использованы мотивы рассказов «Игнаха приехал», 1963, «Степка», 1964, «Змеиный яд», 1964)[459]459
Сценарий «Вашего сына и брата» после выхода фильма «был обработан в форме повествования. <…> В тексте киноповести увеличена доля авторского слова и нет такой явной установки на звучащую разговорную речь» (Комментарии // Шукшин В.М. Собр. соч. Т. 3. С. 372).
[Закрыть] «культурность» была изъята из контекста шестидесятнических культуртрегерских утопий и показательно соотнесена автором с кругом символов и мотивов, варьирующих идею забвения «корней». Об одном из героев, Игнате Шукшин прямо говорит: «В нем мне хотелось показать драму человека, оторвавшегося от родной почвы»[460]460
Шукшин В.М. Слушая сердце земли. С. 95.
[Закрыть]. На этот раз Шукшин в соответствии с новеллистическим построением фильма трижды меняет место действия (деревня – город – деревня). Замедленной пейзажной экспозицией он связывает деревню с естественностью природного бытия, в то время как город визуально дается через смену локусов вокзала, общежития, площади, аптеки, цирка, наконец образцовой квартиры современного горожанина[461]461
См. обстоятельный анализ «городских» мотивов в прозе Шукшина: Ковтун Н.В. Образ городской цивилизации в поздних рассказах В.М. Шукшина: миметический и семантический аспекты // Вестник Томского гос. ун-та. Филология. 2012. № 1. С. 74–93.
[Закрыть]. Таковым в киноповести и фильме предстает бывший деревенский житель Игнат Воеводин, ныне служащий борцом в цирке, то есть успешно эксплуатирующий наследственную, «природную» силу. Жизненная стратегия героя отчетливо достижительски ориентирована («Я хочу, чтоб Воеводины жили не хуже других»[462]462
Шукшин В.М. Ваш сын и брат. Т. 3. С. 196.
[Закрыть]), и именно он организует свой быт, словно следуя советам городской дамы из фильма «Живет такой парень». В его новой квартире есть «и тахта, и торшер, и “современные репродукции”, и телевизор, и транзистор, и холодильник – полный набор вещей, которые вкупе образуют оптимистическое единство, чрезвычайно близкое к идеалу»[463]463
Рудницкий К. Проза и экран // О Шукшине. С. 90.
[Закрыть]. Игнат, по его же представлениям, идеально адаптировался к жизни в городе: он состоялся в профессиональном плане, оброс нужными знакомствами, выгодно женился. Его приезд в родную деревню спустя пять лет отсутствия явно задуман для демонстрации собственной успешности. По признаку демонстративности поведения автор разводит Игната с уехавшим в Москву, но еще не прижившимся там братом Максимом и деревенской родней. В фильме прибывший на Алтай герой выходил из такси и, сняв шляпу (обязательный атрибут «культурности» в творчестве Шукшина[464]464
Шляпа, отмечает современный исследователь, – элемент исключительно городского гардероба, знак принадлежности к интеллигентному слою (см. «Чудик», «Земляки», «Внутреннее содержание», «Генерал Малафейкин», «Дебил»), потому она прежде всего бросается в глаза «сельскому жителю». Например, в фильме «Ваш сын и брат» старик Воеводин со смехом ощупывает и пытается примерить шляпу, в которой пришел в гости один из его односельчан. Деревенский герой, стремящийся купить / носить шляпу, таким образом, нередко симулирует переход в другую, более привилегированную, группу. См.: Шляпа // Творчество В.М. Шукшина: Энциклопедический словарь-справочник. Т. 2. С. 139.
[Закрыть]), патетически провозглашал: «Здравствуй, матушка-Катунь!», чем вызывал оторопь у идущей к реке бабы. В киноповести сцена приезда Игната в родной дом начиналась с программной для автора антитезы громкости / претенциозности и тишины / непритязательности:
В дальнейшем развитии сюжета удивление «шибко нарядной» женой Игната[466]466
В рассказах Шукшина взгляд нарратора, дистанцирующегося от праздной городской публики, обычно фиксирует одну из главных характеристик одежды городских персонажей – ее непрактичность (она «шикарная», часто светлых тонов, стесняющая движения) (см. об этом: Одежда // Творчество В.М. Шукшина: Энциклопедический словарь-справочник. Т. 2. С. 111).
[Закрыть] и противопоставление самодовольной бравады героя застенчивости младшего, деревенского брата будет только углублять непримиримый конфликт «искусственности» и «подлинности». По Шукшину, городской образ жизни, причастностью к которому упивается герой, предполагает две составляющие, каждая из которых имеет сугубо презентационную природу: это культура потребления и культура тела. То и другое рассчитано на демонстрацию внешнему наблюдателю, то и другое диктует стилистику поведения Игната. Он и его жена привозят родственникам подарки в диапазоне от необходимых (сапоги и пуховый платок для стариков-родителей) до изысканных (красивое, но малоуместное в деревне платье для младшей сестры). В ответ на растерянную фразу о преобладании на подаренных вещах рисунка в полоску, Игнат уверенно объясняет: «Дух времени! Мода, тять!»[467]467
Реплика из фильма.
[Закрыть]. Описание воскресного дня в столице, последовавшее за распросами матери о новой жизни сына в Москве, выливается в перечисление культурно престижных объектов и материально-потребительских благ, доступных теперь Игнату: это фонтан «Дружба народов» – «шестнадцать золотых статуй», ресторан «Узбекистон», «лагманчик, шашлычок, манты», «а дальше, как в сказке»[468]468
Реплики из фильма.
[Закрыть] – «налитое» (то есть опять-таки искусственное) озеро с черными и белыми лебедями, похожими, по словам Игната, на тех, что изображены на ковре в доме стариков Воеводиных. Собственно, реплика героя «как в сказке» и «ожившие» лебеди с ковра переводят его рассказ из модальности сказочного и желаемого в модальность реальности, осуществившейся при переезде в город мечты.
Родная деревня обесценена героем отчасти из-за отсутствия в ней «культурной» инфраструктуры, то есть специально организованных и, что немаловажно, предназначенных для демонстрации социального статуса мест. Шукшин при этом почти гротескно обостряет ситуацию: отбывавший срок в колонии Степан Воеводин также сравнивает культурную жизнь деревни и мест лишения свободы и приходит к выводу, что в последнем случае она куда более насыщенна. То, что культура здесь сведена к серии просветительских и развлекательных акций – от чтения лекций до демонстрации фокусов, героя не смущает:
Социальная успешность Игната транслируется его кинетикой и одеждой («в шикарном костюме, под пиджаком нарядный свитер, походка чуть вразвалочку – барин»[470]470
Там же. С. 195.
[Закрыть]), а также новой риторикой. Герой охотно произносит, судя по всему, многократно повторявшийся и рассчитанный на удивленную реакцию слушателей монолог об отсутствии культуры тела у русского человека:
Как тебе объяснить?.. Вот мы, русские, – крепкий ведь народишко! Посмотришь на другого – черт его знает!.. – Игнат встал, прошелся по комнате. – Откуда что берется! В плечах – сажень, грудь как у жеребца породистого – силен! Но чтобы научиться владеть этой силой, выступить где-то на соревнованиях – Боже упаси! Он будет лучше в одиночку на медведя ходить. О культуре тела – никакого представления. Физкультуры боится, как черт ладана. Я же помню, как мы в школе профанировали ее[471]471
Там же. С. 200.
[Закрыть].
Формально справедливая критика Игнатом вредных привычек русского человека (небрежение данной от природы силой, стихийность, хождение «в лавку» по каждому поводу) не находит у автора понимания, поскольку для него она – явление чужого культурного языка и знак «отчуждения» героя от своей «сущности» – русской и деревенской (Ермолай Воеводин говорит ему: «А ты, Игнат, другой стал… Ты, конечно, не замечаешь этого, а мне сразу видно»[472]472
Там же. С. 202.
[Закрыть]). Очевидно, что борьба городского и деревенского братьев, к которой подначивает их отец, потенциально должна была обозначить символическую победу либо «корней», либо «цивилизации», но Шукшин уклонился от столь прямолинейной развязки. Тем не менее, вся система художественных средств, сюжетная структура киноповести и фильма, написанных позднее рассказов работали на разоблачение симулятивного характера «культурности».
В отличие от обличительно-моралистической «антимещанской» литературы и публицистики, многозначительно противопоставлявших внешнюю «культурность» богатому «внутреннему содержанию», Шукшин полагал, что «внутреннее содержание» – тоже своего рода штамп, успешно усвоенный «окультуренным» современником. В одноименном рассказе 1967 года, фабульно развивавшем знаменитый эпизод демонстрации мод из фильма «Живет такой парень», «внутреннего содержания» в девушках-моделях не хватает как раз полугородскому-полудеревенскому Ивану, в то время как деревенский брат Сергей готов воспринимать новых знакомых – городских девушек-моделей, обходясь без интерпретационных и стилистических клише. Из двух братьев Сергей более независим от поведенческого стандарта, принятого «красивыми беззаботными»[473]473
Шукшин В.М. Внутреннее содержание. Т. 3. С. 82–83.
[Закрыть] людьми, но и он чувствует притягательность недоступного образа жизни (заключительная реплика рассказа: «Шляпу, что ли, купить?»[474]474
Там же. С. 83.
[Закрыть]). Сопоставление братьев, один из которых, несмотря ни на что, устойчив, а другой – податлив к «соблазнам» городской цивилизации, приводит Светлану Козлову к мысли о том, что шукшинский рассказ – аллегория противостояния России и Запада, поэтому сюжетообразующую сцену показа мод она комментирует, прибегая к риторике конфронтации:
Разложение трудового рефлекса обеспечивается диверсией в зону нравственных оснований – естественной для невинной юной души стыдливости (имеется в виду контрастность призыва завклубом «одеваться» и раздевающейся на сцене манекенщицы. – А.Р.). Наконец, появление на сельской площади «красного автобуса» из «городского» Дома моделей эксплицируется здесь как культурная интервенция. Дегтярев «упорно называл» клуб ДК – Дом культуры, что означало локализацию культуры в безграничном «некультурном» пространстве России, требующем «окультуривания»[475]475
Творчество В.М. Шукшина в современном мире: Эстетика. Диалог культур. Поэтика. Интерпретация. Барнаул, 1999. С. 257.
[Закрыть].
Несмотря на то, что такой язык шаржирует и аллегоризирует рассказ «Внутреннее содержание», усложнение контекстов критики «культурности» Шукшиным с конца 1960-х годов оспорить трудно[476]476
Очевидно, что «культурность» читалась Шукшиным через призму антимодернистского дискурса, подозрительного ко всем формам «буржуазности». «Неопочвенники» – критики и писатели методично, масштабно и, если говорить о прозе, часто эстетически убедительно тематизировали тревогу перед экспансией стандарта и «техницизма», разделявшуюся, кстати, и другими интеллектуальными группами. В подобной ситуации логика соотнесения «цивилизации» со «стандартом», да еще в дискурсивной связке с «народностью» и «национальным своеобразием», порождала удивительные переклички и коалиции. Так, Лариса Крячко, представлявшая ортодоксальный «Октябрь», в дискуссии об интеллектуализме (1968–1969) призывала задуматься о «противоречии между диктуемой техникой… стандартизацией производства и быта и стремлением человека уберечь свою индивидуальность. Это противоречие – частность существующего ныне перемешивания национальных культур, крестьянского и городского уклада, наступления техники на природу и многих других обстоятельств, сегодня неизбежных, но угрожающих складывавшейся веками, имеющей свои святые традиции целостности народного бытия» (Крячко Л. Соблазны «техницизма» и духовность // Литературная газета. 1969.22 января. С. 5). Концептуально и риторически это утверждение отлично согласовывалось с «антибуржуазным» пафосом «неопочвенников» и, в общем, могло служить разъясняющим комментарием, пусть прямолинейным, к некоторым шукшинским текстам второй половины 1960-х, в том числе «Вашему сыну и брату», но ирония ситуации в том, что именно Л. Крячко была одним из самых упорных критиков двух первых кинематографических работ Шукшина.
[Закрыть]: постепенно в его творчестве складывается историософская концепция, в которой «неопочвенническое» упование на «коренной» крестьянский тип ослабевает, а мотивы опасности «чужебесия» и государственного насилия, напротив, разрабатываются более детально. Содержание «культурности» все меньше занимает писателя и режиссера, поскольку она уже превратилась в шаблон поведения современного человека, причем и городского, и – ситуативно – деревенского.
В начале 1970-х годов представления о культурно организованном быте села´ стали одним из элементов государственного курса на ликвидацию различий между городом и деревней, «подтягивания» деревни до уровня города. Отголоском шедших тогда дискуссий о политике «выравнивания», а по сути огосударствления и централизации сельского хозяйства, в фильме «Печки-лавочки» (1972), закрывающем повествование об «алтайском колхознике в условиях городской цивилизации»[477]477
Зоркая Н. Актер // О Шукшине. С. 159.
[Закрыть], был «один маленький вопрос»[478]478
Шукшин В.М. Печки-лавочки. Т. 5. С. 259.
[Закрыть]. Его тракторист Иван Расторгуев задавал попутчику – вору Виктору Александровичу:
…чем больше я получаю, тем меньше я беспокоюсь, что после меня вырастет. <…> Беспокоюсь я за пашню? Нет, я по-человечески, конечно, беспокоюсь, как же. Но, все равно, это не то. Я вспахал, и моя песенка спета. <…> Я вспахал – получил, он посеял – получил, а хлеба, например, нету. А мы денюжку получили[479]479
Там же. С. 259.
[Закрыть].
То, что в терминах марксистской политэкономии называлось «отчуждением тружеников от средств производства», Шукшин рассматривает в «неопочвенническом» контексте уничтожения основы крестьянского образа жизни – идеологии «хозяина на земле», «работника не по найму, а по убеждению»[480]480
Шукшин В.М. Насущное как хлеб. С. 100.
[Закрыть]. Распад базовых институтов крестьянского мира, ускоривший маргинализацию деревенских жителей, переживание ими культурной депривированности делали все более реальной перспективу их переезда в город, и Шукшин это прекрасно осознавал. Не случайно адресованный чете Расторгуевых вопрос вора-попутчика: «А куда сейчас-то? Место подбирать, куда бежать?»[481]481
Шукшин В.М. Печки-лавочки. С. 260.
[Закрыть] Иваном расценивается как умышленно злой и провокационный.
Отличие «Печек-лавочек» от «Вашего сына и брата», где «культурность» представала сомнительным достоинством городских персонажей, в том, что тут основными маркерами внешней «культурности» снабжен деревенский житель. Отправляясь из дома «к югу» (наделенному в мифопоэтике киноповести семантикой райского места и одновременно, в рассказах курносого попутчика из киноповести, – искушения[482]482
Александр Куляпин считает, что мотивы провокации и искушения, связанные с городской («западной») цивилизацией, в «мифе о России», созданном поздним Шукшиным, имеет смысл трактовать предельно широко, едва ли не в геополитическом контексте (см.: Куляпин А.И. Указ. соч. С. 46).
[Закрыть]), Иван Расторгуев отказывается от привычного рабочего гардероба (фуфайка, кепка, кирзовые сапоги – таким он предстает в начальных кадрах фильма). Он переодевается сообразно экстраординарному случаю (путешествие) и представлениям о стиле, приличествующем событию, – шляпа, костюм, галстук. Комический эффект (а Шукшин подчеркивал, что намерен снять именно комедию[483]483
«Под комедией же здесь можно разуметь то, что является явным несоответствием между истинным значением и наносной сложностью и важностью, какую люди пустые с удовольствием усваивают. Все, что научилось жить не по праву своего ума, достоинства, не подлежащих сомнению, – все подлежит осмеянию, т. е. еще раз напомнить людям, что все-таки сложность, умность, значимость – в простоте и ясности нашей, в неподдельности», – объяснял Шукшин свой замысел (Комментарии // Шукшин В.М. Собр. соч. Т. 5. С. 416).
[Закрыть]) автор извлекает из несовпадения внешних признаков «цивилизованности» и коммуникативных привычек героя. Настороженный в незнакомой обстановке, не приспособленный к анонимности и дистанцированности межличностных контактов в городе, Иван постоянно нарушает неявную для него границу личного пространства собеседника. На вокзале в очереди в кассу (эта сцена в развернутом варианте есть только в киноповести) он задает нелепый вопрос: «За билетами?» и получает грубоватый ответ: «Нет, за колбасой». Не смутившись нелюбезностью собеседника, одетого, кстати, также сообразно культурному стандарту – в костюм и шляпу, – он продолжает разговор:
– Далеко?
Человечек опять отвлекся от газеты, посмотрел на Ивана.
– В Ленинград.
– А я к югу.
– Хорошо. <…>
Иван помолчал, посмотрел вокруг… Посмотрел на длинную очередь… Заглянул через плечо человеку – в газету.
– Ну, что там?
Человек раздраженно качнул головой, сказал резковато:
– В Буэнос-Айресе слона задавили. Поездом. <…>
– А как же поезд? – спросил Иван.
– Поехал дальше. Слушайте, неужели охота говорить при такой жаре?
Иван виновато замолчал. Он думал, что в очереди, наоборот, надо быть оживленным – всем повеселей будет[484]484
Шукшин В.М. Печки-лавочки. С. 254.
[Закрыть].
Герой озабочен тем, чтоб скрыть растерянность от перехода в городское пространство, и стремится вести себя «непринужденно», слишком оживленно общаясь с попутчиками и пробуя в этой коммуникации интуитивно выбрать правильную дистанцию между ними и собой (на деле Иван, имеющий навыки общения только в небольшом сообществе с тесными личными связями, неоправданно то сокращает, то увеличивает ее). Как следствие, маркирующая городское поведение и не совпадающая с культурным опытом Ивана «непринужденность» актерски им разыгрывается, копируется с виденных когда-то образцов. Нечто подобное происходит в доме профессора:
Иван-гость и Нюра сидели на стульях прямо, неподвижно.
– Иван, Нюра… вы распрямитесь как-нибудь… Чувствуйте себя свободней!
Иван пошевелился на стуле, а Нюра как сидела, так и осталась сидеть – в гостях-то она знала, как себя вести[485]485
Там же. С. 287–288.
[Закрыть];Надо <…> развязней быть. Поговорить… <…> А то сидим, как аршин проглотили[486]486
Там же. С. 288. В фильме эта сцена усилена выразительной кинетикой героя, принимающего «расслабленную» позу и отвечающего на призыв профессора чувствовать себя непринужденно деланно-понимающей улыбкой. Иван лапидарно советует жене: «Распрямляйся, Нюрка, правда, <…> сидим как эти…»
[Закрыть], –
советует герой жене.
Иван Расторгуев наделен автором некоторыми типологическими характеристиками героя-«чудика»: он «не дает поставить себя в общий ряд»[487]487
Распутин В. Твой сын, Россия, горячий брат наш… О Василии Шукшине // Распутин В. В поисках берега. С. 312. Распутин специально подчеркивал «некультурность» шукшинского героя-чудика, являющуюся, по его мнению, протестом против унифицирующих дисциплинарных ограничений: чудик – «человек отнюдь не лучших правил и установлений» (Там же. С. 310), но стремящийся отстоять «свое естественное право быть самим собой» (Там же. С. 312).
[Закрыть], неподатлив к усвоению растиражированных схем восприятия и поведения, непосредствен, однако его «неокультуренность» окружающим кажется «неотесанностью» и даже «ненормальностью» персонажа. Шукшин же объясняет свойства «чудика» демократизмом и «глубоким, давним чувством справедливости»[488]488
Шукшин В.М. Признание в любви (Слово о «малой родине»). С. 54. В оценке интернализации социальных норм, способствующей, по М. Фуко и Н. Элиасу, процессу цивилизации, «деревенщики» проявляли себя сторонниками романтического «естественного», потому не исключающего аффектации поведения. Тут же истоки их интереса к человеку «непосредственному».
[Закрыть], то есть «исконно» народными качествами, стираемыми в процессах цивилизующего обучения (дисциплинаризации). В «Признании в любви» он иллюстрирует эту идею сценой подчеркнуто «нецивилизованного» поведения, содержащего вызов формальному праву, административно и законодательно прописанным нормам, но более соответствующего, с авторской точки зрения, принципам социальной солидарности:
Как-то ночью в купе вошла тетя-пассажирка, увидела, что здесь сравнительно свободно (в бойкие месяцы едут даже в коридорах купейных вагонов, сидят на чемоданах, благо ехать близко), распахнула пошире двери и позвала еще свою товарку: «Нюра, давай ко мне, я тут нашла местечко!» На замечание, что здесь – купе, места, так сказать, дополнительно оплаченные, тетя искренне удивилась: «Да вы гляньте, чо в коридоре-то делается!.. А у вас вон как просторно». Отметая в уме все «да» и «нет» в пользу решения вопроса таким способом, я прихожу к мысли, что это – справедливо. Конечно, это несколько неудобно, но… но уж пусть лучше мы придем к мысли, что надо строить больше удобных вагонов, чем вести дело к иному: одни будут в коридоре, а другие – в загородочке, в купе. Дело в том, что и в купе-то, когда так людно, тесно, ехать неловко, совестно. <…> Человек, начиненный всяческими “правилами”, но лишенный совести, – пустой человек, если не хуже[489]489
Шукшин В.М. Признание в любви (Слово о «малой родине»). С. 54.
[Закрыть].
То же презрение к регламенту и кодификации раскрывает эпизод из «Печек-лавочек», в котором Иван требует от директора санатория поселить с ним приехавшую без путевки жену («Я один буду по санаториям прохлаждаться, а она дома сидеть? Несправедливо»[490]490
Шукшин В.М. Печки-лавочки. С. 297. Ср. также с рассказом «Материнское сердце», героиня которого слепо апеллирует к «природному» чувству родства, игнорируя нормы закона.
[Закрыть]). Всюду, где он наталкивается на внешние дисциплинарные предписания, он подозревает принуждение и обман[491]491
Ср. гневный пассаж по поводу «нелепых» цивилизационных правил, оправдывающих несвободу, из «Зрячего посоха» В. Астафьева: «Существо, которое не может вольно перейти улицу, только по указке палочкой, по намеченному переходу, тротуару, дорожке, иначе его попросту задавят; существо, отправляющееся на работу и с работы по часам, по часам и в срок служить, справлять нужду, любить, страдать; существо, потерявшее ориентацию, заблудившееся, неосознанно смешивает чувства, понятия, вопросы нравственности» (Астафьев В.П. Зрячий посох. С. 132).
[Закрыть] и реагирует бунтом либо шутовством[492]492
Кстати, по этой схеме создаются критиками «негативные» портреты Шукшина – акцентируется писательский «анархизм», хулиганство, «разгульность» и т. п., в общем, конструируется представление о личности, склонной к девиантному поведению (одна из последних статей, где «разоблачение» Шукшина ставится на «научную» основу дегенералогии Г. Климова: Бурьяк А. Василий Шукшин как латентный абсурдист, которого однажды прорвало. URL: http://bouriac.narod.ru/Shukshin.htm).
[Закрыть].
Стихийность «не посаженого на иглу поведения» героя, его способность к сопротивлению (в форме резкого отпора, как в случае ссоры с «командировочным», или в форме своеобразного «юродства» на выступлении в институте перед ученой публикой) образуют «архетипическую» основу народного типа по Шукшину. Структуру такого характера писатель обдумывал в связи с образом Стеньки Разина во время работы над сценарием фильма (1968) и романом «Я пришел дать вам волю» (публ. 1974)[493]493
См. о романе и концепции образа Степана Разина: Коробов В.И. Шукшин. Годы и творчество // Волга. 1981. № 9. С. 147–151; Аннинский Л. Комментарии // Шукшин В.М. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. С. 442–453; Дронова Т.И. Литературные контексты романа В.М. Шукшина «Я пришел дать вам волю» // Творчество В.М. Шукшина в межнациональном культурном пространстве. С. 96 – 108; Плеханова И.И. Степан Разин – шукшинское решение дилеммы «С кем быть – с Христом или истиной?» // Творчество В.М. Шукшина в межнациональном культурном пространстве. С. 189–206.
[Закрыть]. Ольга Скубач справедливо пишет, что шукшинский интерес к фигуре Степана Разина обусловливался, помимо прочего, современными процессами эрозии деревенского уклада. Восстание Разина было последним в исторической перспективе инцидентом, «когда “свое” (в данном случае казачество) еще способно было активно сопротивляться агрессии “чужого” (социальной элите и государству)…»[494]494
Скубач О.А. К семантике образа героя-путешественника в произведениях В.М. Шукшина // Творчество В.М. Шукшина как целостность. Барнаул, 1998. С. 57.
[Закрыть] Более чем красноречивые, оправданные традиционным для советской историографии интересом к народно-освободительным движениям, высказывания Шукшина о Разине («Какова цель движения Степана Разина? Цель эта – свобода, вековая мечта народа. Москва – это олицетворение врага»[495]495
Шукшин В.М. «Стенька для меня – вся жизнь…» Т. 8. С. 138.
[Закрыть] или «На Руси тогда начиналось закрепощение крестьянства. Оно разбегалось, оно искало заступников… <…> для меня он прежде всего крестьянский заступник, для меня, так сказать, позднейшего крестьянина, через триста лет…»[496]496
Шукшин В.М. «Я родом из деревни…». Т. 8. С. 170. Авторы комментариев к публицистике Шукшина проводят прямую параллель между «закабалением, закрепощением русского крестьянства», против которого выступал Разин, и коллективизацией (см.: Комментарии // Шукшин В.М. Собр. соч. Т. 8. С. 340).
[Закрыть]) приводят Ирину Плеханову к выводу, что Шукшин в романе и задуманном фильме, «оправдывая Разина, боролся на два фронта: защищал народ, т. е. крестьянство, от государства и сопротивлялся изживанию нравственного начала из истории и сознания, смирившегося с этим»[497]497
Плеханова И.И. Степан Разин – шукшинское решение дилеммы «С кем быть – с Христом или истиной?» С. 196.
[Закрыть]. Разумеется, возможностей сколько-нибудь откровенного художественного высказывания на тему «государство – народ» в подцензурной культуре практически не было. Кроме того, съемки фильма о Разине откладывались, и Шукшин искал возможности и средства (чаще всего аллюзийно-ассоциативного плана), которые бы позволили ему выразить мысль о длящемся веками государственном насилии по отношению к крестьянству[498]498
О политически более радикальной и потому не имеющей перспектив реализоваться идее Шукшина показать крестьянское сопротивление власти вспоминал В. Белов: «Макарыч поведал мне об одном своем замысле: “Вот бы что снять!” Он имел в виду массовое восстание заключенных. Зэки разоружили лагерную охрану. Эта история произошла где-то близко к Чукотке, потому чтo лагерь двинулся к Берингову проливу, чтобы перейти на Аляску. <…> Сколько народу шло на Аляску, и сколько верст им удалось пройти по летней тайге? Войск для преследования у начальства не было, дорог в тайге тоже. Но Берия (или Менжинский) послал в таежное небо вертолеты… Геликоптеры, как их тогда называли. С малой высоты почти всех беглецов расстреляли. Макарыч задыхался не от усталости, а от гнева. Расстрелянные мужики представились и мне. Поверженные зэки, так четко обрисованные в прозе Шаламова, были еще мне неизвестны. Читал я на эту тему всего лишь одного Дьякова. Шукшин поведал мне свою мечту снять фильм о восставшем лагере. Он, сибиряк, в подробностях видел смертный таежный путь, он видел в этом пути родного отца Макара, крестьянина из деревни Сростки…» (Белов В. Тяжесть креста. С. 17).
[Закрыть]. В рассказе «Жена мужа в Париж провожала…» он при помощи блестяще отработанного в советской литературе приема переадресации ключевых идей текста «отрицательному» герою разоблачает Кольку Паратова устами жены-мещанки:
Я вот расскажу кому-нибудь, как ты мечтал на выставке: «Мне бы вот такой маленький трактор, маленький комбайник и десять гектаров земли». Кулачье недобитое. Почему домой-то не поехал? В колхоз неохота идти? Об единоличной жизни мечтаете с мамашей своей… Не нравится вам в колхозе-то?[499]499
Шукшин В.М. «Жена мужа в Париж провожала…». Т. 5. С. 212.
[Закрыть]
В дальнейшем Шукшин, простраивая мотивно-символические параллели, в подлежащих цензурированию и, по признанию художника, «шифруемых» произведениях пытался выразить драматическое видение взаимоотношений крестьянства и государственной власти. Мотив невозможности для русского мужика полноценного существования на родной земле стал центральным в последней работе Шукшина, «Калине красной» (1974) – фильме и киноповести, но и там его идеологическая острота была продуманно смикширована (мело)драматическим пафосом[500]500
В фильме Губошлеп, обращаясь к Люсьен, говорит о Егоре: «Не жалей ты его. Он человеком никогда не был. Он был мужик. А их на Руси много». Шукшин, предупреждая опасное толкование фразы, заранее предложил идеологически безупречную версию ее интерпретации: «А что касается его (Егора. – А.Р.) бывших “дружков”, то здесь мне и не хотелось бы сглаживанья углов. Это поистине какие-то выродки со своей, извините за выражение, “философией”. <…> Видите – убивают не просто “перековавшегося” вора, убивают убежденного противника, врага, открыто противопоставившего их “принципам” мораль трудового человека» (Шукшин В.М. Самое дорогое открытие. Т. 8. С. 136). Однако в перспективе постановки фильма «Я пришел дать вам волю», в центре которого должен был оказаться конфликт народа и государства, реплика Губошлепа выражает широко практикуемое утилитарно-презрительное отношение к крестьянству, а тема «уничтожения» мужика превращается в концептуальное ядро позднего творчества Шукшина.
[Закрыть]. «Печки-лавочки» на этом фоне – более предсказуемы и традиционны. В них Шукшин уже привычно защищал героя-крестьянина от агрессивного культурного высокомерия города, но выдвигал на первый план мотив социальной и культурной приниженности крестьянства («народа»), точнее, гражданской ущемленности труженического сословия:
Через страну едет полноправный гражданин ее, говоря сильнее – кормилец, работник, труженик. Но с каких-то странных пор повелось у нас, что деревенского, сельского надо беспрерывно учить, одергивать, слегка подсмеиваться над ним. <…> Но разговор об этом надо, очевидно, вести «от обратного»: вдруг обнаружить, что истинный интеллигент высокой организации и герой наш, Иван Расторгуев, скорее и проще найдут взаимный интерес друг к другу, и тем отчетливее выявится постыдная, неправомочная, лакейская, по существу, роль всех этих хамоватых учителей, от которых трудно Ивану. <…> Иван с женой благополучно прибыли к Черному морю (первый раз в жизни), но путь их (люди, встречи, столкновения, недоумения) должен нас заставить подумать. О том, по крайней мере, что если кто и имеет право удобно чувствовать себя в своей стране, то это – работник ее, будь то Иван Расторгуев или профессор-языковед, с которым он встречается. Право же, это их страна[501]501
Комментарии // Шукшин В.М. Собр. соч. Т. 5. С. 416–417.
[Закрыть].
При всей тривиальности для советской культуры почтительных жестов в адрес «простого человека» посыл фильма, как он сформулирован в процитированной сценарной заявке, вовсе не тривиален: сложившийся социальный и культурный порядок несправедлив по отношению к такому герою[502]502
Ср. с замечанием кинокритика В. Фомина о «Печках-лавочках»: «Чем лучше и точнее работал Шукшин, тем все более отчетливо и впечатляюще выявлялся иносказательный, и при этом абсолютно “несоветский” характер фильма. Пламенным гимном колхозному строю и советской власти как таковой тут не только не пахло, но, скорее, отдавало жуткой крамолой.
Шукшин блестяще использовал возможности притчевого иносказания, лукавого непрямого авторского слова» (Фомин В. Указ. соч. С. 383).
[Закрыть] (подобное прочтение, на мой взгляд, правомерно, особенно если вспомнить, что в «Печках-лавочках», учитывая озадачивший его опыт зрительской рецепции фильма «Живет такой парень» как комедии, Шукшин играл социальными маркерами героев, мифопоэтическими мотивами и подтекстом с тем расчетом, чтобы не превратить рассказываемую историю в анекдот). Нарисованный в киноповести и фильме образ советского социума далек от благоообразного единения рабочих, крестьян и интеллигенции. В свете описанной А. Куляпиным тенденции к возрастанию «литературности» в позднем творчестве Шукшина, особого внимания в «Печках-лавочках» заслуживают повторяющиеся ситуации коммуникативного рассогласования между Иваном и его попутчиками. Смелых политических обобщений в них нет, но в совокупности они предстают симптомом нарушенной социальной коммуникации[503]503
См. о проблеме культурной коммуникации у Шукшина: Поэтика Шукшина // Творчество В.М. Шукшина: Энциклопедический словарь-справочник. Т. 2. С. 36–37.
[Закрыть]. Иван, который не может в незнакомой ему городской среде найти нужные язык и тональность общения, сначала довольно агрессивно реагирует на поучающий и развязный тон «командировочного», затем проникается доверием к вору, поскольку его вводит в заблуждение принятая за дружелюбие развязность нового попутчика. Следующие одна за другой коммуникативные неудачи побуждают его с излишней настороженностью реагировать на соседство с профессором-языковедом[504]504
О. Скубач обратила внимание на различный семантический ореол научных званий в прозе Шукшина: «кандидат» – символ социальной успешности и благополучной карьеры, в то время как «профессор» ассоциируется с настоящей ученостью и потому обычно «пребывает в области высокой дидактики и подлинной нравственной интеллигентности» (Скубач О.А. Наука и жизнь в прозе В.М. Шукшина // «Горький, мучительный талант…» Барнаул, 2000. С. 132–133).
[Закрыть]. Казалась бы, последняя встреча калькирована с не раз изображенной Шукшиным ситуации единения высококультурного героя-интеллигента и представителя «почвы», однако в «Печках-лавочках» идеальной коммуникации не получается. Иван остается для Сергея Федоровича объектом изучения, олицетворением «народа», но его «народническое» умиление «первозданными добродетелями»[505]505
Шукшин В.М. Красота доброты. Т. 8. С. 119.
[Закрыть] Ивана и Нюры по-своему наивно и ограниченно. В киноповести коллега Сергея Федоровича, «лысый профессор», не без иронии упоминает литературную модель, которой следует его товарищ, затеявший встречу с «языкотворцем» Иваном: «И не суйся ты в это дело. <…> Не тот сегодня мужичок, Серега, не тот… И фамилия его – не Каратаев. Как ты еще не устал от своего идеализма?»[506]506
Шукшин В.М. Печки-лавочки. С. 294.
[Закрыть]. В фильме и киноповести Иван отзывается на «толстовский» идеализм профессора проверенной крестьянской тактикой шутовства («Меня еще дед мой учил: как где трудно придется, Ванька, прикидывайся дурачком»[507]507
Там же. С. 296.
[Закрыть]), не раз опробованной самим Шукшиным при контактах с культурно и социально чужой аудиторией. Однако в киноповести автор показывает своего героя уже «инфицированным» чужой риторикой, которую тот успел подхватить в течение нескольких дней пребывания в городе-«Вавилоне». Шукшин включает в киноповесть письмо Ивана на Алтай родным, где герой рассказывает о своем пребывании в Москве, контаминируя собственную стилистику со стилистикой профессорской речи:
Выступал также в университете. Меня попросил профессор рассказать что-нибудь из деревенской жизни в применении к городской. Я выступал. Кажись, не подкачал. Нюра говорит, хорошо. Вообще, время проводим весело. Были в ГУМе, в ЦУМе – не удивляйтесь: здесь так называют магазины. В крематорий я, правда, не сходил, говорят, далеко и нечего делать. Были с профессором на выставке, где показывали различные иконы. Нашу бы бабку Матрену туда, у ей бы разрыв сердца произошел от праздника красок. Есть и правда хорошие, но мне не нравится эта история, какая творится вокруг них. Это уже не спрос на искусство, а мещанский крик моды[508]508
Там же. С. 297.
[Закрыть].
В финале «Печек-лавочек» Шукшин планировал сблизить двух Иванов – главного героя и профессорского сына, чей интерес к народу выразился не в интеллигентском пиетете перед ним, а в конкретной деятельности – социологическом описании положения сельского учителя[509]509
Ср.: Шукшин В.М. Красота доброты. С. 119.
[Закрыть], но, возможно, очередной вариант «смычки» города с селом страдал «умозрительностью», поэтому, считает Юрий Тюрин, в киноповести и фильме встреча двух Иванов осталась невыразительным эпизодом[510]510
См.: Тюрин Ю. Кинематограф В. Шукшина. М., 1984. С. 220.
[Закрыть]. В целом же путешествие героя через всю страну «на юг», изображенное как череда не самых успешных коммуникативных актов, при включении его в общий контекст шукшинского творчества проблематизирует единство национального мира, обитатели которого утратили язык для взаимопонимания. Язык цивилизации – «культурность», по Шукшину, только углубляет различия, вводит дополнительные и избыточные индикаторы социальной значимости, подменяет контакт с человеком общением с его социальной функцией, «маской»[511]511
Ср. анекдотичную и интертекстуально насыщенную фабулу рассказа «Генерал Малафейкин» (1972), повествующего о навязчивом желании героя подменить свои жизнь и личность социально престижной маской (см.: Генерал Малафейкин (О.Г. Левашова) // Творчество В.М. Шукшина в современном мире. Барнаул, 1999. С. 77–78).
[Закрыть]. Не принявший правил «культурности» или не умеющий последовательно их выдержать герой-«чудик», которому тесно в рамках клишированных форм, неизбежно оказывается потерпевшей, то есть непонятой, культурно дискредитированной стороной.
Мотивно-семантический комплекс творчества позднего Шукшина, внутри которого возникают автореминисценции на «культурность» из более ранних произведений, к реалиям цивилизованно устроенного быта отсылает уже в меньшей степени, нежели к идеологическим и историософским концептам, объяснявшим драматизм современного положения русского человека «из народа». Соответственно, исследование «культурности» средствами реалистического бытописания постепенно уступает место в прозе Шукшина пародийности и условности. Мотив гонимости Ивана-труженика, аккуратно уведенный в подтекст комедийного сюжета «Печек-лавочек», в сказке «До третьих петухов» (1974), где «автобиографический и автопсихологический материал ранних произведений» переосмысливался в «национально-символическом ключе»[512]512
Куляпин А.И. Указ. соч. С. 39.
[Закрыть], тематизирован уже в экспозиции:
– Продолжим. Кто еще хочет сказать об Иване-дураке? Просьба: не повторяться. И – короче. Сегодня мы должны принять решение. Кто?
– Позвольте? – это спрашивала Бедная Лиза.
– Давай, Лиза, – сказал Лысый.
– Я сама тоже из крестьян, – начала Бедная Лиза, – вы все знаете, какая я бедная…
– Знаем, знаем! – зашумели все. – Давай короче!
– Мне стыдно, – горячо продолжала Бедная Лиза, – что Иван-дурак находится вместе с нами. Сколько можно?! До каких пор он будет позорить наши ряды?
– Выгнать! – крикнули с места[513]513
Шукшин В.М. До третьих петухов. Т. 7. С. 191.
[Закрыть].
Гонимость и потенциальное изгнание Ивана-дурака из сказочного мира метафоричны. В мире, иронически воспроизводящем устройство реальности, «русскость», с точки зрения Шукшина, существует на правах декоративного элемента (поэтому от Ивана-дурака постоянно требуют песен и плясок) или используется в сугубо утилитарных целях (исходя из этого с Иваном общаются Баба Яга, черти, Мудрец). Главными приверженцами и пропагандистами «культурности» в шукшинской сказке характерным образом являются черти, распевающие песню[514]514
Ср.: «…Иван – символ национально-самобытного, а черти – явные проводники западных влияний» (Куляпин А.И., Левашова О.Г. Указ. соч. С. 18).
[Закрыть]:
Их отношения с Иваном-дураком также метафоричны и, судя по всему, иносказательно излагают «неопочвенническую» версию судеб национального искусства в ХХ веке: сначала Иван, надеясь заручиться поддержкой чертей в походе за справкой, помогает им проникнуть в монастырь (оплот духа, святыню), потом пользуется их помощью, чтоб попасть к Мудрецу, ввязывается в «интеллектуальную» дискуссию о необходимости бороться с «примитивом» в искусстве и «безнадежно отсталыми»[516]516
Там же. С. 213, 214.
[Закрыть] художниками (прозрачный намек на упреки в адрес Шукшина со стороны модернистски-ориентированных коллег) и, наконец, становится свидетелем «эстетической революции», суть которой в смене иконографии – вместо ликов святых черти предлагают писать их собственные портреты, а когда монахи сопротивляются, клеймят их «дикарями» и «пошехонью»[517]517
Там же. С. 224.
[Закрыть]. В 1970-е годы смысл этого иносказания единомышленниками писателя расшифровывался без особых ухищрений. П. Палиевский во время дискуссии «Классика и мы» (1977) жаловался на засилье в современной культуре сторонников и проповедников авангардизма, разрушающих классическую эстетику, но с оптимизмом уверял, что теперь литературной общественностью острота этой проблемы вполне осознана. Свою речь он завершил цитированием эпизода схватки монахов с бесами и уверением:
Мне кажется, что если русская литература в последнее время взялась за чертей, – в лице Булгакова и Шукшина и многих других (вспомним Достоевского и Пушкина), то, конечно, это не случайный признак, и надо согласиться, что она все-таки кое-что умеет. И перспектива такова, что в конце концов мы это преодолеем[518]518
Классика и мы // Москва. 1990. № 1. С. 190. Стоит заметить, что позиция Шукшина была далека от однозначности и этически сомнительного оптимизма Палиевского. Несмотря на легко читающиеся «антизападнические» подтексты, вряд ли художник видел альтернативу им в «русском духе». По справедливому замечанию исследователя, «за всеми перипетиями сюжета сказки просматривается символическое изображение процесса деградации как книжной городской цивилизации, так и русской народной культуры» (Куляпин А.И. Указ. соч. С. 39).
[Закрыть].
Давнее столкновение Шукшина с публикой, бравировавшей приобщенностью к культуре и «культурности», вероятно, стало эмоциональным триггером, который обусловил устойчивый интерес автора к идеологическим и политическим контекстам «культурности». В его рабочих записях есть одна очень примечательная, относящаяся к 1968 году и толкующая собственную и единомышленников деятельность в духе низвержения интеллигентских «идолов» (в том числе и «культурности»):
Мифологизированная и в буквальном смысле демонизированная в сказке «До третьих петухов», она, как и в произведениях 1960-х годов, осталась в глазах автора инструментом, утверждавшим социальное различие и закреплявшим превосходство, однако со временем в творчестве Шукшина речь стала идти не только о депривированном крестьянстве, но о народе, управляемом политическими и культурными элитами.
«Труха и опилки так называемой культуры»: культура – природа – насилие в рефлексии В. Астафьева
Редкое интервью или встреча «деревенщиков» с читателями, особенно на излете позднесоветской эпохи, обходились без обязательного вопроса о роли культуры в жизни общества[520]520
Во время встреч писателей и ученыхсо зрителями в концертной студии в Останкине на вопросы о культуре и интеллигентности пришлось отвечать практически каждому выступавшему (среди них были В. Астафьев, Ф. Абрамов, В. Тендряков, Е. Носов, Д. Лихачев и др.): 15 встреч в Останкине. М., 1989. С. 121, 126, 161–162.
[Закрыть]. Однако очевидный, если судить по публицистике, письмам, интервью, интерес В. Астафьева к подобной проблематике совершенно не сводим к ритуальным ответам на столь же ритуальные вопросы. Напротив, рассуждения о задачах культуры, ее влиянии на человека и социум в его случае оказываются тесно связанными с пережитой им чередой кризисов – житейских, мировоззренческих, эстетических.
Астафьев признавался, что первый же опыт вхождения в культуру – через школьное обучение – принес с собой сильнейшие впечатления. Их вызвало чтение учителем вслух повести Льва Толстого «Кавказский пленник»: «И я с тех пор это произведение никогда не перечитываю и перечитывать не буду, потому что я пережил буквально потрясение»[521]521
Астафьев В. Правда – она огромна (Из встречи в Концертной студии Останкино, 1979 год) // 15 встреч в Останкине. С. 9.
[Закрыть]. Сам процесс учебы в школе представлялся деревенскому ребенку захватывающим: «Я думаю, что в тридцатых годах ребята учились – и часто учились очень хорошо, несмотря на недостатки, – из-за открытия какого-то чуда»[522]522
Там же.
[Закрыть]. Впоследствии в жизни Астафьева были сиротство, беспризорничество, тяготы войны и послевоенного быта, исключавшие возможность учебы. В 1959 году в частном письме он признавался: «Пишу я девятый год. До этого был самым распоследним “быдлом”: работал литейщиком, грузчиком, плотником, чистил помойки, выгружал вагоны, работал на сплаве»[523]523
Астафьев В.П. Нет мне ответа… С. 32.
[Закрыть]. Взяв в кавычки слово «быдло», Астафьев обозначил его принадлежность речи привилегированных слоев, которым был доступен «культурный» образ жизни, в чьих глазах люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, выглядели чем-то вроде тяглового скота. Астафьев же возможность учиться получил только в возрасте 35 лет. Начав профессиональную писательскую карьеру, он, как и многие областные авторы, попал на организованные при Литературном институте им. А.М. Горького Высшие литературные курсы. Впоследствии он с неизменной благодарностью вспоминал о времени, проведенном в Москве на ВЛК (1959–1961). Учебу он воспринял как возможность «обколотить с себя <…> провинциальную штукатурку»[524]524
АстафьевВ.П. Зрячий посох. С. 83.
[Закрыть], избавиться от долго его преследовавшего комплекса собственной «темноты» и «непросвещенности»[525]525
Астафьев В.П. Пересекая рубеж. Т. 12. С. 207.
[Закрыть]. Написанные тогда семье и друзьям письма изобилуют впечатлениями от увиденных спектаклей, концертов, фильмов, прочитанных книг[526]526
См.: Астафьев В.П. Нет мне ответа… С. 34–36.
[Закрыть]. Уже в 1980-е годы, обращаясь к прозаику Анатолию Буйлову, Астафьев советовал серьезно подумать об учебе и делился опытом: «За два года (учебы на ВЛК. – А.Р.) я посмотрел около шестидесяти спектаклей, посетил все постоянные выставки, приучил себя к серьезной музыке и т. д. и т. п.»[527]527
Там же. С. 318.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































