Текст книги "Тихие омуты"
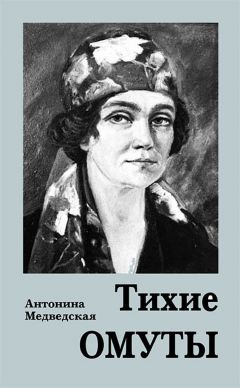
Автор книги: Антонина Медведская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
10
На рассвете в окно нашего домишки кто-то настойчиво и громко постучал. В доме переполох, мы все соскочили со своих постелей и, вслед за отцом прильнув к окну, увидели густобрового человека с очками на носу, утонувшего в просторном парусиновом плаще с капюшоном. Он сказал, что его фамилия Шафранский и что он – арендатор сада и дома бывшего владельца, пана Ростковского.
Когда Шафранский говорил, его брови, как две мохнатые гусеницы, прыгали то вверх, то вниз над оправой очков. Я хихикнула, но заметив, как потускнели глаза у мамы, как нахмурился отец, забыла о смешных бровях очкастого человека и отправилась в свою постель. «Наверное, черт принес этого дядьку, он мне совсем не понравился», – подумала я.
Папа с очкастым вошли в дом. Поправив очки на носу и поиграв чудо-бровями, мужчина протянул папе какие-то бумаги. Он прочел их и, горько вздохнув, сказал:
– Ну что ж, гражданин арендатор, владейте садом и домом. Вот вам ключи от парадной двери. Да, вот еще что… В пристройке, где жил конюх пана Ростковского, теперь поселилась вдова. У нее муж погиб в огне, когда горела их изба. У вдовы восьмеро детей. Их нельзя обижать, а тем более выселять.
– А где будет жить мой конюх Иван?
– А это уж ваше дело. Дом большой, найдете ему другое жилье.
Очкастый вновь поиграл бровями, спрятал бумаги в кожаный планшет.
– Мне сказали, что вы, Шунейко, большой специалист, садовник высокого класса. Если вы пожелаете, то оставайтесь и работайте. Об оплате договоримся.
– Поживем – увидим…
– И еще у меня к вам вопрос: не можете ли мне присоветовать какую-нибудь женщину, чтобы могла делать уборку, стирать? Словом, чтоб вела хозяйство в доме.
– Так лучшей помощницы в дом, чем вдова Наталья, вам не найти. Ее старший сынок уже работает подпаском у нашего пастуха, а две девчушки могут в саду помогать: они приучены к труду с малолетства. Встал на ножки – и дело есть по уму и силе.
– Ну, спасибо вам на добром слове. Там у меня две подводы со скарбом и придаток к нему – жена и дочка. Обе музыку любят, на пианино играют. Вот, вынужден был волочить сюда на телеге эту играющую «штуковину»: моим кошечкам – игрушка, а мне, как той бедной мышке – слезки…
Побежало времечко, побежало, где спотыкаясь, где рысью. Дела арендатора шли не больно весело.
Хлопот с садом, а главное, с урожаем, было невпроворот.
Наталья с детками оказалась для арендатора большой находкой. Пашка и Ромашка росли крепенькими. Яблоки, груши да сливы с крыжовником и смородиной пришлись малышам по вкусу.
А в ту памятную весну деревья, словно чувствуя свою гибель на этом благодатном куске земли, цвели с такой силой, будто купались в белопенной мощи цветения. Не было сил отвести глаза от этого чуда земного. Замирало сердце, хотелось броситься в белый омут и раствориться в нем. Вот я и бросилась, нырнула и, к своему удивлению, не растворилась, а прибежала к вековым липам, на свое любимое место, где можно было сидеть на окаменевших корнях и слушать часами пение малиновок и говорок ручья, что бежал по лужку без всяких преград и запретов. Из этого ручья мы пили воду, она была чистая и вкусная. И когда до моих лип оставалось пятнадцать-двадцать аршин, я юркнула за ствол старой яблони и замерла…
На моем излюбленном месте, обхватив голову руками, сидела Наталья и, раскачиваясь из стороны в сторону, причитала:
– Касьянушка, мой родненький, как же я тоскую по тебе, как же мне горько и тошно жить без тебя, мой любимый, мой единственный соколик. Приходи, желанный мой, во снах моих, уж как же я тебя повиличкой обовью, как же надышусь тобой, радость ты моя бесконечная. А очнусь от сладкого сна – пусто, только мокрая подушка от слез моих горючих… – Наталья поднялась, вскинула руки к голубой бездне небес. – Господь Великий! За что же, за какие такие великие грехи отнял ты у детей наших отца родного. Он же так любил их, деток наших. «Наталья, рожай, пока рожается. Вырастим всех». И хохочет, счастливый. Ой, Господь, нет больше сил. Нет мне жизни без тебя, Касьянушка-а-а, хозяин мой, – Наталья обняла липу, прижалась к теплой коре вековухи, плечи ее мелко дрожали. – Матушка, липушка, возьми ты мою боль-тоску смертную. Дай мне сил деток моих на ноги поднять!
Я, боясь обнаружить себя, мышонком юркнула под белую кипень яблонь: «Кусайте меня, пчелы, жальте, я вас не боюсь».
А вечером на диво огромная луна повисла над землей, над деревней Бабаедово и над сказочным садом пана Ростковского. Где он сейчас, пан Ростковский?.. Какая-то неведомая сила потянула меня к панскому дому. Окно у парадного крыльца распахнуто. За кисейной занавеской слабый свет подвесной керосиновой лампы. Но не это главное. Музыка… Волшебные звуки. Что это со мной? По спине поползли мурашки, а из глаз выкатились горошинами скупые слезины.
11
Из районного центра Рясно в Бабаедово пришел человек. На носу очки, светлая чесучовая толстовка, в руке объемистый кожаный портфель. Его встретил у березовой аллейки Петр Звонцов, и они оба направились к моему папе. Поздоровались, и все трое присели на лавку во дворе под развесистым кленом.
– У вас нет ли кваску? Пить хочется.
– Как не быть, он у нас не переводится.
Но мама и сама догадалась напоить гостей квасом. Она спустилась с двух ступенек крыльца. В правой руке глиняный жбан с пенистым квасом, в левой – корзинка с яблоками, поверх которых побрякивали три граненых стакана.
– Пейте, угощайтесь на здоровье, квасок с погреба, – пристроила принесенное на табуретке и неспешно удалилась, унося на спине роскошную косу.
Ряснянский гость налил себе полный стакан маминого кваса, жадно выпил, достал из кармана носовой платок, приложил к губам:
– Везет же редким мужчинам иметь этаких жен-королев.
– Случается иногда! – сказал папа и рассмеялся.
– Ну вот, граждане хорошие, квасу попили, хозяйку похвалили, пора и делом заняться. И не все бывает складным да ладным, как нам того хочется. Школу открыть в Бабаедове не получается. Тут мы с Петром Звонцовым составили список детей, кто в эту осень пойдет учиться в Ряснянскую школу. Получается – шестеро парнишек и две девчонки, сестры Клавдия и Зинаида Лавицкие.
– А детей-погорельцев позабыли. Их в первую очередь запишите – Касьяна-подпаска да его старшую сестренку Полину. Остальная шестерка пусть доспевает до школы. Наталья ни одного не отдаст ни в приют, ни в детдом.
– Ну и баранья моя голова, не вспомнил про детей Натальи. – Петр постучал кулаком по своему лбу. – Спасибо, что напомнили про Богровых, да еще хотелось бы знать ваше мнение на следующий сурприз: покалякали мы с отцами тех детей, что учиться пожелали в Рясно. По теплу пущай бегают хучь в обутке, хучь босиком. А вот по осени раскиснут дороги да посля завьюжит, заморозит, тут уж надо ребят отвозить в школу и обратно привозить. И решили мы, что один раз в неделю каждый родитель отведет свою очередь.
Папа сказал, что правильно решили.
– А что будет с панским домом, садом? – забеспокоился он.
– В дом на днях переедет районный суд. Наталью Богрову оформят сторожем и уборщицей. А сад?.. Саду больше не цвесть. Воинская саперная часть ведет железную дорогу Лепель-Орша. Думаю, что от этого сада не останется ни ножек, ни рожек. Такие вот дела, гражданин садовник, остаетесь вы без должности. Пока…
– Я к этому давно готов. Был бы конь, а хомут найдется.
И стало мне невыносимо грустно. Хотелось плакать. До моего отъезда в Кузьмино еще так далеко: половина лета. А ведь совсем недавно была весна, голубое небо, талые лужи, суетливые воробьи. Хотелось подставлять лицо солнечным лучам и радоваться, радоваться неизвестно зачем и чему. Иногда судьба дарила нам в Бабаедове яркие события, и тогда все вокруг оживало.
Из года в год в начале апреля приезжал в нашу деревню китаец Ходя. Телегу с зеленым сундуком, в котором – мы точно знали! – хранились несметные сокровища, тащил маленький мохноногий конек, на которого Ходя то и дело покрикивал:
– Ходи-ходи, коня, веселей – Ходя велит! Но конек – где и взял такого? – на то, что велел его хозяин, не обращал никакого внимания и шел как шел, и телега скрипела, и ее немазанные колеса катились медленно, то поднимая пыль, то увязая в грязи, а коробейник весело кричал свою зазывную, и звонкий тенор Ходи был слышен в каждой деревенской избе, приводя в великое волнение весь наш бабаедовский люд:
– Мамка, бабка, выходий! Всяка тряпка выносий! Кости, яйка покупаю, на красна товар меняю…
Был Ходя возраста неопределенного, роста среднего. Его темные живые глазки на смуглом лице бегали проворными мышками, а губы замерли в вечной улыбке, обнажая крепкие белые зубы. Он улыбался даже тогда, когда его кто-нибудь – находились такие шутники – обижал то ехидным словцом, то какой несуразной выходкой, и непонятно было: обижался Ходя, скрывая неприязнь к шутнику, или делал вид, что ему такие обиды – меньше укуса комара.
Никто не знал его настоящего имени – Ходя и Ходя… Так его звали все в округе, и, надо сказать, был он желанным гостем в наших деревнях в те времена. Появление коробейника Ходи с его сказочным коньком-горбунком и зеленым сундуком на телеге доставляло деревенским жителям огромную радость.
В каждой деревне у него было облюбовано определенное место для стоянки. В нашем Бабаедове это была старая могучая липа, что росла возле бывшего панского амбара. На дверях амбара висел огромный замок, поржавевший от времени. Его давным-давно никто не отмыкал, потому что в амбаре было пусто с тех пор, как помещик Ростковский с семьей после революции бежал, и мужики все из амбара и помещичьего дома растащили.
Я товар свой продавай,
Мамка, бабка – покупай,
Подходи, жених с невеста,
Ходя тут, на свое место,
– зазывал всех коробейник Ходя и суетился возле сундука. К липе сходился народ, подходили старухи, молодайки бабы, девки на выданье. Поглядеть товар желали и степенные мужики, и парни молодые, озорные. А уж насчет ребят, особенно мелюзги малолетней, и говорить не приходится – будто мухи на патоку слетались.
Коробейник обводил веселым взглядом покупателей, сверкал белыми зубами и… открывал сундук!
Боже ты мой, чего тут только не было! Крышку сундука Ходя укреплял, и она превращалась в витрину – такую яркую, такую нарядную, что и слов не найдется, чтоб ее описать. Внутренность крышки сверкала, полыхала яркими красками всех цветов, глаза разбегались, сразу все хотелось купить. Ну, а если уж о покупке и мечтать невозможно было, то хотя бы дотронуться до одного из чудес, выставленных напоказ. Бусы, гребенки, платочки головные белые и пестрые, нарядные шелковые шали, сережки, броши, перстеньки с камушками цвета красной смородины, зеленой травы, синего неба. А мыло душистое – «Земляничное» и «Букет моей бабушки»! От него шел такой аромат, что хотелось глаза зажмурить. Лежали на полочке, как сказочные диковины, пудра, румяна, швейные иглы, вязальные спицы, пуговицы, нитки разных сортов и оттенков, ленты яркие атласные, кружева, бархатки; висели на шнурке пояса лакированные с ажурными пряжками под серебро и золото, крючки рыболовные…
Пока еще никто ничего не купил, не выменял, а мужик Кукарека уже тут как тут! Принес тощенькую торбешку с овсом и подвешивает на морду мохноногому коньку. Ходя, бросив взгляд на торбу, определял количество овса и говорил:
– Мало корош, Ванька Кукарекай, – и протягивал ему пачку махорки и коробок спичек. – Такой мало овеса, совсем надо мало махорка, половина пачка надо. Будешь должнай мне, – и поворачивался к Кукареке спиной, давая знать, что с ним разговор закончен.
Кукарека отходил в сторону и, усевшись на бревне под окнами ближайшей избы, закуривал, пуская устрашающие клубы дыма. Видно было, что он доволен выгодной сделкой. К нему подсаживался один из молодых парней, хитро подмигивал стоявшим поодаль товарищам и, делая несчастное лицо, клянчил:
– Дядь, Кукарекай! Дай Христа ради махорочки на одну цигарку.
– Кукарека, Кукарека… – дергался тот, как от укола иглой, отодвигался от озорника и переходил на крик. – Я за махорку полпуда овса отдал, а ты – дай на цигарку! Много вас наберется цигарки клянчить. Пшел отседова…
– Подохну от молодого смеха – полпуда овса! Ох и брехун ты, дядя Кукарекай. В твоей торбешке и двух фунтов не было, я ж видел. Обдурил ты Ходю, обдури-и-л.
– Может, и обдурил! Не все ж ему нас дурить. А ты иди своим путем, не будет тебе цигарок…
– Ну хоть курнуть разок дай.
Кукарека, решив, что не отвязаться ему от этого нахала, протянул цигарку. Но тут подлетели к парню его товарищи, и каждый по очереди курнул, так что вмиг от цигарки ничего не осталось.
– Нет на вас холеры, жеребцы… – закричал Кукарека.
«Уди-и-и, уди-и-и-и…» – разнеслись знакомые звуки. Это один из мальчуганов что-то выменял на шарик с деревянной трубочкой и поднял на радостях «удиканье» на все торжище, но тотчас же был изгнан бабками и мамками, чтоб не оглушал. Следом за изгнанным, но счастливым мальчишкой потянулась ватага ребятишек в надежде, что и им удастся хоть один разок «удикнуть», чтоб отвести душу.
Как только Ходя замечал, что торговля шла на убыль, он тут же пускал в ход свой коронный трюк: выхватывал из сундука какой-нибудь новый товар, специально для этой цели припрятанный, и потрясал им с такой ловкостью, так заманчиво и красиво демонстрировал, что мамки, бабки, девки бежали в свои избы и выгребали все, на что можно было выменять у коробейника эти чудеса, которыми он их околдовывал, и без коих, как им казалось, жить невозможно.
У нас же никакого утиля не было, ни одна льняная или шерстяная тряпица у мамы не выбрасывалась, все шло в дело. Деньги и подавно не водились, яйца не накапливались, сало было на вес золота – я это знала, а потому спокойно стояла в сторонке и плела венок из цветков мать-и-мачехи, не смея и мечтать о сокровищах из зеленого сундука коробейника. И вдруг я увидела, как к телеге подошла мама. Она что-то сказала Ходе и протянула ему бутылку конопляного масла. Ходя, все так же улыбаясь, закивал головой, запустил руку в деревянный ящичек и подал маме два пакетика с нарисованными на них огненно-красными солнцами.
– Самый корош краскай, самый лучшай, мадама! – говорил Ходя и кланялся, скрещивая на груди руки.
– Мало мне двух порошков, Ходя. У меня затея большая, – сказала мама, вытащила из кармана передника горсть крупных головок чеснока и бережно выложила их на ящик, куда все меняльщики выставляли свой товар на обмен. – Добавь, Ходя, хоть еще один порошок за мой чеснок.
Мамин чеснок мигом, как по мановению волшебной палочки, исчез.
– Корош, мадама. Ходе нет жалей пакетку такой красивой мадама. Ходе нет жалей два пакетку! – и протянул маме еще два пакетика.
Я думала: «Зачем маме эта краска? Какая у нее большая затея?»
И тут мама позвала меня:
– Пойдем, дочка, домой. Помогать мне будешь.
Я нахлобучила на голову венок и последовала за ней, но не успела сделать и десяти шагов, как услышала громкий окрик Ходи:
– Барышень в венока на голова! Подходи на минуткую… Я замерла, не веря, что Ходя обращается ко мне.
– Вот тебе подарка Китай! – и он протянул мне… Нет, это невозможно, такое может быть только во сне! – он протянул мне веер сказочной красоты, настоящий кусок радуги! Я стояла ошеломленная, не решаясь его взять. Бабы зашумели:
– Да бери, раз дают, а беги, когда бьют.
– Подарок тебе делает Ходя…
– Вишь, понравилась ты ему с венком.
Я сняла с головы венок и, приподнявшись на цыпочки, положила его на ящик. Ходя подхватил венок, надел его на свою смоляную голову и подал мне веер. Я бережно прижала его к груди. Теперь уже за мной потянулась ватага девчонок в надежде на то, что и они подержат в руках этот бумажный чудо веер и помашут им у своих веснушчатых носов.
… Мамина большая затея началась. Она разожгла во дворе под железной треногой костер. На треноге уже стоял самый большой котел, наполненный водой. Когда огонь набрал силу, мама велела мне смотреть за огнем и подкладывать дрова, пока вода не закипит. Помощниц у меня оказалось – хоть отбавляй! Восемь девчонок окружили треногу с котлом, и каждая старалась подбросить полено дров, пошевелить головешки. Но, конечно, не эта работа заманила их в наш двор, а веер! Девчонки по очереди держали его в руках, обмахивались на все лады и азартно спорили между собой о том, что Катька махнула им десять раз, Зинка – пять, Фенька только три раза успела махнуть, а Зойке никак не удается завладеть веером. А вот Фрося уже два раза по пять раз махнулась! И вот когда веер оказался в руках красавицы Наташки и она, как настоящая принцесса, не спеша и грациозно взмахнула им у своего ангельского личика, Верка Мурашкина, не выносившая Наташку из-за ее красоты, не сдержалась и проявила свой вредный характер. За этот характер девчонки недолюбливали Верку, в свои игры принимали неохотно и часто в разгар игры изгоняли ее за какую-нибудь выходку.
Вырвав у Наташи веер, Верка побежала вокруг костра, размахивая им и приплясывая, шепеляво горланя при этом:
Посли девки на базар,
Стоб купить себе товар,
Товару не купили —
Дулю получили!
За Веркой гонялись девчонки, требуя вернуть веер и грозя надрать ей уши. Но Верка ловко увертывалась от девчонок и расставаться с веером не собиралась. Наконец, они догнали ее и, окружив плотным кольцом, стали щипать и дергать за волосы. Верка заорала и швырнула веер… в огонь.
Вся шумная компания замерла. Первой опомнилась Верка и пулей рванула со двора. За ней умчались все остальные. Одна Наташа не двинулась с места, она испуганно глядела на огонь. В огне горел мой веер. Он вспыхнул так быстро, что я не сразу осознала весь ужас случившегося. Потрясенная, я опустилась на землю и заплакала. Вместе со мной плакала и Наташа.
Наташа была не только красивой, но и очень доброй. У нее можно было выпросить все: яблоко, краюшку хлеба, морковку, пестренькое стеклышко, новую тряпочку на платье для куклы. В деревне говорили про нее, что она «панского роду». Однажды я спросила у бабушки Михалины, почему Наташу называют «панским родом», а она ответила: «Будешь много знать, скоро состаришься…» Стариться я не хотела, и потому больше не стала интересоваться происхождением Наташи. «Раз ее мама была прислугой у панов, так и Наташка стала панским родом», – рассудила я.
Пока мы с Наташкой ревели, вода в котле закипела. Из дома вышла мама и сразу поняла, что случилось. Поставив таз с каким-то мокрыми белыми тряпками на землю, она вылила из банки в кипящую воду огненно-красную краску, помешала в котле палкой и опустила ворох мокрых тряпок в котел. Все это было бы очень интересно, если бы не сгоревший веер…
– Верка, что ли, расправилась с твоим веером? – спросила мама.
– Верка! – я заревела еще громче и убежала со двора, унося в сердце обиду на всех девчонок, а особенно на вредную Верку.
«Ну зачем, зачем она сожгла мой веер?» – думала я и бродила по задворкам до тех пор, пока ноги не принесли меня к сараю, где отец и братья мастерили грабли. Вернее, отец мастерил, а братья ему не столько помогали, сколько мешали, но у отца было правило: что бы он ни делал, мальчишки должны быть вместе с ним, учиться у него.
– Чего ревешь? – сразу же налетел Антошка. – Кто обидел?
– Верка Мурашкина веер спалила-а…
– Какой еще веер?
– У Ходи на венок выменяла-а, китайский ве-е-ер!..
– Не будешь ворон считать, наука тебе, чтоб с Веркой не водилась. Принеси мне во-он ту орешину, что в углу стоит, сделаем и тебе грабли – залюбуешься. Это не какой-нибудь веер из папиросной бумаги! И нечего реветь. А Верка пускай мне на глаза не попадается…
Незаметно я тоже включилась в работу, и на душе стало легче, слезы высохли, а веер оказался так далеко, что вроде бы его у меня и вовсе не было, – как будто приснился. Я вспомнила о маминой затее и что есть духу побежала в наш двор. Оказалось, что Наташа никуда не отлучалась, а сидела у затухающего костра и с интересом наблюдала, как моя мама лучиной вытаскивала из котла выкрашенные лоскуты и опускала их в бадью с чистой водой. Я села рядом с Наташей.
Мама, выполоскав красные лоскуты, развесила их на веревке в тени. Во дворе стало празднично, будто в день Первомая. «Может быть, уполномоченный попросил маму накрасить эти лоскуты, чтобы сделать флаги? «– осенила меня догадка. Недавно он приезжал к отцу, привез ему какие-то бумаги и сказал, что мой отец является первым коммунаром, что он обязан охранять бывший панский сад – двадцать одну десятину, панский дом и амбар. Все это пригодится для новой жизни всему народу. А еще он оставил отцу ружье… Из-за этого ружья мама плакала и говорила, что теперь не сносить отцу головы.
По ночам мама что-то шила на старенькой машинке «зингер» и никому не показывала, что она шьет. Мы считали дни, оставшиеся до Первомая: четыре, три, два…
Утром жарко пылали в большой русской печи березовые дрова. Перед пламенем стояли чугунки: один – с картошкой, второй – со щами, в третьем парились бобы. В квашне подходило тесто на хлеб.
Дни, когда мама пекла хлеб, – самые лучшие дни! Вот прогорели дрова, но угли еще красные, хотя их и покрывает голубой прозрачный налет золы. Пришло время кочерге потрудиться. Мама ловко и быстро загребает жар на загнет. Теперь очередь помела – кудрявого веника из сосновых веток, привязанных к длинному деревянному черенку. Надо чисто подмести под в печи. По избе распространился запах хвои, смоляной дух леса. Мама окунает помело в бадью с водой и опять – в печь. Под стал чистым, гладким. Мама бросает на него горсть отрубей и наблюдает, как эти отруби себя ведут. Она знает секрет, когда пора сажать хлеб в печь, а когда еще рано – подгорит. Но вот брошенная на под горсть отрубей подсказала – пора!
Тут уж и мне есть работа: насыпаю на деревянную лопату муку, смешанную с отрубями. Мама выхватывает из квашни ком теста, лепит из него круглый шар, перекидывая с ладони на ладонь, и опускает этот шар на лопату. Перекрестив будущий каравай, она мечет тесто в печь, аккуратно укладывая в левый угол. Четыре каравая в заднем ряду, четыре – в переднем. Печь закрывается заслонкой.
Усталая, садится на скамью, по лицу скатываются капли обильного пота, оно красное от жара печки, а руки – белые, с остатками теста и муки на пальцах – легли на стол, и мне вдруг показалось, что это не мамины руки, что мама с опаленным лицом сидит отдельно, а чужие руки лежат на столе тоже отдельно. Я закрыла глаза, по спине побежал холодок.
– Ну вот, дочка, хлеб есть, значит, и праздник есть! – устало говорит мама.
Назавтра мы занялись уборкой: потолок, стены, окошки мыли щелоком – водой с настоем золы, пол Антошка и мама шоркали голиками с дресвой, а я тряпкой смывала песок с половиц и, меняя воду, вытирала досуха.
Закончили уборку поздно вечером, вымылись горячей водой в сенях и, натянув чистые рубашки, уснули: из пушек пали, – не проснулись бы. И все же в день Первомая не заспалась допоздна. За окошком горланил петух, кудахтали куры – какая какую перекудахчет. В избе было чисто, пахло мятой. Сквозь коротенькие ситцевые занавески струилось солнце нового весеннего дня.
– Леня! – позвала мама младшего сына. – Поди в кладовку, папа зовет.
Ну мало ли зачем позвал папа трехлетнего Леню! Братишка убежал на зов в своей короткой рубашонке, а мы не торопились вставать: наслаждались законным отдыхом ради праздника. И вдруг нашей дремы как не бывало – к нам в закуток вбежал Леня и крикнул: «Плаздлявляю с Пелвым маем, ула!» Мы во все глаза уставились на брата: ярким пламенем полыхала на нем красная рубашка-косоворотка с белыми пуговицами, подпоясанная витым пояском с кисточками. Леня, засунув руку в карман новых домотканных штанов, вертел аккуратно подстриженной головой, сверкал счастливыми глазами.
– Сашка! Иди к папке тепель ты… А вы ждите своей очеледи.
Через час все мы, в пух и прах разодетые, сидели за праздничным столом, ели горячие картофельные лепешки с жареным салом и запивали морковным чаем, забеленным молоком. Когда с завтраком было покончено и все поднялись из-за стола, мама подошла ко мне, опустила руку в карман своего передника, вытащила… стеклянные бусы и надела их на мою тонюсенькую шею. Не успела я ахнуть, как мама извлекла из того же волшебного кармана… веер. Когда я, наконец, пришла в себя и бросилась обнимать маму, она сказала:
– Это отец тебя балует, он сходил к Ходе и принес тебе бусы и веер. Ему говори спасибо…
Отец во дворе прибивал к древку красный лоскут-флаг. Я подбежала к нему, обняла за шею и прижалась к колючей щеке губами.
– Вот, может, когда и вспомянешь батьку своего… Пусть Антошка берет флаг да и идите с песнями, как в городах ходят…
И вот мы на улице. Братья в красных рубахах-косоворотках, я в красном платье, у всех карманы, простроченные белыми нитками, у всех пояса, которые мама сделала из обыкновенной веревки, расчесав концы гребенкой. И пояса, и штаны красились краской из ольховой коры: у нас в деревнях издавна красили пряжу и холсты в коричневый цвет ольховой корой. В руках моих веер – кусок радуги, на шее бусы искрят и переливаются огоньками на ярком солнце. Антошка высоко поднял древко с красным лоскутом – флагом и шагнул со двора, за ним – все мы.
На улицу высыпал народ, к окнам прильнули старухи – беззубые рты до ушей.
– Ой, гляньте, гляньте, люди добрые! Красные Шунейки с флагами идуть!
Подбежала Наташа и засеменила рядом со мной. От избытка радостного чувства, переполнявшего мое сердце, я тут же протянула ей веер.
– Помахайся им маленько, пускай вредная Верка увидит… И только Наташа взяла в руки веер, как из-за забора раздался Веркин голос:
Красные Шунейки
Нашли полкопейки,
С флагом шагают —
Старых пугают.
А их батька-коммунар
Стережет пустой амбар.
Красные Шунейки…
Антошка погрозил кулаком в сторону забора, за которым пряталась Верка, и она сразу замолкла.
Вскоре к Антошке примкнули его ровесники, а за нами потянулись ребята поменьше. И вот уже шагает по улице ребячья ватага, поднимая босыми ногами пыль. Так прошли мы с флагом до конца деревни, а когда повернули обратно, Антошка приказал:
– Сейчас будем петь, чтоб все пели! – и затянул: «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног…»
Больше ни одной строчки Антошка не знал и потому повторял только эти две, а мы за ним тянули на все лады, стараясь перекричать друг друга, ошеломляя бабаедовский люд.
Как же давно был этот наш первый Первомай, как же давно все это было…
И арендатор Шафранский тоже остался без дел. Он сидел ссутулившись, вздыхал и проводил правой рукой по лицу, будто пытался избавиться от чего-то, неприятно налипшего.
– Не знаю, чем заняться. Надо же мне моих двух кошечек кормить. Играйте, мурлыкайте, а кушать надо. И чтоб чашечка какао и булочка белая. Надумал лавчонку открыть в Обольцах, да только разные сомнения одолевают, – поиграли брови-гусеницы.
Из умывальника кап-кап.
– А вы, пан Шунейка, никуда не собираетесь из Бабаедова?
– Куда мне без всякого капитала. Всего и накопил – четверо детей, два сына в Бабаедове родились… Только-только на ножки поднялись. Да я без земли и сада – перекати-поле. Дети, как и деревца, на земле-матушке на ножки поднимаются. В эту осень Антошка в Ряснянскую школу пойдет – три версты в Рясно, три – домой. Не каторга, бегай и учись. А будешь отлынивать, буду пороть, как и пасынка Павлика порол. Недавно письмо прислал, еле разобрали, что он там нацарапал. Воюет, кавалерист красный. Два года себе прибавил, поверили – этакий бугай вымахал. Пишет: «Спасибо тебе, отчим, что порол за лень и дурь. Как бы мне сейчас грамота пригодилась…» А дочка моя, Тоня, – папа обнял меня за плечи, прижал к себе, – поедет через год в Кузьмино, там у нас дальние бездетные родичи. Я уже договорился с ними. Будет душа спокойна, что досмотрена и накормлена, а главное, пойдет в школу. Там в бывшем панском доме школу – четырехлетку открыли. У нас отказали, хотя и обещали, а в Кузьмино открыли. Грядут, пан Шафранский, трудные времена…
– А у меня, пан Шунейка, одна доченька, и та былинка. Гены жены передались – хрупкость и музыка. И никогда моя любовь не сможет родить мне сына, помощника.
– А мне Бог дал трех сыновей, да еще двух пасынков вырастил, а где помощь?.. То смута, то война. Заберут хлопцев, кинут в огонь, загубят сыночков наших, искалечат, а нам, родителям их, слезы и боль до последнего дыхания.
– Правда ваша, пан Шунейка. И эта железная дорога неспроста. Довелось поговорить с одним человеком из Лепеля, обрисовал строительство: паровоз задним ходом по уже уложенным рельсам подгонит две платформы – одну с песком, другую с рельсами и шпалами. Солдаты разгрузят, а паровоз гукнет да и пойдет за следующей партией груза. Ну, и что я вам скажу: солдаты, как те муравьи: тачки с песком в руки и пошли шнырять взад-вперед – насыпь делают. Пот с них градом. Голые по пояс, а еще и песню поют:
Эй, живо, живо,
Сапер, строй дорогу.
Дорога Лепель – Орша,
Чтоб не бузила Польша.
Мне все интересно, что рассказывает арендатор. А папа молчит. Очень хочется, чтобы Шафранский еще что-нибудь рассказал. К моему удовольствию, брови у него задвигались часто-часто:
– Надо вам эта дорога – стройте! А только почему для нее другого места не нашлось, как этакий добрый сад?! Думал, поживу спокойно. Не дали. Свертывай удочки и отправляйся, куда твои очи глядят. – Шафранский вздохнул. – Поеду в Обольцы.
Я поняла, что никогда больше не повторится та лунная ночь, когда пенился от шального цветения сад пана Ростковского и из распахнутого окна уплывала в вечность дивная музыка…
После ухода Шафранского, удрученная, я отправилась к своим любимым липам. Сижу на окостенелых корнях, думаю: «Попрошу папу, чтобы он не порол Антошку, мне его жалко. А еще мне страшно ехать в Кузьмино и жить у родичей. Я же их никогда не видела. А какая там школа, какая учительница? А если сердитая и станет бить линейкой по рукам, и все дети незнакомые и начнут дразниться?.. Страшно! Пойду полоть гряды. Пойду к маме. Как хорошо, что есть у меня дело…









































