Текст книги "Тихие омуты"
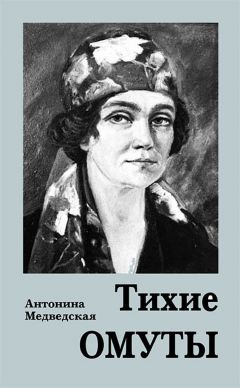
Автор книги: Антонина Медведская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
7
В конце дня пришел к нам конюх пана Ростковского, устало присел на краешек скамьи.
– Покидает свое родовое гнездо пан Ростковский, хозяин мой – старик мнет непослушными пальцами клочок бумаги из амбарной книги, пытается свернуть «козью ножку», самосад просыпается сквозь пальцы. Наконец, справился, задымил. – Сегодня в ночь и тронемся. Просит вас, пан Шунейко, прийти попрощаться. Вот вместе и пойдем. И они ушли, прикрыв за собой дверь.
Евхим шел за садовником и тихо, как на исповеди, облегчал свою душу.
– Жалко пана Ростковского. Говорил: «Хорошо бы в моем доме школу открыть. Дети бы могли и учиться, и за садом ухаживать. И не только наши ребятишки, но и из других деревень, где нет садов, а во дворах – кучи навоза». Он добрый человек. Никому зла не чинил. У кого из мужиков какая крайняя нужда, к кому с поклоном? – к пану Ростковскому. Только пьяниц не поважал. Говорил: «Пьяница – враг семье, жене, детям и хозяйству. Пьяница – лодырь, всем от него лихо одно». Вот сейчас у нас в Бабаедове нет ни одного двора без сада. А все – он, пан Ян. Когда свой сад заимел, одарил всех мужиков саженцами. А после самолично проверял: хорошо ли посадили, подходящее ли место выбрали для своего сада. Сам лично, если что не так, переделывал. Теперь у всех мужиков сады – нет надобности воровать яблоки с грушами в панском саду. У каждого свои есть.
Я у пана в кучерах и конюхах давненько. Еще ядреным мальцом стал кучером. А пан тогда был – гоголь! Да, вот жил человек, жил и, как говорится, дожил до крайности. Две подводы снарядил, попросил до Орши отвезти. А там… как Бог даст.
А я уж его не оставлю. С ним до конца. Он меня не обижал, свадебку справил. Дал коня, сбрую – хозяйствуй, Евхим, радуйся. Да не тут-то было. Померла моя женушка любезная нежданно-негаданно. Косил на лужку, она валки разбивала. Глянул, как кто в спину толконул, а она, Любаша моя, подкошенной травинкой свалилась на бочок, прямо на валок полевых цветиков. Ох, тоска меня в тиски зажала. Спился бы и подох, если б не хозяин.
Конюх Евхим говорил, говорил, а садовник Шунейко слушал его, а может, и не слушал и думал о чем-то своем: нагрянула беда, ломаются судьбы людские, рушится то, что казалось нерушимым.
– Хозяин ожидает вас на своей любимой скамейке под акациями – всегда там отдыхает. Господь великий! Помоги добраться нам туда, где ждут хозяина с внуками и невесткой. Больно неспокойно стало.
Ян Ростковский закутался в теплый бархатный халат.
– Спасибо, Гилярович, что еще раз пришли. Есть у меня к вам последняя просьба. Где похоронена моя жена, знаете?
– Как же не знать, ведь именно у креста из белого мрамора по вашему велению я посадил куст черных роз.
– Конечно, конечно, стал забывать. Так вот, в мае, когда зацветает сад и в последний день августа отнесите на могилу моей жены цветы с поклоном от меня. Я знаю, что вы это выполните.
– Клянусь, Ян Францевич.
– Спасибо. Если бы я был уверен, что в моем доме учатся дети грамоте, а сад мой оставался бы таким же, каким я сегодня его покидаю… Только б не варварам на растерзание, только б на жизнь и добро.
Томительно молчат мужчины. В тени деревьев, в траве светятся две точки. Это любимый кот Яна Францевича, Базиль. Кот неторопливо приблизился к скамье. Мощный прыжок, и он на коленях у своего хозяина.
– Ах ты, душегуб, все разбоем занимаешься, сколько мышиных душ загубил? – Кот повел мощным пушистым хвостом и замурлыкал. – Оставить бы тебя здесь в раздолье, да внуки в тоске изведутся, плакать будут. Готовься, разбойник, к дальней дороге. – Ян Францевич поднялся со скамьи.
– Бернард Гилярович, простимся. Провожать не приходите. К утру нас уже не будет здесь. Жаль, мало пришлось нам вместе творить чудеса. Прощайте.
Кончился бабаедовский рай пана Яна Ростковского. Смута гонит его прочь из своего дома, сада – всего, что годами строил, сажал, растил. Не гнушался с косой на луг выйти, с плугом по пашне прогуляться. Сегодня рано, еще до восхода солнца срезал хризантемы, астры и снес их на могилу жены, попросил у нее прощения: «Самая родная, самая любимая, прости за все, что было для тебя обидным. Принес тебе последний раз цветы. Увожу наших внуков с невесткой на ее родину. Так просил наш сын Анджей. Прощай, весна моя, навеки любимая. Ты видишь – я плачу».
Ян опустился на колени, коснулся лбом холодного мрамора надгробной плиты. Возвращался с кладбища опустошенный, ссутулясь, с трудом переставляя ноги. А в голове застряла такая щемящая мелодия и до спазм в горле звучал родной голос его юной красавицы жены, прозванной среди друзей Прекрасной Еленой: «Черные розы – эмблема печали…» Осиротел дом пана Ростковского. Мой папа запер все двери, окна заколотил досками. И стал ждать – что дальше будет, в тайне опасаясь бабаедовских мужиков. «Они все могут спьяна: разгромят, а то и сожгут. Пускай бы новые власти школу открыли. Ты, пан Шунейко, побереги дом для доброго дела», – такие слова сказал пан Ростковский на прощание. Было грустно. И очень тихо. Даже вороны не подавали голоса в березовой рощице у ручья. А папа по-прежнему рано утром уходил в сад и работал там весь день. Мы с Антошкой помогали папе: сгребали листья и очень радовались, когда выкатывалось к ногам большое яблоко. Особый восторг, когда подарком окажется «господин апорт», яблоко-великан.
– Это маме.
У папы было плохое настроение. Он кашлял, часто отдыхал и очень сердился на нас, если мы с Антошкой делали что-то не так или чересчур веселились и начинали носиться по саду, как оголтелые, швыряя друг в друга охапками опавших листьев. Однажды он назвал нас лентяями и прогнал домой.
– Мама дома одна, дел невпроворот, а они тут разыгрались, как зайцы на лесной поляне. Марш домой и – за дело.
– Это все из-за тебя, Антошка, ты мне за шиворот холодных листьев напихал.
– А ты визг подняла… поросенок.
Только мы прибежали домой и еще не успели у мамы спросить, что нам надо делать, как у нашего дома появились три всадника. Они соскочили с коней, привязали их к пряслу и вошли в сени. Мы вытаращили глаза да так и замерли.
– Зайти в дом можно?
– Заходите, заходите, – спохватилась мама и поставила на стол решето с яблоками. – Угощайтесь.
– А где хозяин?
– В саду, где ж еще ему быть, – опять эта меловая бледность на лице и пальцы дрожат. – Все в саду. – Мама устало опустилась на лавку, а Антошка пулей выскочил за двери и помчался в сад за отцом.
– Па-а-а-пка-а! Чека приехала, аж трое. Все в кожаных черных куртках.
– Ну чего ты закаркал вороненком, приехали и приехали.
Антошка упавшим голосом перешел на шепот:
– Тебя, папа, спрашивают.
Он еще хотел спросить: «Тебя не арестуют?» – но ему стало так страшно от одной этой догадки, что он замолчал и, нахлобучив на глаза шапчонку, скрыл набежавшие слезы.
– Пойдем, сынок. Все будет ладно. Я ж не пан Ростковский. У меня не только нету панских хором, а и домишко, в котором живу, был панский, а теперь, выходит, казенный… А Тоня где?
– А она уселась на мамины колени и таращит глазищи на этих, сенненских.
Папа шагал так быстро, что Антошка за ним еле поспевал.
– Не ждал гостей, гражданин Шунейко? Не тушуйся. Мы тебя назначаем уполномоченным. Привезли и документы с печатью, так что останешься хозяином и сторожем по совместительству. Ты у пана Ростковского был садовником, наемным работником, значицца, он тебя эксплуатировал. А теперь ты назначен новым революционным правительством уполномоченным и несешь полную ответственность за сохранность бывшего панского дома, в котором планируется открытие школы, и сохранность сада – твоя обязанность, за урожаем приедут из Сенна, и пойдет он на питание в детские дома, словом, осиротевшим в войну детям.
Рыжий покрутил кончик уса, выложил на стол две бумажки.
– Вот эта, с печатью, – ткнул он пальцем в бумажонку, – твой документ: кто ты и что ты. А вторая – твое обязательство. Вот тут, внизу, распишись за то, что несешь полную ответственность за сохранность бывшего панского имения со всеми пристройками и садом. Расписался? Ну и лады, – рыжеусый закурил, выдохнул изо рта пухлыми, будто ярко накрашенными киноварью, губами фасонные колечки дыма. – И еще мы привезли тебе одну штукенцию – ружьишко и десяток патронов. Это на всякий непредвиденный случай. Мы уже и так много проморгали – мужики разгромили панские усадьбы, растаскали добро по дворам на свои нужды, а то и вовсе сожгли дотла. В твоем куту такого не должно случиться.
Мне очень хотелось сообщить сенненским «комиссарам», что папе уже грозили бабаедовские мужики, но промолчала – Антошка, страшно округлив глаза, прижал палец к своим губам: молчи, мол, не пикни!
– Так вот, гражданин Шунейко, оставляем тебе ружье с патронами. Если что не так, пальнешь для острастки. Ну, а если что всерьез, мчись в Сенно, поможем. Мужики сейчас ошалели от слободы, бесятся, того и гляди…
Они уехали с большим коробом отборных яблок.
– Ой, чует мое сердце беду, – сказала мама и заплакала.
8
… В тот вечер к нам явилось трое бабаедовских мужиков – известных драчунов на вечеринках и свадьбах, больших любителей самогона.
– Нам, пан Шунейко, все уже досконально известно. Нехай ты и уполномоченный и в ответе за панское добро, но нам на ето дунуть-плюнуть и лаптями размазать по панскому паркету. Слобода! Было панское – стало народное. А мы, крестьяне, кто? Народ мы! Вот ты, хоть и уполномоченный и расписался за то, что сохранять будешь, а только нам это ни к чему.
– Да что ж вы, мужики, в панском доме школу открывать намерились. Ваших же детей учить грамоте будут.
– А что касаемо школы, то улита едет, когда что еще будет. Здесь же зима не за горами, а у нас печки прохудились, избенки с глиняными полами. По ним детишки малые ползают. А в панском доме одних каминов да голландских «группок»[2]2
Группки – печки.
[Закрыть] навалом, кирпич! А полы – дубовые доски, да опять же – окна застекленные, двери высоченные – добро!
– Вот что мы тебе скажем: не мешай нам, мы ж – сила, а ты – один. У тебя детишки да Анюта! Упреждаем: не мешай! Мы не отступимся. И не доводи нас до убивственного греха.
С этого вечера наступила для нашей семьи беда так беда. Днем спали по очереди, а ночью караулили. Антошка на чердаке, мама в сенях у двери. Я цеплялась за подол ее юбки, у мамы большой живот…
Полночь. За окнами ни зги и тишина такая, будто онемел весь земной шар. Ни шелеста листвы, ни посвиста осеннего ветра, ни лая собачьего. Нам бы спать сейчас, потеплее укрывшись, а мы в сенях дрожим от неуемного страха и холода. Мы ждем, что вот-вот нагрянут бабаедовские пьяные мужики с топорами, чтоб громить дом пана Ростковского. А еще они грозили папе, что лишат его жизни, если он будет перечить. Мама стоит у входной двери в сенях. Ее руки касаются железной задвижки, пальцы дрожат как в ознобе, и старый расшатанный затвор на двери выбивает дробь. Этот неприятный звук мешает прислушиваться к тому, что происходит за стенами нашего жилья. Мне страшно – ведь моего папу могут убить. Всеми силами сдерживаюсь, чтоб не зареветь в голос. В кромешной темноте сеней я каким-то чудом вижу неестественно белое мамино лицо. Мои руки и ноги – ледышки. Почему папа ушел караулить панский дом без ружья? Ведь ему сами начальники оставили ружье и патроны: «Пальнешь, если что – для острастки». Прижимаюсь к ногам мамы и дрожу, как осиновый лист на ветру. А папе тоже страшно. Он один в огромном пустом доме. «Папочка, миленький, я не хочу, чтоб тебя убивали. Папочка, я тебя очень сильно люблю, – вытираю слезы краем маминой юбки, – а Антошке страшно?» Он на чердаке несет караул у очень маленького оконца. И что он может увидеть в такой темноте?! Он еще днем натаскал на чердак камней и подвесил на веревочке железный противень: «Знаешь, какой гром устрою, испугаются и топоры побросают…»
«А вдруг Антошка уснул и мужиков прозевает?..»
Антошка не прозевал, он первый услышал голоса погромщиков.
– Пошли к панскому дому. Человек десять, а может и меньше. Не бойтесь, они папку не поймают. Он в погребе, с секретным лазом в малинник… Слышали, что я сказал? Слышите – орут! – и голова Антошки исчезла из проема над лестницей на чердак.
– Отдай ключи по-хорошему, – орал погромщик.
– Не имею права, мужики. Отдам ключи, мне и вам – трибунал!
– Нас… мы на твой трибунал!
– Мужики! Опомнитесь! Те ухари, что громили соседские имения, под этим самым трибуналом, на какой вы…
– Отдай ключи и не стращай. Мы ж тебя, гада, упреждали – не мешай. Навались, мужики.
– Нехай ключи отдаст. Мы по-благородному желаем.
– Ключи не отдам, я в ответе за сохранность этого дома.
– Бей Шунейку, – заорал самый нетерпеливый, по прозвищу Хвост.
– Раз, два – взяли…
Папа ушел, оставив дверь на волю рока, прошел на кухню, спустился под пол, прополз до погреба и выдавил себя сквозь слуховое оконце, оказавшись в густых зарослях малинника. Не успел сделать нескольких шагов, как услышал знакомый голос:
– Пан Шунейко, это я, Петр Звонцов. У меня конь оседлан за Павловой банькой, я мигом в Сенно – надо этих выпивох урезонить. А вы палите из ружья. Я – свидетель, если что… Поспешайте домой, там же жена, дети.
И они разбежались – Звонцов к своей лошади, а папа к нам.
Дубовая дверь панского дома не поддавалась. Хвост предложил:
– Давайте его Анюту с детишками пугнем – отдаст ключи!
Мама услышала топот многих «озорников» и тут же на крыльце голос папы:
– Анюта! Открывай!
Мама рванула задвижку и только успела закрыть за папой дверь на засов, как к ней привалилась ватага мужиков – вот-вот выломают. А папа уже с ружьем взобрался на опрокинутую вверх дном бочку и просунул ствол в щель над дверью. Когда дверь затрещала, папа бабахнул из ружья, как будто из пушки.
– Всех перестреляю, на то мне и ружье дано. Дом панский громить не дам, детям школа надобна, – громко высказал свое решение папа и на всякий случай зарядил ружье новым патроном.
– Ты еще попомнишь нас, – загалдели притихшие было мужики. А Хвост фальцетом перекрыл галдеж:
– Мы ж тебя упреждали.
И тут Антошка на чердаке ударил шкворнем в подвешенную им железку, наделав звона-грома. Затем, высунув голову в чердачное оконце, скомандовал: «В атаку!» – и азартно стал швырять заранее припасенные им камни, куски старого кирпича и черепки битой посуды. Весь этот шквал – орудие нападения – летел в ночную темень. Мужики, матерясь, удалились, а папа вышел на крыльцо и еще раз бабахнул поверх садовых деревьев – так, для острастки.
В эту ночь мы уснули только к утру, на меня напал колотун, и я никак не могла согреться.
В полдень из Сенно прибыли верховые в кожанках, в фасонных галифе и хромовых сапогах со шпорами. Бабаедовцы ломали головы: как узнало сенненское ЧК, что произошло в Бабаедове минувшей ночью. Всех пожелавших – ни жить ни быть – разломать панские камины и голландские «группки», чтобы подлатать свои развалюхи-печи, собрали у прясла панского дома. За всем, что происходило, наблюдала порядочная толпа. Погромщикам повязали руки за спинами, усадили в бывшую панскую телегу, в какой ранее возили снопы с поля. И пока Петр Звонцов, усталый и хмурый, возился, запрягая своего коня, чтобы отвезти арестованных в Сенно, Хвост каялся:
– Я ж говорил им: «Мужики! может, не надо так-то». А они на меня пришикнули, еще и ногой под зад долбанули. Бабы, дети наши, прощевайте, – голос у Хвоста перешел на жалобный писк, прерываемый плачем. – А все ето от проклятого самогону Кандыбихи: опоила, одурманила дураков. Заорали: «Громи панский дом! Забивай Шунейку!» А за что? Он же дом для наших детей старался сберечь, для школы. Граждане! Простите вы нас, окаянных.
В толпе заголосили женщины. Кто-то из них крикнул: «Бей Кандыбиху – самогонщицу! Это она виновата!» Бабаедовцы долго потом шли за телегой с арестантами и тремя всадниками в галифе и скрипучих кожаных куртках.
9
С тех пор притихла деревня Бабаедово. Только и шуму, когда на заре пастух Павла проиграет на берестяной дудке побудку – просыпайтесь, бабы, хватит спать, гоните коровушек травы пощипать.
Шло время, про пана Ростковского не было никаких вестей. Правда, ночевал у Тялоха давний его родич, и будто бы он рассказывал, что пан Ростковский со своей семьей и кое-каким скарбом с помощью знакомого лесничего на своих же подводах потайными лесными дорогами добрался до границы Польши.
– Ну, а там он, как в родном доме. Известно – поляк…
Об этом поведал кое-кому «по большому секрету» Тялох, мужик сам себе на уме:
– Пускай что хотят воротят, а только б нас не чапали.
И правда, никто нас пока «не чапал». Будто забыли про Бабаедово, «агромадный» сад пана Ростковского и про люд, что притих, как деревья пред грозой. Где-то проходили разные события, одно другого страшнее, а нашим бабаедовцам все трын-трава.
– Не трепыхайтесь, мужики, – говорил пастух Павла, уважаемая личность в нашей деревне, – живете, слава те, Господи, и живите. А что дале будет, поживем – увидим.
Задолго до восхода солнца Павла пришаркал в лаптях на выгон, достал из-за пазухи берестяной рожок, поднес его к губам, чтобы подать сигнал заспанным бабенкам немудреной музыкой: «Туру-туру, туруру, я коровок ваших жду», – как вдруг ахнул и заткнул рожок на свое место, за опояску на одежонке, не имеющей определенного названия. Озадаченный, он стал соображать, что к чему… Метрах в пятнадцати от его, Павловой, баньки, что подарили ему мужики за ненадобностью «обчеству» – каждый свою собственную сгоношил – стоит телега-развалюха, а рядом лошаденка хрумкает траву, кем-то ей припасенную…
Этим «кем-то» оказался парнишка лет десяти. Волосенки прилипли к потному лбу, на плечах истлевшая от старости ситцевая косоворотка без единой пуговки у ворота и холщовые штаны, закатанные выше колен. Мальчонка скорбно смотрел на пастуха, а пастух – на нежданного гостя.
– Ты хто, паря? И что тута делаешь?
– Дяденька, родненький, не ругайте меня и не гоните, Христа ради. Погорельцы мы, измучались. Ни в одну деревню жить не пускают. А мамане срок пришел рожать. Это седьмой будет.
– А батька ваш где?
– Батяня погиб в огне, хотел кое-чего из добра вынести – не успел. На наших глазах крыша рухнула и батяню… Маманя в огонь кидалась, люди удержали. А она – будто не живая…
– А по какой причине изба ваша сгорела?
– Люди баяли, что дядька Васик спалил. Больно батяньке, своему родному брату, завидовал: и тому, что на гармошке играл, и что детей много, и все дети как дети, а у него одна дочка, да и та будто «пыльным мешком хлестнутая».
– А где дети? Маманя? Чтой-то их не видать.
– Дети в бане. Я им дал наказ: сидеть без писка. Да как не пищать, когда жрать охота, а у нас ни бульбинки, ни корочки хлебной. А маманя вон, над озерцом сидит, стенку бани лопатками подпирает да ойкает. Потуги у нее, рожает.
– Вот что, паря, ребятенков всех из бани – прочь, пускай на телеге кантуются. А маманю твою – в баню. Живо!
Первой пригнала на выгон свою корову Тайка, по прозвищу Стрекоза, – тонконогая девчонка, большеглазая и самая озорная из всех своих сверстниц. И откуда у нее что берется?! Вот и сейчас, едва увидела, какая из Павловой баньки высыпала ватага незнакомых ребятишек, и все они побежали к телеге, возле которой конь доедал траву, а вдоль бревенчатой стены с крохотным оконцем на четвереньках ползла баба, Тайка от удивления раскрыла рот. Белый головной платок сполз бабе на глаза. Пряди длинных светлых волос цеплялись за макушки травы. Женщина добралась до порога бани, и тут ей помогли Павла и мальчонка. Через минуту-другую они выскочили из бани.
– Чаво рот раскрыла, глазищи таращишь?! Лети, что есть силы, клич бабку Анухриху. Женщина рожает – подмога надобна.
– Дядечка Павла, ты что, жанился?
– Тьфу на тебя, стрекозу шальную, погорельцы это. И галопом сюда с Анухрихой, не то и кнута отведаешь!
– Ой – ешаньки, – пискнула Тайка и умчалась.
Не прошло и десяти минут, как на горизонте появилась Тайка. Она тащила за руку Анухриху, сухонькую старушонку, известную на всю округу повитуху-целительницу – такой талант ей был дан Богом.
За Тайкой с Анухрихой бабы гнали своих коров. Уже вся деревня знала про погорельцев, а потому хотелось увидеть их своими глазами.
– Ночью приехали?
– В бане Павловой ночевали?
– А баба рожает?
– Рожает, когда срок привалил. Ох, Господь наш, прости нам грехи наши, – судачили бабы, погоняя буренок.
Когда подбежали Тайка с Анухрихой, Павла рванул дверцу баньки, и из ее притемненной глубины вырвался едва сдерживаемый вой. Павла буквально подхватил Анухриху под локотки и внес ее к роженице. Но тут же выскочил из предбанника, сорвал с головы кепчонку и осенил себя крестом, щурясь на огненно-розовый край солнца, выглянувший из-за кромки темного леса.
Все молча смотрели на пастуха в глубоком раздумье. И тут, нарушив тишину, как гром среди ясного неба, прозвучал басок Кандыбихи, бабы богатырского роста и мощного телосложения:
– Так что это, вся эта орава в бане останется жить? А если, к примеру, я захочу помыться-попариться, раз у меня, к примеру, нетути бани своей.
Павла почесал затылок:
– А ты, Кандыбиха, к примеру, в эту баньку не поместишься. Ты, к примеру, и в дверной проем не просунешься. Моесси ты, к примеру, у Тялоха, в его просторной бане, ну и мойся. Аль он тебе худо мочалкой спину трет? Али ты ему самогону мало даешь?
Раздался дружный хохот. Толпа баб загалдела, и Кандыбиха, втянув голову в плечи, быстренько засеменила по улице к своей избе – прочь от этих баб-балоболок, от пастуха Павла, к которому все бабаедовцы относились с почтением. А как же: честный человек, понимает в ветеринарии, а еще и «хвилософ» – скажет, будто в узел завяжет.
«Погоди, погоди, хвилософ, дойдет мой черед пастуха кормить, я тебе кой-какой травки подсыплю – весь лес обдрищешь…» – Кандыбиха вдруг остановилась, повернулась лицом к бабьей толпе:
– Эй, вы, козы драные со своими безрогими козлами, пелювала я на вас. Вот вам! – она повернулась спиной и нагнулась, задрав юбку. Все ахнули, увидев внушительных габаритов бело-розовый зад…
Бабы заулюлюкали. А Кандыбиха медленно удалилась, помахивая березовой веткой.
Дверь баньки распахнулась, на пороге стояла Анухриха и, победоносно поглядывая на баб, объявила:
– Двойню родила погорелица, кричат в два голоса, с перевязанными пупками лежа на березовых вениках. Ой, и орут-то, радехоньки, что вырвались на свет Божий.
– Ну-ко ты, стрекоза, лови шайку да зачерпни поболе воды, обмою мальчонок студенкой, здоровее будут. Смотри, девка, пиявок не начерпни.

Павла положил руку на плечо мальчонки-погорельца.
– С братьями тебя, паря. Назови одного Павлом, второго – Касьяном.
– Так Касьяном звали моего папаню, и я – Касьян.
– Ну, тогды, Коська, дадим им имя Павел и Иван.
– Иван уже имеется. Вона, на телеге ревом ревит, жрать просит. Известно, несмышленыш, не знает того, что нечем кормить, а терпеть не желает. Батянин баловень. Назовем одного Пашкой, а другого – Ромашкой.
– Лады, перекрестился пастух, бери мою дудку и труби победный марш во славу Пашки и Ромашки.
Мальчишка взял рожок и заиграл так красиво и так звонко, что бабы захлопали в ладоши.
– Вот тебе, Павла, и помощник. Подпасок что надо.
– Коська, согласен работать с нашим Павлой?
Коська закрыл лицо черными от грязи руками, часто закивал головой и всхлипнул.
– Ну вот, бабы, и порешили этот вопрос. А теперь мы с Коськой пошли трудиться, а то ваши коровы уже, кто знает, куда улепетнули. Ишь, обрадовалось рогатое обчество, свободу почуяло, а вы тут, бабоньки-красотки, пошуруйте по своим кладовкам, кто чем помогите погорельцам да сходите которая к Шунейку, обскажите ему все, что требуется. Как садовник решит, так и будет – у него доброе сердце и ума палата.
А моему папе с мамой уже давно все доложили, и он катил к погорельцам садовую тележку, полную яблок с грушами. Антошка тащил в мешочке немного ячменной крупы, картошки и бутылек конопляного масла. Я помогала маме нести узел с кое-какой одежонкой, чудом сохранившейся на чердаке в сундуке Ростковских. Но самый ценный подарок погорельцам – кусок мыла.
– Уважаемые женщины, обратился папа к «обчеству», – беда может одолеть каждого из нас. В беде надо помогать. Я под страхом смерти не отдал ключи для подлого дела, а сейчас отдаю ключ от пристройки, где жил конюх Евхим. Там две комнатушки и кухня с печкой, сарай для лошади. Туда мы отвезем погорельцев. Сад – вот он, яблок навалом – отъедайтесь, дети. Тут и колодец рядом.
– Как вы полагаете, уважаемые женщины, правильно я решил вопрос?
– Правильней и решить-то нельзя.
Дело закипело. Тайка с Анухрихой затопили баню и стали носить воду из колдобины. Им помогали дети-погорельцы, которые постарше. Хотела и Наталья встрять в работу, да Анухриха налетела на нее коршуном: отлежись малость, очухайся. Ой, нагорюешься ты, баба, и набедуешься…
К вечеру всех погорельцев, вымытых, подстриженных и вычесанных частым гребешком, переодетых в одежку, собранную бабаедовскими бабами, перевезли на их же телеге и их же конем на «кватеру» бывшего панского конюха. Наталья низко поклонилась всем, кто проводил ее семью до порога.
– Люди добрые!.. – и она заплакала. – Думала, пришла погибель мне с детушками моими, а Бог решил иначе – попали в рай к людям-ангелам. Ни я, ни мои дети никогда не забудем вашей святой доброты, и мы станем так же помогать тем, кто окажется в беде. Низкий всем вам поклон от нас.
Уже Павла с Коськой пригнали стадо. И только теперь «божьи ангелы» разбрелись по своим дворам. Мама подоила корову, процедила молоко, наполнила крынку и сказала:
– Пойдем-ка, дочка, отнесем новоселам молочка.
Когда мы пришли к Наталье, вся семья сидела за столом, тут же был и пастух. Они с Коськой успели еще застать теплую баню. Нашелся у Павла и мыла кусок с «собачий носок».
Я таращила глазенки на погорельцев и не узнавала их. Неужели это те зареванные, оборванные, что с такой жадностью хватали грязными руками яблоки и груши, привезенные на тележке для них моим папой. Мне тогда казалось, что они никогда не насытятся.
И вот сидит за столом Наталья… У нас в Бабаедове нет ни одной такой красивой бабы. А все дети такие чистые и счастливые, угощаются гостинцами, принесенными Павлом.
Наталья встала из-за стола и поклонилась маме, приняла крынку молока, хотела поцеловать ей руку, но мама не разрешила.
– Наталья! Неси свою судьбу с гордостью. Не унижай себя лишними поклонами и целованьем рук: таких людей больше уважают.
– Ну, как же иначе? Я была на краю гибели. Ни в одной деревне нас даже ночевать не пускали. А к вам судьба привела, будто в рай попали.
– Садись, Наталья, на свое место за столом. Вот что еще решили наши бабаедовские бабы: двойняшек окрестить в церкви, а крестным быть тебе, Павла. А кумой пускай будет Тайка-Стрекоза. Решили, думаю, мудро. Старый да малый – чем не кум да кума? С новосельем тебя, Наталья. Помоги тебе, Боже, в бабаедовском раю.
В нашу деревню изредка кое-кому приходили письма. На конвертах одни писали «д. Бабаедово», а другие – «Бобоедово». Вот пастух Павла, он же «хвилософ», и разъяснял:
– Думаю, история нашего пункта произошла таким путем: то ли здеся перво-наперво поселились бабы, любительницы добро поесть. Вот, к примеру, как наша Кандыбиха. А если «Бобоедово» через букву «о», тогда такое название пристало оттого, что все бабаедовцы засевали клок земли бобами. Потому что у нас без бобов ни туды и ни сюды. Всю зиму в горшках парим да объедаемся. А если еще сдобрим их конопляным маслом с цыбулькой – живи, радуйся да воздух порти.
Не успели бабаедовцы опомниться от события с погорельцами, как снова гром среди ясного неба.









































