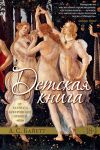Текст книги "Вавилонская башня"
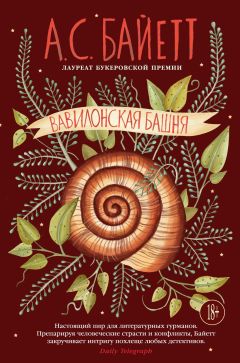
Автор книги: Антония Байетт
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
– Так вы думаете, наш диссидент подчинится или уйдет?
– Уйдет, наверно. Ему надоест. Я думаю, уйдет. А у меня нет никакого желания допекать начальство жалобами. Он все-таки вносит разнообразие. Ему надоест, не беспокойтесь. Скажу больше, – добавляет она, – в коллективе такие баламуты даже полезны: они как инородное тело, из которого образуется жемчужина. Из-за них остальные сплотятся и будут работать дружнее.
Александр едва удерживается от соблазна по-отечески обнять ее за плечи.
На другой день комиссия уже во Фрейгарте. Утром, улучив минуту, Александр отправляется к Биллу Поттеру, тот его ждет. К своему удивлению, он замечает на лице Билла синяки и спрашивает, не упал ли он.
– Нет. Не упал. Не такая уж я старая развалина, на ногах еще стою твердо. Это один сердитый молодчик дверью припечатал. Зять. Искал Фредерику. Говорю, что ее тут нет, – не верит. Говорю, что не знаю, где она, – не верит. Она, как видно, сбежала, вместе с мальчиком. Жду продолжения. Скучать не приходится. Знать бы, куда она подалась. Ей нужна защита.
Подумав, Александр признается:
– Я знаю, где она. О ней есть кому позаботиться. Люди благоразумные.
– Если увидите, – говорит Билл, – попросите, чтобы дала о себе знать, буду рад. Передайте, что мне жить недолго осталось. Дочь есть дочь. Когда-нибудь она поймет. Передайте… даже не знаю, что передать. Где она, вы мне не говорите. А то еще заявится эта скотина и вздумает вырвать у меня признание под пыткой. С него станется. А потом будет глядеть на дело рук своих и лить слезы. Насчет мокрых платков он быстро распорядился, но нрав у него бешеный.
– Я передам. Она затаилась.
– Хоть тут ума хватило. Хотя, будь у нее ума побольше, она бы в такую передрягу не попала. Ей бы кого-нибудь вроде Дэниела.
– Дэниела вы на порог не пускали.
– Что было, то было. Но я образумился. Мне ведь не Дэниел не нравился, а его христианство, но я пришел к убеждению, что он такой же христианин, как и я.
– Вы законченный проповедник-пуританин старой школы, всегда таким были.
Билл улыбается:
– Один из очень немногих плюсов старости: знаешь, кто остался другом до конца, с кем разделять воспоминания. Мы друг друга насквозь видим.
– Это точно, – соглашается Александр.
Билл в этом разговоре дважды упомянул свою старость. Да, постарел он. Ссадины заживают плохо, кожа тонкая, как луковая шелуха. Кровоподтеки черные, обширные. Он улыбается, но улыбка выходит жуткая. Александр отвечает ласковой улыбкой.
Александр воссоединяется с коллегами во фрейгартской школе. Они слушают, как директор школы мисс Годден рассказывает в классе, где учатся дети семи-восьми лет, сказку «Зеленый Червь-Великан». Школа – большое бесхитростное здание из серого камня местного происхождения, построенное в 1930-х, пространство внутри разделяется двумя передвижными перегородками. В классе стоят длинные ряды столов, младшие сидят впереди, старшие сзади. Гости расположились позади всех. Сидеть неудобно. Те, у кого седалище посубтильнее, – Агата Монд, поэт, Руссель, даже Ганс Рихтер в своем костюме – поместились на детских стульчиках. Вейннобел восседает в высоком кресле за ветхим преподавательским столом. Мисс Уорт и мистер Магог сидят на скамеечке из спортивного зала. Потеснившись, они дают место и Александру.
– Червь издал протяжное шипение (это змеи так вздыхают) и, ничего не отвечая, бросился в воду. «Какое гадкое чудище, – сказала себе принцесса. – Зеленоватые крылья, тело все время меняет цвет, клыки точно из слоновой кости, уродливое хохлище, вроде папоротниковых листьев. Лучше умереть, чем знать, что обязана жизнью этакой твари».
Рассказывает мисс Годден негромко. Особенно занятные слова произносит нараспев: «чудище», «хохлище», «папоротниковых». Дети как воды в рот набрали. Слушают. Ногами не шаркают. Она так хочет – они и слушаются. Она выписывает на доске синонимы: «змея», «змей», «дракон», «червь» – и предлагает детям вспомнить другие известные им слова: «гадюка», «питон», «уж», «медяница» («Это, ребята, не змея, а безногая ящерица: она было отрастила себе лапки, а потом решила обойтись без них»), «удав», «кобра», «Наг» (один ученик читал «Рикки-Тикки-Тави»), «полоз», «черная мамба», «гремучая змея». На этих примерах коротко объясняется различие синонимов и научных названий, позволяющих отличить друг от друга биологические виды. Обсуждают, как слова различаются по «наружности», почему «червь» («Толстое слово, пухлое, медленное», – замечает рыжеволосая девочка) не похож на «змею» («Быстрое такое, скользкое, но резкое», – говорит она же) и на «змея» («Это что-то из сказки или демон из Библии», – она же). Рассуждают, почему люди не любят змей, а в сказках часто в них превращаются. Александр рассматривает девчушку. Мягкие рыжие, с золотистым отливом, волосы, большие темные глаза, веснушки – мучнистые бледные крупинки растворимого кофе, просыпанные в сливки. Широкий лоб, мягкие губы. Александр знает ее: на лице, на губах, на коже, даже во внимательных поворотах головы – всюду генетические свидетельства ее происхождения. Это Мэри, дочь Стефани – но и дочь Дэниела: тут и вихрастая рыжина Билла, и степенно тусклое золото волос Уинифред, сметливость, как у Фредерики (да и у покойной Стефани), и тягучий, задушевный взгляд отца. Она родилась за несколько дней до рождения Саймона Винсента Пула. Александр обращается мыслями к мальчику. Тот – сам по себе человек, целая жизнь впереди, собственная. Так ли уж важно, чьи у него гены, Томаса Пула или мои? Но Александру важно. Он хочет Саймона понимать. Он смотрит на девочку. Вспоминает Саскию Агаты Монд: «Отца у нее нет»…
– В конце урока, – рассказывает мисс Годден, – мы всегда читаем страницу из словаря, где стоит сегодняшнее слово, сегодня это «червь» или «змея». Мэри Ортон, ты хорошо во всем разобралась, ты и выбирай какое. Читаем и смотрим, нет ли там незнакомых – даже мне незнакомых – слов. Задумаемся о том, как много существует разных слов и как много можно ими выразить.
Вейннобел кивает. Поэт витийствовать не рвется: он видит, что аудиторию уже покорила не первой молодости толстушка-сказочница, учительница, а кроме того, сказка и словесные игры его заинтересовали.
Он решается отвести душу только за обедом. Школьники обедают за длинными столами из составленных в ряд парт, еду в алюминиевых баках разносят подавальщицы в комбинезонах. Членов комиссии за преподавательским столом потчуют чем-то вроде тушеной баранины с расклякнувшим зеленым горошком и серым картофельным пюре, в котором попадаются комочки крахмала.
Микки Бессик громогласно заявляет:
– Вот хлебово-то! Как можно таким хлебовом людей кормить? Эту баланду детям есть нельзя и нам нельзя, я точно не буду.
Его умысел Александру понятен: хочет подбить учеников, чтобы они повыбрасывали еду или хотя бы демонстративно от нее отказались. Но одни едят как ни в чем не бывало, другие вяло ковыряются в тарелке: и правда, не очень аппетитно, но не так чтобы несъедобно. Александр есть бы не стал, однако ему так стыдно за поведение поэта, что он отваживается попробовать. Поэт встает, выгребает еду из тарелки и вываливает в бак с горячей водой, где отмокают ложки и вилки.
– Тут, наверно, где-нибудь паб имеется, – говорит он. – Кто хочет сэндвич?
Молчание. Поэт удаляется. Агата права: остальные члены комиссии теперь держатся друг с другом подчеркнуто дружелюбно.
* * *
Группы возвращаются из поездок. Комиссия в полном составе собирается за длинным столом в невзрачном кабинете Министерства образования, которое скоро преобразуют в «Департамент образования и науки». Рассаживаются по роду занятий: преподаватели университетов с преподавателями университетов, учителя с учителями, писатели и журналисты тоже нехотя сбиваются в одну компанию, только смазливый поэт сидит в одиночестве и рисует в блокноте карикатуры. Потом эти группы разобьются на фракции, которые объединятся в другие группы. Александр занимает место напротив председателя Филипа Стирфорта, секретариата и других университетских, Вейннобела, Наоми Лурие, Артура Бивера. Не для того, чтобы торчать перед глазами у председателя, просто отсюда лучше видно Агату Монд. Себя он ни к какой группе не относит, он сам по себе, сторонний наблюдатель, сюда попал почти по недоразумению. С ним вечно так: его считают мягким, отзывчивым, видят в нем связующую силу. По сторонам от него усаживаются Ориол Уорт и Роджер Магог.
Агата написала вразумительный отчет о каждом визите. Артур Бивер, который ни в одной школе не побывал, утверждает, что школа «Звезда» и школа во Фрейгарте воплощают полярные взгляды на начальное образование. Он интересуется, что посетившая их группа считает достоинством каждой.
Ганс Рихтер замечает, что сейчас осень. Это к тому, что в «Звезде» сейчас много света и воздуха, но летом будет сплошной дискомфорт: ученики и учителя будут изнемогать от духоты. Архитекторы часто с людьми не считаются.
Александр говорит, что в «Звезде» негде уединиться.
Магог возражает, что и в большинстве школ негде уединиться. Спрашивает, не надо ли понимать замечание Рихтера в переносном смысле.
Нет, отвечает Рихтер, в самом прямом: речь о материальных условиях. Но материальные условия влияют и на умственную деятельность: когда дети задыхаются от жары, им не до учебы.
Стирфорт призывает членов комиссии вернуться от архитектуры к преподаванию английского языка.
Ориол Уорт одобрительно отзывается об обеих начальных школах: дети знания усваивают, учатся с удовольствием. Увы, в обоих случаях это, кажется, зависит от личности учителя. Директор «Звезды» – внимательный, расторопный, талантливый организатор. У другого на его месте при такой же постановке дела вышла бы полная неразбериха. Мисс Годден умеет удержать внимание детей разного возраста и уровня подготовки и заставить их мыслить. Но у менее талантливого и изобретательного учителя такого контакта с детьми не будет.
Артур Бивер считает, что в отчет о работе комиссии необходимо включить раздел о работе учителей: при изучении родного языка педагогические способности и мировоззрение учителя играют большую роль.
Магог говорит, что его поразила неприязнь к грамматике, проявившаяся в дискуссиях в единой средней школе. Пожалуй, тут и самый талантливый учитель, сколько ни бейся, не победит отвращение, с каким огромное большинство учеников – а похоже, и учителей – смотрит на грамматику. Когда он сам учился в школе…
(Во время обсуждения каждый член комиссии – каждый со своей интонацией – рассказывает, что было, когда он или она учились в школе. По пыльному казенному кабинету проплывают то пышные, то сморщенные облака воспоминаний о былом. Александр наблюдает. Ему представляется Магог-школьник: толстенький, с пухлыми коленками, кучерявый, хмурый, ершистый, по всем предметам один из лучших, но ни по одному не первый.)
…когда он учился в школе, грамматика казалась ему этаким способом уличить его в невежестве – вроде дверок в лабиринте для подопытных крыс, – орудием учителей для суда и расправы, препятствием свободному полету вдохновения – словом, тиранией.
С тех пор, продолжает он, в его отношении мало что изменилось. Он вполне солидарен с гонителями грамматики. Школьник, участвовавший в дискуссии, прав. Мы говорим грамматически правильно и без знания грамматики.
Наоми Лурие возражает: без знания грамматики школьники запутаются в синтаксисе Мильтона или Донна.
Уолтер Бишоп замечает, что Мильтона и Донна читает не так уж много детишек. Зачем же остальным из-за этих избранных мучиться – разбирать предложение по составу, знать типы придаточных? Им надо правильно писать заявления о приеме на работу и уметь правильно заполнять официальные бланки.
Гай Крум говорит, что, хотим мы или не хотим, правила человеку необходимы. Условие существования всякого общества – кое-какие нехитрые правила, по которым оно занимается своим делом. Он не одобряет новый педагогический подход, когда ученик вместо того, чтобы знакомиться с фактами, должен что-то открывать. Детям морочат голову: почему бы им просто не выучить то, что нужно, а уж потом открывать что-то поинтереснее? С правилами легче. Правила – это порядок, а без порядка нет творчества. Бедные малыши, не зная алфавита, часами роются в словарях, ищут наугад. Учить правила, приведенные в систему, – одно удовольствие, но сегодня эта метода не в чести. Он убежден: тому, кто не усвоил элементарные правила математики, в этом мире не прожить. Он убежден: без правил и футбол, и теннис, и карточные игры были бы скука смертная. Поиграйте в карты с ребенком, который по ходу дела придумывает новые правила игры, и вы поймете, как скучна бессистемность, а следовать правилам – свойство человеческой натуры.
– Это фашисты так говорили, – вмешивается поэт. – Заставьте кого-нибудь учить стихи старых поэтов: он их возненавидит. Надо, чтобы читатель их разыскивал. Надо их запретить, изъять из употребления. Вот тогда на них набросятся.
Председатель спрашивает Вейннобела, что думает о правилах он.
Вейннобел отвечает, что было бы ошибочно ставить в один ряд законы, предназначенные для политического и социального контроля в какой-то группе, и языковые структуры, которые можно обнаружить в речи любого общества и описать. Тщательно подбирая выражения, он говорит, что приветствует изучение языковых структур, ибо, не имея слов для описания устройства нашей мысли, мы не сможем ни анализировать ее природу, ни указать пределы ее возможностей. Ницше утверждал, что западная философия рассматривает разные варианты одних и тех же проблем, возвращаясь к ним снова и снова, потому что наши идеи подчинены «бессознательной власти и руководству одинаковых грамматических функций»[102]102
Ф. Ницше. «По ту сторону добра и зла» (перев. Н. Полилова).
[Закрыть], которые в конечном счете, как отмечает тот же Ницше, явление физиологическое. Этот взгляд не равнозначен утверждению, будто философская проблематика – это «вопрос языка». Это значит, что то, что мы способны помыслить, – производное от нашей языковой компетенции. Он, Вейннобел, в отличие от некоторых присутствующих, полагает, что грамматические формы и структуры, которые мы используем, – нечто врожденное, часть устройства нашего мозга и передается генетически, отсюда изощренность и обширность нашего сознания, но в то же время его ограниченность, стремление снова и снова возвращаться к неразрешимым «проблемам». Он также считает, что изучение этих врожденных представлений о строе языка – задача трудная, а всматривание в них вызывает у многих неприятие. Но если мы не будем учить словам для описания структуры языка, пропадет возможность анализировать структуру мышления. Разумеется, добавляет он, это сказано не в защиту заумных экзерсисов на основе заимствованных из латыни грамматических категорий: от их засилия в школах пора избавиться.
Магог соглашается, согласен он и с тем, что грамматические правила, за которые ратует мистер Крум, часто превращаются даже в ничтожные поводы для репрессий и отдаляют ученика от учителя. Их отношения сегодня строятся неправильно. Когда он работал в школе, он создавал в классе атмосферу доверительности, побуждал учеников писать все откровеннее, все эмоциональнее о конфликтах в семье, о своих мечтах и надеждах – все это включено в его книгу «Жизнь как она есть» (почтенному собранию, разумеется, не надо объяснять, что это заглавие – иронический кивок в сторону журналов, где печатают ответы на письма читателей с жалобами на житейские невзгоды), «и благодаря этой искренности обогащался словарный запас школьников, мысль делалась глубже, появлялась живинка, господин председатель, живинка».
– А потом? – спрашивает Ориол Уорт. – Я вашу книгу читала, но что было, когда вы закончили с ними работать, что стало с этими детьми, которых вы научили так выражаться, так откровенничать? Долго еще вы были в контакте с теми, кого побуждали писать о жестокости, злобе, сварах?
– Я проработал там один учебный год. Пока… пока не нашел издателя для книги. Осознавая конфликты, они закалялись.
– Учитель не психоаналитик.
– Такие, как вы, вечно мне разносы устраивают. Сами о своих подопечных не очень заботитесь, а критиканствуете.
– Я учу, мистер Магог. Учу читать, писать, думать. Учу видеть в мире что-то, кроме себя. Я свою позицию уважаю. И свою, и их.
– Просто вы сторонница авторитарности.
– Сегодня всякий авторитет называют авторитарностью, – грустно роняет мисс Уорт.
Артур Бивер говорит, что этот оживленный обмен мнениями прекрасно иллюстрирует некоторые проблемы дидактики, которые он предлагает вниманию комиссии. Как утверждает Мартин Бубер, в прошлом учитель обладал признанным авторитетом в силу своей принадлежности к определенной культуре. По прекрасному выражению Бубера, он был «посланником истории, отправленным к чужакам, детям». Но у такого положения дел был изъян, который стал проявляться все сильнее по мере того, как культурный авторитет ослабевал и терял непререкаемость: это «воля к власти», которая с размыванием личностного начала подчас оборачивалась жестокостью и деспотизмом. Изъян противоположного свойства Бубер назвал «Эросом»: перерождение авторитета в обоюдную привязанность и идеализацию равенства, подмена профессиональных отношений личными. Но поддерживать такие отношения между учителем и учеником удается не всем: тут многое зависит от личной ответственности и прочности отношений, между тем учителя не бывают искренне привязаны к ученикам, а их родительские попечения сохраняются не дальше конца учебного года, когда они расстаются. Это скорее похоже на отношения случайных дружков-приятелей, которые многие считают составляющей антропоцентрической модели обучения.
– Мне ваша мысль ясна, – говорит Магог, – но, уверяю вас, каждого ребенка в своем классе я любил по-настоящему. По-настоящему.
Он обводит собравшихся огненным взглядом. И Александр ему верит. Он знает: среди учителей бывают такие притягательные личности, что их любовь окрыляет.
– Два полугодия, – уточняет Ориол Уортон язвительным директрисинским тоном. – Любили по-настоящему два полугодия. А потом отдали свою любовь в печать и выставили их боль напоказ.
– Я приложил все силы, чтобы…
– Ну конечно. Чтобы читатели остались довольны, а законы не нарушены.
Водораздел проведен, нужные слова найдены. Одни собираются под знаменем Эроса, другие под знаменем Wille zur Macht[103]103
Воля к власти (нем.).
[Закрыть], у одних пароль «друг-приятель», у других – «отец и командир». Александр млеет.
После заседания членам комиссии предлагают выпить хереса. Александр пристраивается к Агате Монд и помогает ей разносить бокалы. Ганс Рихтер, естественник, трогает за плечо профессора Вейннобела:
– Хорошо вы говорили, мне понравилось. Насчет врожденных представлений. Насчет структуры мышления. Если мы этим и занимаемся, дело принимает другой оборот. Мне-то казалось, моя забота – язык учителей естественных наук: как сделать, чтобы они яснее объясняли, грамотнее выражались. Но после ваших слов все иначе. Тонко это было замечено, насчет ограниченности мышления. Я убежден, – продолжает он бесстрастно, словно речь идет о структуре солей, – что во Вселенной существуют и другие формы разума, наш – только одна мелкая разновидность.
Вейннобел потрясен. В воображении на миг возникают исполинские головы ангелов, заслоняющие небосвод, плотные ряды крыльев, пернатых, и в то же время стеклянистых, органических, и в то же время строго геометрических. Он опускает свою большую голову, поглаживает усы.
– Не представляю, – отвечает он, – как это возможно проверить. Не может же двумерный человек на листе бумаги увидеть трехмерного, из плоти, и с ним общаться.
– Может догадываться интуитивно. Мы же находим решение задач при помощи интуиции.
– Или не находим.
– Интуитивно и неудачи можно предвидеть.
– Но уж язык носителей этих видов разума мы точно представить не можем.
– Что ж, будем набираться ума-разума по части собственного языка. Это, оказывается, интереснее, чем я думал.
– Несомненно, – соглашается Вейннобел.
VI
На обратном пути, сидя в казенной машине, Вейннобел думает о языке. О порядке и беспорядке, о форме и хаосе. Он размышляет об этом всю жизнь, и его не оставляет чувство, что он взялся за невыполнимую задачу. Собственные мысли представляются ему в виде красивого круга света, а в нем качается на темных морских волнах ладно сбитый дощатый плот, за пределами же этого круга мгла, где ничего не имеет очертаний или просто неразличимо, и куда плыть, непонятно. Он как тот человек на бумаге, о котором говорил Ганс Рихтер, двумерный воздушный змей, несомый ветром, силой, которую он ни описать, ни познать не в состоянии.
Он родился и вырос в Лейдене, отец его был протестантский богослов, кальвинист, который изо дня в день бился над мучительным вопросом: как согласовать добродетель, предопределение и букву Великой Книги? В жилах его течет не только кровь голландских кальвинистов: его дед по материнской линии был наполовину евреем, сыном талмудиста и голландской католички, которая пришла к убеждению, что христианская церковь, ложно трактуя Писание и некстати им руководствуясь, оказалась повинна в жестоких гонениях на евреев. В свою очередь, дед Герарда Вейннобела до беспамятства увлекся языком Писания. Он предпринял безрассудную попытку, черпая сведения и в мистических, и в исторических, и в экзегетических источниках, обнаружить следы праязыка, первоначального языка Бога, на котором говорили Адам и Ева, да и сам Бог, обнаружить Слово, которым Господь, лишь произнеся его, сотворил из хаоса мироздание. Во времена довавилонские – до того как человечество вздумало возвести ввинчивающуюся в небосвод башню, а Бог покарал его за самонадеянность, разделив и смешав его языки, – в те времена, согласно оккультным учениям, слова были вещами, а вещи словами, они были одно, как, возможно, человек и тень его или разум и мозг. Позже, после падения башни, слово и вещь разделились, язык каждого племени сделался глухой тайной, окутался непроницаемой пеленой непостижимой своеобычности. После падения дерзновенной башни (согласно почти всем системам мифологии) первозданный, божественный, единый язык, как хрустальный шар, разлетелся на семьдесят два осколка – или число осколков, кратное семидесяти двум. Разные слова или буквы можно трактовать как осколки первозданного шара – каждую букву иврита, каждое слово, каждую грамматическую форму. Адепты каббалы и герметизма, хасидские знатоки Торы и Талмуда пытались по этим осколкам восстановить Древний Язык, Ursprache[104]104
Всеобщий праязык (нем.).
[Закрыть]. Дед Герарда Вейннобела дни напролет нащупывал строй этого древнего языка, время от времени пускаясь с суровым зятем-кальвинистом в рассуждения о событиях Пятидесятницы: когда на апостолов, собравшихся в верхней горнице, снизошли языки огненные и они заговорили на неведомых им языках[105]105
Деян. 2.
[Закрыть], не было ли в их числе какой-то разновидности, хотя бы остатков первозданного языка? Хотя Кес Вейннобел и считал, что Йоахиму Стену после Страшного суда предстоит гореть в неугасимом огне, лингвистические взгляды Стена его заинтересовали. Кес Вейннобел сомневался, что первозданным языком был иврит. Он скорее был более естественным, более соприродным вещам: слова, обозначавшие льва, агнца, яблоко, змея, дерево, добро, зло, полностью заключали в себе силу и сущность того, к чему они относились, были тождественны предмету. Слово «слон» выражало сущность слона, «уховертка» – сущность уховертки.
Юный Герард Вейннобел слушал и наблюдал. Слушал, наблюдал, содрогался – и взбунтовался. Библейские выкладки отца и – несмотря на эстетическую привлекательность – рассуждения деда со всей ясностью показали ему, что люди готовы тратить на чепуху всю свою жизнь. И еще он усвоил, что в самой природе языка есть нечто такое – подвох, соблазн, извилина, что будоражит людей, побуждает тратить всю жизнь на чепуху. Он открыл для себя Ницше, ополчившегося на христианство во всех его проявлениях с восхитительно бешеной страстью исступленного христианского проповедника, сменившего веру, а Ницше утверждал: «Я боюсь, что мы не освободимся от Бога, потому что еще верим в грамматику». «Бого-словие», язык Бога, и грамматика – своего рода богословие.
Герард Вейннобел стал математиком. Он стал математиком, чтобы отложиться от сумбура, царящего в языке, и созерцать порядок. Он принялся за изучение чисел Фибоначчи – последовательности чисел, лежащей в основе структуры завитка внутреннего уха, формы бараньего рога, аммонитов, раковин некоторых улиток, расположения ветвей вокруг ствола дерева. Он удалился в мир чистой формы, – но это были уже не формы света, как прежде, формы, которые Вермеер вообразил и запечатлел в виде витражного окна и удлиненного, плотного тела женщины, размышляющей, читающей, наливающей молоко, – теперь он видел соотношения четырехугольников, размеров, основных цветов с картин Мондриана.
Во время войны Вейннобел перебрался в Англию, и, по-видимому, из-за того, что теперь ему пришлось говорить, преподавать, а позже и думать на английском языке – английским он владел основательно, но язык все же был не родной, – Вейннобел образца сороковых-пятидесятых годов от формы в точных науках вернулся к форме в языке. Он увлекся теорией Романа Якобсона[106]106
Роман Осипович Якобсон (1896–1982) – российский и американский языковед и литературовед.
[Закрыть] о «дифференциальных признаках» во всех языках, идеями де Соссюра[107]107
Фердинанд де Соссюр (1857–1913) – швейцарский лингвист, заложивший основы структурной лингвистики и семасиологии.
[Закрыть], который уподоблял язык шахматной игре, где слова – произвольные знаки, которым приписывают формальные функции, а в последнее время заинтересовался идеями Наума Хомского[108]108
Наум Хомский (р. 1928) – американский лингвист, публицист и философ. Основоположник порождающей (генеративной) грамматики.
[Закрыть], утверждавшего, что выявил универсальную глубинную структуру языка, универсальную грамматику, впечатанную в мозг человека от рождения, учить которой не нужно: владение ею так же непроизвольно, как биение сердца или фокусировка зрения. На нее не влияют ни социальные условия, ни личный опыт, это принадлежность биологического индивида, нечто такое, что способно порождать гулкую разноголосицу множества языков и присущие им ментальные структуры. Как бобер от рождения наделен умением строить плотины, паук – плести сети, так и люди рождаются с умением говорить и думать при помощи грамматических форм. Порождающая грамматика Хомского, его трансформационная методика в 1964 году направление еще новое и бескомпромиссное, а в смысле строгости близкое к точным наукам: чтобы его понять, необходимо оперировать математическими структурами и алгоритмами. Рассудок говорит Вейннобелу, что Хомский прав: способность порождать и трансформировать язык – врожденное свойство мозга, язык не вливается в него, как в пустое ведро, не записывается на нем, как на чистом листе, язык – он там, в складках мозга, в дендритах, синапсах, аксонах нейронов. До сих пор наука – педагогика и лингвистика – изучала, как формируется сознание, делая упор на влияние среды, обучения, отдельных событий. Допустить, что языковая способность – свойство врожденное и неизменное, – это попахивает детерминизмом, догматом о предопределении, а то и кое-чем похуже: допущением, что различия между людьми обусловлены не средой, а наследственностью. Вейннобел знает немало тех, кто считает, что такое допущение противно нравственному чувству, как были когда-то Вейннобелу противны взгляды отца. В его мирке о языке рассуждают много, о нем говорят то как о жесткой кристаллической структуре, то как о порядке, рожденном из хаоса, то как о структуре мятущейся, словно пламя, меняющей очертания под порывами ветра в окружающей среде. С эстетической точки зрения язык-пламя Герарду Вейннобелу близок, он готов поверить, что язык – зыбкая, неустойчивая, переменчивая форма. Рассудок твердит, что надо верить в кристалл. То же подсказывает интуиция. Способность человека конструировать язык соответствует его, Вейннобела, самоощущению.
А еще он верит, что когда-нибудь в отдаленном будущем нейробиологи, генетики, исследователи сознания разыщут языковые формы в чащах дендритов, узелках синапсов. Гены – апериодические кристаллы – задают подвластному им материалу структуры, формы, химический состав. Когда-нибудь эту неизменную форму удастся познать и таким образом познать сеть грамматических категорий и неизменную глубинную структуру грамматики. По крайней мере, Вейннобел в это верит. Но решить задачу, стоящую перед комиссией, – чему учить маленьких и не очень маленьких детей – эти соображения не очень-то помогают.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?