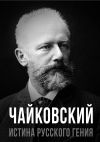Текст книги "Гений музыки Петр Ильич Чайковский. Жизнь и творчество"

Автор книги: Борис Асафьев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Петербургская чиновничья общественность первых лет царствования Александра II делилась на неравные части: на людей деловых, чуявших величие момента и либо сопротивлявшихся близким реформам, либо сочувствовавших им – и на людей безразличных, отчасти по молодости лет, отчасти по чисто бюрократическому отношению к происходящему: не наше, мол, дело; пусть прикажут, а там видно будет! – Конечно, последних было большинство. К ним, вероятно, принадлежал и Чайковский, но не по пустоте душевной, а по причинам иным. Он заглушал или пытался заглушить в круговороте пустой жизни, в погоне за жалкими удовольствиями, свою совесть – свой талант. Он не мог не чувствовать какого-то надрыва в своей душе. Быть может, он даже сознавал, что, приспособляясь и угождая людям, зашел слишком далеко, безвозвратно далеко…
Конечно, петербургские салоны этой поры не могли глубоко воспитать вкуса молодого дилетанта. Это уже не были те духовно-аристократические, хотя и барские по сословному положению кружки, где самый быт и окружающая атмосфера возвышали культурное сознание даже посредственной личности. Произошел перелом: на смену вольнослужилому барству, всегда стоявшему выше идеалов придворной челяди, пришел служилый чиновник, чиновник не только в смысле положения о табели о рангах, но чиновный слой, как совершенно особенное сословие, очень широкое и раскидистое, верхние категории которого ровнялись под барство, а нижние часто, под Мармеладовых и Голядкиных. Среднее чиновничество уже начинало задавать тон петербургской жизни: оно наполняло театры, общественные собрания, концерты, оно диктовало художественные вкусы, запросы и моды: французский театр с легковесными комедиями, «соловьиную» итальянскую оперу, а в остальном – непроглядное легкомысленное любительство: все для заполнения времени между скучными сидениями в департаментах. Но важны не факты, а их воздействия. Можно ли утверждать, что чиновничье мировоззрение с его отсутствием живого восприятия звуков, света, красок, с его замкнутостью в сфере докладов, рапортов и отношений на доклады и рапорты, в сфере, приучавшей к формальному отношению к любой жизненной данности – повлияло на душевный строй Петра Ильича? С полной достоверностью можно отвечать, что да. Я склонен рассматривать данный период жизни его, как период некоторой душевной слепоты, естественно вызванной какими-то благодетельными факторами его жизни. Его организму, перенесшему ряд жесточайших ударов судьбы, при его чувствительности удесятеренных в своей напряженности, организму, раздраженному к тому же музыкой, необходимо было выработать, в целях укрепления и самозащиты, средства заживления. Они и были найдены во временно абонированном кресле чиновника департамента, видящего лишь пустую мертвую службу, где мозг иссушается над «отношениями», вне касания той реальной сущности, что вызывает всякое отношение живых явлений, где двигаются бумаги, а не конкретные явления, и ощущающего жизнь, как пустое пространство между часами службы, которое надо чем-нибудь заполнить или же, иначе говоря, убить время. Чиновник не может понять реальной действительности, ее данности, он скучает в жизни, не заполненной средствами ее убиения. Это ужасное: убить время – убивало всякий вкус к жизни. Если все: театр, бал, карты, семейное торжество, всякое удовольствие ценны не как таковые, не как явления, подлежащие той или иной критике, эстетической или этической, а как вещи, заполняющие пустоту, – к чему же такое мироощущение может повести, как не к полному падению вкусов, смешению стилей и точек зрения, к безразличию в смысле выбора и распределения живого, творчеством одухотворяемого материала? Не все ли равно, каков он и как – лишь бы только правильно, как бумаги в папке – расположен?! Не все ли равно, чем заняться: лишь бы убить время. На комнатной обстановке, верном показателе вкуса, ибо с ее размещением связан интимный домашний уют, такого рода мироощущение выразилось в расстановке вещей, разностильных и равно бесвкусных, в кое-каком порядке: лишь бы заполнить пустоту, лишь бы убить эту страшную пустоту, это страшное зияние небытия. Столь жуткая незанятость жизни, невидение ее материала, неощутимость ее соков, слепота к ней налагает на человека ужасную печать. В сравнении с подобной пустотой существования даже всякого вида атеизм выступает, как религия. Здесь же полнейшая арелигиозность, полное отсутствие веры в святость жизни.
Фраза: «убить время» таит в себе наикощунственное отношение к жизни. Чиновничий Петербург впитал в себя приворотный смысл этого понятия. И если Гоголь, Достоевский и другие с ними ощущали призрачность Петербурга, заполняя ее фантастическими масками каждый по своему, то не меньше их каждый, даже самый маленький, петербургский чиновник, для которого единственная цель и жизненная данность сосредоточены в службе, олицетворяемой департаментом, и в деле, символизируемом бумагами, вне касания самой жизни, стремился заполнить пустоту небытия тем или иным внеслужебным занятием, игрой в «винтишко», например, не ради азарта или захвата душевного, а «по маленькой», ради того только, чтобы убить время. Чтобы почувствовать такой Петербург трагически, не отдаваясь ему всецело, но претворяя его призрачность в художественном творчестве, надо было иметь чуткую, впечатлительную, остро реагирующую на ритм и интонацию жизни душу. Гоголь был таким человеком, был им и Достоевский, а в музыке – Чайковский и, вероятнее всего, Мусоргский. Но прикосновение к этому городу не проходит даром, и каждая, даже самая сильная духом и творческим устремлением овеянная, душа бывала затронута веянием холода и величия серого гранита.
Пошлостью было бы сказать, что Петербург испортил дарование Чайковского салонным «разгильдяйством», игрой в музыку ради убиения времени.[7]7
Здесь большая разница, которую важно усвоить, между музыкальным дилетантством эпохи Глинки и Одоевского и дилетантством более поздней чиновничьей эпохи Александра II и III. Там игра с музыкой или забава – подлинные, высокого культурного стажа, здесь игра в музыку не ради любви, а ради заполнения или убиения времени.
[Закрыть] Нет! Все дело горазд о серьезнее, проблема острее и в ней – зерно трагедийности музыки Чайковского, то, что делает ее явлением значительно более великим, чем выражение скуки и тоски 80-х и 90-х годов, подобное Чеховским настроениям. Обоснование и созревание особенностей стиля Чайковского принадлежит гораздо более ранней поре.
Не надо упускать из виду, что «золотой век» даже для мальчика Чайковского был позади: в идиллической странице жизни в Воткинске. С первого же приезда в Петербург, город этот встретил его так беспощадно жестоко, что представление о дивной прошлой невозвратимой жизни, как о потерянном рае, создалось неизбежно. Смерть матери усугубила это представление. Для Чайковского кошмар смерти был навеки сцеплен, сочетай с Петербургом. Дальше: судьба делает из него петербургского чиновника. Чайковский, хотя на время, хотя даже благодетельно для своей психики, ощущает власть цепкого чисто-петербургского представления о жизни, как о каком-то пустом промежутке между чем-то и чем-то, который необходимо заполнить формальной службой и времяпрепровождением в виде игры, без осознания ценности того, чем и во что играют.
Такая психика Петербурга понятна. Белые ночи – состояние между двумя данностями бытия, а сами они – ни весть что, ни явь, ни сон. Заполнение ночи.
Упускать из виду влияние психики Петербурга на психику Чайковского было бы непростительной ошибкой. Его чувствительность душевная – слишком тонко реагирующий на все окружающее барометр – не могла не ощутить такого порядка влияний, особенно если вспомнить причину обострения тоски Чайковского и понять ужасный смысл смерти матери. Легкомысленная жизнь петербургского повесы – естественная психическая реакция, но реакция опасная, отравившая организм: когда пришла пора, и Чайковский стал наполнять свою жизнь музыкой и только музыкой, но не ради игры в нее и убиения времени, а ради творческого делания, чиновничье бесвкусное приятие жизни, как пустого пространства, которое надо заполнить, отразилось на его творчестве безоглядным, порой, отношением к качественной ценности звучащего материала, который он избирал, как средство выражения своих музыкальных концепций,
Зато Петербург открыл перед воображением Чайковского рой шелестящих и шуршащих жутких образов (не «бесы» ли?), загадочную улыбку своих сфинксов, жуткое ощущение бывания между жизнью и смертью, «без солнца» днем в осенних туманах и «без тьмы» ночью в томлении белых ночей, причудливую неясность очертаний и зыбкую воздушность каменных громад, величие маскарада – тоже призрачного – петербургской Империи, зыбкую прелесть весны и девичьих грез, кошмар неверия и арелигиозности, доведенный до экстатического бреда – заклинания человека, путем самовнушения, вызывающего призрак.
Детство создало в воображении Чайковского «золотой век», воспоминание светло-грустное о минувшем счастьи. Петербург родил в нем острую тоску и Петербург же обострил ее до страшного заглядывания в царство смерти, в погоне за призраком навеки отнятой матери. Петербург внес неискоренимый разлад в душевный строй Чайковского, но тем же самым углубил и заострил все его творчество.
К подробному уяснению того, кем был в Петербургских салонах юноша Чайковский до начала шестидесятых годов, служит лучше всего письмо его к сестре Александре Ильинишне от 10 марта 1861 года, к которому я и отсылаю читателя, так как длина его препятствует помещению его здесь целиком. (Ж. Ч. I, 132). Оно содержит сочную картину жизни будущего композитора. Даже страшно, чем было засорено его воображение. Но опасность мнимая: голос совести, голос непрестанно и неуемно звучавшей в душе музыки, все-таки, пробудился. А импульсом к пробуждению был следующий случай, рассказанный в этом же письме: «за ужином говорили про мой музыкальный талант. Папаша уверяет, что мне еще не поздно сделаться артистом. Хорошо бы, если так! Но дело в том, что если во мне есть талант, то уже наверно его развивать невозможно. Из меня сделали чиновника, и то плохого»… Несомненно, однако, что стремление к жизненному перевороту зрело давно и подготовлялось постепенно. Но теперь, после первого путешествия заграницу летом 1861-го года, путешествия, судя по письмам, крайне легкомысленного, – решение стать музыкантом осуществляется бесповоротно и окончательно. 23-го октября Чайковский пишет сестре: «Я начал заниматься генерал-басом, и дело идет чрезвычайно успешно. Кто знает, может быть, ты года через три будешь слушать мои оперы и петь мои арии». (Ж. Ч. 1, 145). Через одиннадцать месяцев (10 сент. 1862 г.) после этого письма, в течение которых шла перестройка всей жизни Петра Ильича, он сообщает сестре: «я поступил во вновь открывшуюся консерваторию, и курс в ней начинается на днях». Чайковский стал как будто бы новым человеком – вернее, самим собой: сознание морального долга, дисциплина, упорство в преодолении намеченной цели, неустанная напряженная работа. В начале 1863 года служба была брошена безвозвратно. Жизнь была преобразована: о светских удовольствиях нет и помину, траты ограничены до минимума, от франтовства не осталось и следа. Он хотел только учиться, но пришлось, тем не менее, учась, начать самому давать уроки и взяться за аккомпаниаторство.
Умение распределять время и редкая трудоспособность Петра Ильича содействовали тому, что, помимо занятий по музыке в строгом смысле слова, т. е. решения множества задач, он в очень короткое сравнительно время основательно познакомился с неведомой ему дотоле симфонической и камерной музыкальной литературой, ознакомился путем ревностного посещения симфонических концертов и игры в четырехручном переложении выдающихся классических сочинений.
Как в течение этого времени вырабатывался вкус Чайковского – ответить не легко, так как курс симпатий и антипатий Петра Ильича был довольно непостоянным и к тому же беспрестанно и заметно эволюционировал. Неизменно им любимыми сочинениями были: «Дон-Жуан» – Моцарта, «Волшебный стрелок» Вебера, «Жизнь за Царя» и «Князь Холмский» Глинки, а вскоре затем и «Руслан». Точно так же на всю жизнь осталась любимой «Юдифь» Серова, появившаяся на сцене в 1863 году. Мейербер увлекал Чайковского сильно, так же, как и Литольф (увертюры). Листа он знал мало, зато Шуман его покорил («Рай и Пэри» и третья симфония). Если исключить влияние Глинки, то из западных композиторов только Шуман оставил психологически и стилистически неизгладимый след в творчестве Чайковского, как ближайшего к консерватории периода так и в дальнейшем. Повидимому, здесь имели значение, прежде всего, нервная порывистость и устремленность Шумановской психики, его острый, пленительный лиризм с быстролетными сменами настроений и томная ласка его созерцаний с оттенком меланхолической вдумчивости и душевной чуткости. Стиль Шумана, судя по тому, что Чайковский берег от него наиболее выразительные элементы языка, как то: манеру имитировать голоса, добиваясь этим непрестанного движения их, подвижность гармонической ткани и отточенный, вперед устремленный порывистый ритм allegro, – является средством для разгружения излишне тяжеловесной гармонии, для разрежения ее и для придания всему рисунку бодрости, легкости и цветистости. Как это ни странно, но Шумановская выразительность много способствовала зарождению и эволюции напряженности темперамента Чайковского, которая вовсе не возникла у него сразу. Наоборот, в ранних его сочинениях (соната 1865 г., например) замечается расплывчатость и перегруженность ткани, и нужно много энергии, чтобы раскачать туго поддающийся преодолению звуковой материал (нечто подобное можно видеть еще и в фортепианных пиесах opus'a 21-го).
Любопытно наблюдать у Чайковского появление различного рода «приемов раскачивания» материала: то колышащиеся терции, как данный зазвучавший фон, на котором расцветает тема (первая часть 1-й симфонии); то как двинувшийся, но задержанный в своем пути на диссонирующем сочетании мотив (Humoresque op. 10 № 2); то возбуждение движения посредством постепенного наслоения имитаций (увертюра к «Кузнецу Вакуле»), то рождение нового материала путем ритмического видоизменения частицы только что прозвучавшего мотива и превращения ее в исходную точку темы (переход к allegro, т. е. к теме чорта из заключительного мотива предшествующего «славления»); то нагнетание динамики посредством разгона вступительной темы и появления основной темы как бы на перебой данному движению (хороший пример: начало финала сонаты для ф.-п., G-dur op. 37). У самого Шумана в этом отношении очень много прекрасных образцов – хотя бы первые такты «Карнавала».
Не менее любопытно у Чайковского применение отдельных стилистических навыков, например, имитаций: для рассеивания материала (имитирующий голос как бы спадает или замирает) или наоборот, для его утверждения (настойчивое или упорное проведение). Примеров масса и в фортепианных пиесах (Chant sans paroles op. 2, Romance op. 5, Reverie op 9, Nocturne op. 19), ив романсах («Ни слова, о друг мой», «Нет, только тот», «О, спой-же ту песню», «Корольки», «Страшная минута»), и в инструментальных произведениях.
Шумановские ритмы, мелодические попевки,[8]8
Интересно сопоставить, как я уже говорил, начало оратории «Рай и Пэри» (фраза мягкого нисходящего движения) с подобного же рода типичными (а может быть даже родственными в смысле происхождения) фразами, символизирующими покорность, обреченность у Чайковского (Ленский; Татьяна; канцона в 4 симфонии; Манфред; конец романса Полины в «Пиковой Даме»).
[Закрыть] мелодические взлеты и изгибы, гармонические обороты, – но подражания в смысле пользования Шумановскими приемами симфонической разработки не наблюдается. В отношении психологическом: ни нервной стремительности, ни подвижности и извилистости Шумана, ни его лирической восторженности и увлекательности в Чайковском нет: в сравнении с темпераментом Шумана Чайковский первого периода вял, неподвижен, прямодушен и резко рельефен в отношении метрико-тактовом. Очень часто и всегда удачно, особенно в вальсах, применяемый Чайковским способ ритмико-метрического перебоя: превращения двух трехдольных тактов в один трехдольный, но со знаменателем в два раза меньшим (3/4+3/4=3/2) или, что то же, внедрение двухдольного метра в трехдольные такты – также возникает не без влияния подобного же шумановского приема.
Но есть еще один композитор – русский, язык и стиль которого заметно влияли на образование языка и стиля музыки Чайковского: это Даргомыжский, особенно Даргомыжский «Русалки» и «Малороссийского казачка». Притом наибольшее влияние сказывается в родстве танцевальных ритмов и в пользовании мелодической линией с излюбленными завитками. Даже значительно позже, в 1883 г., Чайковский, сочиняя вторую сюиту для оркестра, посвящает одну из частей стилю Даргомыжского (Danse baroque). Чувствуется к тому же какая-то несомненная, хотя и не совсем понятная, родственная связь между двумя композиторами еще на почве психологической, потому что в данном случае трудно допустить зависимость только в смысле заимствования приемов композиции.
В творчестве Даргомыжского есть сторона, на которую сравнительно мало обращали внимания, обычно обобщая все, что у него лежит вне чистой лирики, в понятии: юмор. Между тем, тут целая скала характерных отличий, углублений, различной остроты штрихов и оттенков: от простодушного свата в «Русалке» до смирения «себе на уме» петербургского чиновника («Червяк»), Любопытна терпкость, жесткость и некоторая жестокость гармонических оборотов и отклонений и «пятнистость» окраски (хроматики) в характерных вокальных и инструментальных пьесах Даргомыжского: когда, например, на безразличном фоне до-мажора появляются призрачные мимолетности родственных тональностей или скользящих хроматических модуляций в какой-то нарочитой неуклюжести. О колорите здесь не может быть и речи. Фон остается серым, а на нем, как тени из-за углов, появляются «пестрящие» его звучания, поскольку вообще могут пестрить фон образы, сами по себе не красочные. Это жуткие образы – для меня они того же порядка, как гоголевские. В сумеречном свете, в туманах склизкой петербургской осени, вдоль стен угрюмых каменных доходных домов скользят они и внезапно привлекают внимание. Как холодно-тусклый свет фонаря среди мглы и моросящего дождя не вызывает ни впечатлений, связанных с романтическими представлениями об огне, как властной стихии, ни даже впечатлений тепла и света, но просто беспомощного мерцания жалкой гримасы светящейся точки на сером фоне, таким же является каждый хроматический миг среди сплошь некрасочной, неживописной музыки. У Глинки при его ясном мировоззрении ничего подобного возникнуть не могло. Для этого надо было внедриться в Петербург, почувствовать его призрачность и тот искаженный уродливый лик человеческий, который родился именно в этом городе, где сотни тысяч людей «униженных и оскорбленных» всю свою жизнь пресмыкались и стремились только к одному: убить в себе душу живую, свою психику, свое я, гордость самосознания. Как же было не зародиться в такой среде галлюцинациям? Как не возникнуть было в сфере «бессолнечной», в постоянном бывании между днем и ночью (вечные сумерки осенних дней – вечные сумерки летних белых ночей), между явью и сном, звучаниям, сперва насмешливо хихикающим («не угодно-ли куплетец!»), пресмыкающимся и ползающим, а потом все острее, все наглее и наглее завораживающим воображение: в оркестровых фантазиях Даргомыжского подобные звучания только кривляются, неуклюже сочетаются, строят улыбки-ужимки; у Мусоргского они уже задают тон всему направлению изыскующего смерть композитора: в «Трепаке», в «Серенаде», в страшном одиночестве цикла «Без солнца»; у Чайковского они суетятся, шуршат, стрекочат в досужей болтовне фаготов, в смешении с «булькающими» кларнетами и с жалобными стонами гобоев, или же шелестят и скользят потаенно-извилисто.
Рождается своеобразный оркестровый колорит: живописи тут нет, нет и раскраски рисунка, вообще нет цвета – а между тем чувствуется различие именно в соотношениях звукописи, в соотношениях тембров, потому что большая разница в «колорите» характеристик Калибана и Ариэля (Буря), самой Пиковой Дамы со всей прозрачно вокруг нее группирующейся челядью гармоний, ритмов и тембров, окружающих основную саркастическую секвенцию старухи, как верная свита, и сопровождающих ее шамканье и воркотню. Или – между «китайским танцем» в «Щелкунчике» и появлением «Дроссельмейера» или войной мышей и игрушечных солдатиков там же. Вспомним еще «кота и кошку» в «Спящей Красавице», скерцо в третьей сюите, но особенно, конечно, третью часть шестой симфонии – центр динамического напряжения всей симфонии – словно «ночной смотр» с победоносным наплывом «тмы-тем» неведомых духов. То, что у Даргомыжского вкраплялось лишь, порой, среди других интересов, как саркастическая гримаса, как мгновения, как привлекающие его внимание и тревожащие дух образы, – у Чайковского созрело до состояний души постоянно озабочивающих и настойчиво требующих выявления. Это состояние можно было бы охарактеризовать, как совершенно своеобразное ощущение, как некое «петербуржество», своеобразное «чувство Петербурга», как вполне реальное постижение каких-то соотношений сил и явлений, составляющих то особенное, отличное, что делает Петербург не похожим на остальные города в силу особенных, отличных свойств окружающей его природы и жизненной энергии, расточаемой его обитателями.
Достоевский даже загробный мир петербургского кладбища наделил «душком» петербургской действительности, в то время, как белые ночи ежегодно, наоборот, вполне нам ведомую реальность – Летний сад – претворяют в царство, уснувшее и застывшее, призрачных теней в светлом сумраке притаившейся городской жизни. Тезисы, данные Пушкиным в «Пиковой Даме» и «Медном Всаднике», упорно «разрабатывали» и Гоголь, и Достоевский, и в наше время Блок, Сологуб и Андрей Белый; та же «душа Петербурга» зазвучала и в музыке: у Глинки вне миражей и вне кошмаров «призрачности и двойничества», в сентиментально реющих прозрачных тенях вальса-фантазии (но: «Ночной смотр»!); у Даргомыжского уже явственнее и злее в петербургских романсах-анекдотах (разве «Титулярный советник» и «Червяк» не созвучны «Двойнику» и «Шинели»?), но вместе с тем и забавнее в его оркестровых фантазиях с их причудливо-неуклюжей ритмикой и «рябоватыми» гармониями; настаиваю, она же зазвучала и у Мусоргского: конечно, прежде всего в «Женитьбе»; а затем у Чайковского: еще в «Белых ночах» («Времена года»), потом в романсах «Ночь» (Полонский) и последних (посвященных Фигнеру), а всего звучнее в «Пиковой Даме». Впрочем, для меня лично ясно, что и «Евгений Онегин» Чайковского – лирика петербуржца, чистый кристальный сок петербургской мелодической струи. Лирика грустно-светлая и ясно-печальная, она совершенно не совместима с грубоватой наивностью и дикарским простодушием подхода к жизни, свойственными московской культуре в ее недавнем прошлом.
После Чайковского все та же проблема о том, что реальнее в Петербурге: явь или не явь, «живье или нежить» – возникает с новой остротой в творчестве Мясковского, Гнесина, Сергея Прокофьева, с терпкими пятнистыми гармониями последнего, колоритом «Ыапс et noir» (диатонизм, испещренный «хроматической вязью») и саркастически изломанным рисунком, вносящим в музыку очертания «сологубовских» видений. То, что Даргомыжский намечал, – Чайковский постоянно заклинал и вызывал, Мясковский и Гнесин нервно и смятенно изыскуют и вонзают в душу, а Прокофьев вносит в мир музыки Петербурга, как нечто неизбежно присутствующее, вовсе не обусловленное специфическими настроениями Германа и эмоциями взволнованной мятежной души.
Я коснулся отображений Петербурга в музыке здесь, на пороге внедрения Чайковского в Москву, в упорном убеждении, что зерно «психизма» музыки его вылущилось из плода, созревшего в Петербурге, и лишь временно попало на чуждую почву, где дало всходы. Московская прививка привнесла в «душу музыки» Чайковского, уже воспринявшую гармонический склад петербургской музыкальной культуры,[9]9
Гармонический в смысле постепенного слияния в ней разнородных песенных элементов и подчинения их принципам инструментализма и методическим схемам четырехголосия.
[Закрыть] резкие контрасты великорусской стихии: или неизбывная грусть-тоска, или отчаянный загул, или покорность, или издевка, или неволя, или разбой. Воспринятые не в чистой непосредственной стихийной сущности (не так, например, как стрельцы в «Хованщине» у Мусоргского), а в претворении сквозь городскую мешанину разнороднейших токов, чем и являлась Москва начала шестидесятых годов – контрасты эти обусловили налет провинциализма и бесвкусия в музыке Чайковского, что выражалось в преизбыточном подчеркивании эмоционального «нутра» в настроениях элегического порядка и в грубом привнесении сырого материала, критически не проверенного, во всех почти проявлениях веселья и радости, по существу чуждых натуре Чайковского и потому требовавших от него некоторого самоотречения. Кроме того, характерно, что в то время, как Римский-Корсаков постоянно ищет возможности увеличить запас личных звуковых представлений за счет музыкального языка народного творчества вплоть до уподобления своей речи (в отношении мелодической структуры) речи народной, Чайковский, сперва делая то же, потом все более и более смыкает сферу выражения, погружаясь всецело в свой личный интимный строй и склад речи. Этим он достигает яркости, напряженности и экспрессии звучания за счет сочности и свежести звуковых представлений, что и заметно в последних его сочинениях, если сравнить патетически выразительную шестую симфонию с тусклой лирикой «Иоланты», что произошло именно потому, что в первом случае внутренняя непосредственность творчества вызывала и создавала нужный ей комплекс отношений звуковых образов сильного напряжением тока, а во втором психическая сложность сюжета не соответствовала данному состоянию настроенности души композитора (в «Иоланте» – стремление к свету, под воздействием роста веры и любви, это – crescendo жизненности, а в шестой – все обратно), и вызванные воображением образы, не будучи столь непосредственными, не могли обладать и свежестью.
Во многих операх Чайковского это свойство (отсутствие критического сознания в отношении материала[10]10
Крайне важно не путать это свойство с отсутствием технического уменья и мастерства в смысле постоянной проверки и сознательности средств выражения. Конечно, и уменье, и сознательное пользование техникой никогда не отсутствовали у Чайковского, и его знаменитые motto: «их (оперы) следует писать (впрочем, точно так-же, как и все остальное) так, как Бог на душу положит» (письмо к С. Танееву от 14 января 1891 г., см. П. Ч. и Т. 162) – утверждает лишь правдивость и искренность творчества, как непосредственного продукта внушения внутреннего чувства, как выявление душевной напряженности (эмоциональности) в противовес рассудочности.
[Закрыть] там, где дело идет о воплощении душевных явлений, чуждых его личному строю и остро им не переживаемых) играет крайне важную роль, внося неровность стиля. Так, в «Чародейке» слышится определенный уклон в сторону сосредоточения всего внимания на героине драмы, в «Онегине», наоборот, исчезает сам Онегин, в «Мазепе» – бледен Мазепа. Вследствие всего этого понятно также, почему в сочинениях по случаю, вроде «увертюры 1812 год», и в кантате «Москва» так ясно ощущается различие между элементами чисто лирическими (развитие в увертюре русской темы) и эпическими с их велеречивым театральным назойливо-шумным пафосом. Но там, где эпическое не является внешне подсказанным событием, а вытекает из внутренней сущности задания, замыкая или обобщая его, – там оно расцветает в. произведениях Чайковского первого периода с яркостью и свежестью несомненными (таков прекрасный финал «Кузнеца Вакулы» или «Черевичек»),
Поэтому упрек, часто бросаемый Чайковскому в его «нерусскости», не национальности должен быть тщательно проверен. В звуковой ткани Чайковского «русское», в смысле постоянного наличия как общего настроения, свойственного русской душе, так и множества вплетенных в эту ткань песенных попевок и наклонений, всегда присутствует. Но устремление к постоянной «объективации» своей звуковой речи за счет образов народной музыкальной речи ему, конечно, не свойственно.
Определять «руссизмы»[11]11
Термин П. И. Чайковского.
[Закрыть] в стиле композитора и степень его национально-великорусской музыкальности по количеству использованных им для разработки народных песен или на основании самой манеры разработки, причем наиболее близкая к современности манера считалась наиболее истиннорусской – стало общим местом, не заслуживающим серьезного внимания. Тогда пришлось бы екатерининских вельмож-вольтерьянцев считать не русскими, так же, как в близком прошлом объявляли нерусской всю классическую архитектуру Петербурга. Чайковский – глубоко русский композитор, совершенно независимо от того, что он разрабатывал народно-песенные мелодии по-своему, а не по шаблонам Балакирева.[12]12
Сборник народных песен которого – уже давно «не-русский», если подходить к нему с точки зрения более позднего претворения русскими композиторами элементов народного музыкального творчества.
[Закрыть] По-своему – это не совсем точно. Чайковский подходил к песне и к романсу с манерой 40-х и 50-х годов, а по существу он видел ее сквозь призму петербургского песенноромансного стиля первой половины XIX века, питомцем которого он неизбежно выступал. Этот стиль или особый строй и склад петербургского «песенного романса» или «романсной песни» нельзя обозначать легкомысленным и ничего, т. е. никакого содержания, не утверждающим наименованием ложно-русской песни. Если не ложна вся петербургская художественно-музыкальная культура, то не может быть ложной и ее песенность. Упорное вникание в основы, происхождение, состав, жизненность, рост и могучее влияние, долго длившееся и далеко не завершенное, стиля петербургской песенной речи дает мне право утверждать, что только невнимание к прошлому и полное пренебрежение к психологическим основам музыкальной композиции позволяют смотреть как на что-то несущественное и мелкое – на особенности песенного склада музыки Петербурга. Начала или ростки его коренятся в елизаветинской эпохе и самые корни лежат еще глубже. Формы стали выкристаллизовываться при дворе Екатерины, под воздействиями быта и скрещиванием влияний, крайне сложных в художественно-эстетическом и творчески-психологическом отношении. Пройдя сквозь строй павловского времени и сквозь восторженную среду первой половины александровского царствования, данный стиль песенного склада, органически развившийся, сочетает в себе звуковые образы и соотношения звучаний, которые вдохновляли Глинку и обусловили многое в композиторском языке Чайковского. Здесь не место характеризовать подробно этот стиль. Я делаю подобный опыт в другой работе. Скажу только, что петербургским и притом придворно-песенным его можно назвать лишь по причине места его зарождения и истока (особенно при Елизавете с ее любовью к русской песне и при нахлынувшем потоке южно-русских песенных влияний, в связи с возвышением Разумовских; также и при Екатерине: укажу на любопытную фигуру гусляра Трутовского). Но распространение стиля разветвляет и орнаментирует его, видоизменяя, ибо точки приложения его – почти вся Россия, а, главным образом, кроме Петербурга, Москва, где наиболее полно выразил этот стиль Алябьев (1787–1851), родство с которым Чайковского представляется преемственно несомненным, так же, как и с Варламовым (1801–1848). По поводу же сложности состава этого стиля укажу на основные элементы, привходящие в него и вступавшие между собой в неизбежное столкновение: чистая великорусская песня в том виде, как она жила в «городских усадьбах» т. е. в домах и службах (особенно при наличии многочисленной дворни) петербургских вельмож, ибо связь с деревней была тесной, непосредственной и постоянной; затем песня южно-русская, благодаря «нашествию» малороссов, причем в данном случае интересно отметить уклон к инструментальному претворению песни; также неизбежно влияние кантов духовнорелигиозных польско-малорусских песнопений, уже нашедших приют в Москве; наконец, постепенно внедрявшаяся итальянская мелодика и просачивание сентиментального французского романса и куплета; все это подпадает под эгиду тонико-доминантовой примитивной гармонизации в руках приезжающих учителей музыки, немцев и чехов (таков, невидимому, был Прач).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.