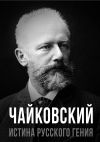Текст книги "Гений музыки Петр Ильич Чайковский. Жизнь и творчество"

Автор книги: Борис Асафьев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
Уклон этот начался вслед за некоторым подъемом религиозного сознания и попыткой преодоления трагических зовов в конце семидесятых и в начале восьмидесятых годов. Благодаря «счастливому» совпадению душевного состояния со всеми данными сюжета, не заключавшими в себе ни единого элемента примирения (т. е., по мнению Чайковского, элемента религиозного) произошло то, что «Пиковая дама» оказалась одним из выдающихся произведений Чайковского, где все выражено так, как надо и как должно быть выражено: преодоление взяло верх над постоянным преодолеванием, но вне какого бы то ни было намека на религиозное начало, а лишь в отчаянном бунтарстве, под воздействием всюду слышимого ритма шагов Старухи, символа Смерти.
Вся опера создана композитором с непомерным душевным напряжением в течение первой половины 1890 года: начата в Италии, во Флоренции, 30 января, а закончена всецело, т. е. инструментована, к 8 июня – в России, в селе Фроловском, близ города Клина (см. Хронограф). Таким образом, работа над громадным заданием, потребовавшим непрерывной затраты творческой силы, непрестанно бодрствующего воображения и сосредоточенного внимания, продолжалась около пяти месяцев. 7 декабря того же года уже состоялось первое представление «Пиковой дамы» на сцене Мариинского театра.
Быстроту, с которой была создана эта опера, можно объяснить лишь состоянием нервного подъема высокой степени и неуемным стремлением изжить в звуковых картинах то, что беспокоило и волновало душу. Беспокойство, волнение, трепетность и настороженность души, живущей в преддверии чего-то необычного, таинственного, пугающего и вместе с тем загадочно к себе влекущего – вот смысл лучших моментов и основное настроение всей музыки «Пиковой дамы». Это – опера предчувствий. Ее музыка могла прозвучать в мозгу человека, предвкушающего соблазнительную сладость смерти, жуткий восторг лицезрения ее и вместе с тем острое чувство страха от прикосновения к тем видениям, данным в звуках, за которыми уже нет жизни. Герой «Пиковой Дамы» – Герман, идеалист, экстатично влюбленный в светлый образ девственности и в то же время дерзкий человек – заклинающий и вызывающий смерть. Он страшный герой. Он из тех, кто осмеливаются вызвать смерть, смело взглянуть на нее и крикнуть ей: да здравствует! Сочиняя «Пиковую Даму», Чайковский постепенно переходил от предчувствия смерти, от неопределенного страха перед ней к сознанию ее неизбежности: он начал умирать, но не ослабевая и не лишаясь силы воли, а с гордым, в упор устремленным на смерть взором, в звуках ощущая ея веяние и осязая ее облик. О своем страхе, ужасе и потрясении в моменты работы Чайковский сам рассказывает в письмах. Он инстинктивно чувствовал, что касается каких-то заповедных областей и страшной тайны небытия, и, все-таки, касался, потому что нет предела бунтарству и дерзости воли и мысли человека – особенно когда он раскрывает в искусстве свои предчувствия…
В основе оперы «Пиковая Дама» лежит сюжет одноименной повести Пушкина. Несмотря на ряд внешних видоизменений Пушкинского замысла, сущность его остается неизменной. И в повести, и в опере психологическое задание сводится к тому, чтобы проследить судьбу одного из нервных людей, в душу которого нечаянно проникает соблазн: насильственно изменить свой жизненный путь, посредством неожиданной удачи, основанной на раскрытии тайны. Но то, что у Пушкина рассказано – в музыке выражается, как живая данность, как переживаемое, как несомненная волнующая душу правда жизни. В первой части оперы постепенно, мгновение за мгновением, развертывается напряженный, чуткий, глубоко проникающий ток предчувствий (от первой сцены в Летнем Саду до конца третьей картины – бал), а в остальной половине уже воспроизводится то, как эти предчувствия беспощадно сбываются и осуществляются (смерть графини, вызывание призрака старухи, гибель Лизы и, наконец, смерть самого Германа). Таким образом, действие оперы течет сперва по линии нагнетания предчувствий, а после перелома – по склонам их сбывания. В целом же оно движется непрерывно навстречу встрече со смертью.
В первой картине, в ее начале, Герман выступает, как человек с чутко настороженной душой, охваченный пылкой любовной страстью, но уже с готовностью умереть, если его мечта не станет явью, если женственный лик, завладевший его воображением, не претворится в женщину, для него созданную. Музыка, характеризующая Германа и овевающая его речи, своим прерывистым и трепетным волнообразным колыханием ритмов и гармоний, их перебоями и нервными сменами, внушает уже предчувствие не-ладного, не-устойчивого. Мечта Германа– зыбка, ее не воплотить без борьбы и усилий, ибо случай вмешивается в его жизнь. Действительно, когда на момент действие застывает (при входе старухи-графини), и все присутствующие охвачены как бы состоянием летаргического сна или гипнозом ужаса («мне страшно») – слушатель ощущает власть посторонней воли и ждет пришествия беды.
Разъяснение предчувствия дается в рассказе-балладе Томского о «трех картах». На нервно трепещущую душу Германа, уже волнуемую жутким обликом графини, рассказ этот падает, как семя, случайно занесенное ветром на «добрую почву». Мысль о том, как было бы хорошо завоевать счастье любви богатством, пускает росток в его воображении.
Часто случается, что нечаянно оброненная фраза дает содержание целой легенде, и что пылко воспринятая случайная мысль рождает в расположенном к ее развитию мозгу сперва цепь мечтаний, а потом и воплощение их на деле! Мысль о выигрыше, если бы только узнать «три карты», ведет Германа сперва к чистому, хотя и тщеславному желанию стать богатым ради того, чтобы завоевать право женитьбы на Лизе. Отсюда, лукаво и изворотливо, мысль эта постепенно совершает подмену цели средством: жажда выигрыша и обогащения заслоняет любовь. И не только заслоняет и затемняет ее, но поведет и дальше: даже смерть графини не остановит Германа в поисках раскрытия тайны. Он, силой своего напряженно возбужденного настроения, вызовет мертвую и уже от нее услышит желанный обман…
В первой картине мы застаем Германа еще не охваченного безумием, в состоянии героической готовности вырвать у судьбы свое счастье. Во время грозы, гордый, в борьбе со стихией, он дает романтическую клятву: или волей своей осуществить мечту, или в борьбе умереть.
Во второй картине (девишник у Лизы) также реют в музыке облака предчувствий. Нежно-томный романс Полины («Подруги милые») заволакивает скорбью настроение вечернего покоя и мирного уюта. И когда Лиза остается наедине со своими грезами, овеянными неясной грустью чуткой девичьей души, только слезы дают ей возможность как бы осознать свое горе. В чем оно? Жизнь, казалось бы, обещает счастье, а душа требует иного пути, – пути от счастья в ночь, навстречу ночи. В замечательном, дивном воззвании к ночи Лиза раскрывает свои тайные помыслы. Композитор непостижимым образом овладевает ключом, ведущим в сердце девушки, в интимный мир помыслов невесты, и в музыке являет восторг ее первого любовного признания. Могучая, стихийная сила страсти охватывает душу Лизы. Создается впечатление, что Герман не сам приходит, а в пении изливаемая девичья страсть вызывает его, заклинает и побуждает войти.
Сцена встречи Германа и Лизы завораживает своим любовным напевным навождением. Нежно и робко струятся первые речи – признания Германа. Верить надо в искренность его порывов, в настойчиво молящую страсть его. И Лиза верит. Конец скорбным предчувствиям: торжественное ликование страстной ласки звучит в музыке.
Жуткий, леденящий кровь образ старухи вносит резкий разлад в любовный строй: то острые, разрезающие воздух созвучия, то воркотня отдельных инструментов, выразительно интонирующих злую улыбку насмехающейся над молодостью старости, – навевают вновь заглохшие было предчувствия.
Музыка жутко звукописует настроение, охватившее Германа: «могильным холодом повеяло вокруг». Волнуемый страстью к Лизе, он сопротивляется зовам смерти («смерть, я не хочу тебя») и с еще большей пылкостью и пламенением молит любимую девушку о спасении через любовь. В бурном порыве страсти, на грани обнаженного, бесстыдного отдавания себя, Лиза возвещает ему свой приговор: живи!
Таким образом, вторая картина развивает любовные романтические переживания и мечтательный строй души Германа, о чем было возвещено в музыке с момента его появления в первой картине («я имени ее не знаю»). Но в сцене на балу (картина третья) происходит явный перелом в его душевном состоянии, под влиянием вновь всплывшей в воображении мысли о «трех картах». Всплывает же она, благодаря маскарадной шутке приятелей, замысливших внушить Герману посредством таинственных наговоров как бы указание судьбы на то, что он должен попытаться выведать тайну.
Наиболее важным моментом в третьей картине является момент передачи Лизой ключа. Музыка здесь резко меняет свой характер: на фоне таинственного шуршания, среди обрывков любовной темы, ведется нервный, трепетно порывистый разговор влюбленных. Впрочем, страстью овеяна только Лиза. Герман же, получая ключ в спальню Графини от Лизы, видит в этом лишь веление судьбы. Он уже не сомневается, что узнает три карты, в его душе свершается перелом, он начинает заменять цель средством: любовь к Лизе – мыслью о выигрыше.
В страшный, жуткий мир тишины спальной комнаты Графини попадает Герман. Музыка, предшествующая поднятию занавеса, вводит слушателя в круг необычайно острых сумеречных переживаний. Так бывает, если войти в комнату, которую только что посетила смерть, в которой и тишина страшит, и малейший шум сковывает сердце, где упорно ощущается чье-то присутствие при заведомом знании, что комната пуста, и вокруг никого нет. Но вот она заполняется. Как тени, сопровождают свою благодетельницу приживалки, напевая приветственную песнь в мрачнейших тонах.
Причитания приживалок сменяются ворчливым сказом самой старухи-графини: она, отходя ко сну, вспоминает о мире прошлом, о былом, о сладких видениях молодости. Какой контраст: дух захватывающая исповедь Лизы (во второй картине) и эти леденящие душу холодом предсмертные «мемуары» старухи, мечтающей у порога своей жизни.
Робко приступает к ней Герман, но, не получая ответа, мало по малу воспламеняется ненавистью, среди страшной тишины спальной ища опоры в собственных угрозах. Старуха от ужаса умирает.
В музыке этой картины с невероятной чуткостью и гибкостью воплощены стадии постепенного нарастания отчаянной решимости Германа и, обратно, исчезновения жизни в Старухе. Когда Герман достигает в своей интонации наглого, по выразительности, жестоко принудительного но по видимости спокойного обращения: «полноте ребячиться» – перед ним уже лежит труп. Страх перед остановившейся жизнью и в то же время ощущение безвозвратности совершившегося – вот что ошеломляет и пронизывает холодом в этот миг, благодаря музыке. И вдруг, с появлением Лизы, тишина опять начинает заполняться: в диком смятенном полете ритмов и разодранных мелодических лент чудится рой стремительно несущихся призрачных существ, как в «Вие» у Гоголя.
Дальше действие естественно разветвляется по душевным переживаниям Германа и Лизы. Герман остается с сознанием: «а тайны не узнал я». Лиза – с сознанием перелома, свершившегося в любимом человеке, ставшем теперь невольно убийцей. Пятая картина посвящена Герману. Музыка перед ней движется в страшных контрастах: то мистическое похоронное пение, то житейски реальная сигнальная перекличка труб, то смятенное нагнетание душевных порывов. Реальное, видимое, действительное, по видимому, берет верх над ирреальным, над воображаемым: Герман читает письмо Лизы, его сознание проясняется, он сознает свою вину.
Будничная житейская обстановка данного момента (бытовая жизнь – звук дозорной трубы; чтение, а не пение письма) – все это направлено к тому, чтобы усугубить ужас дальнейшего. Герман – один. Шум ветра смущает его воображение. Ему чудится пение. А когда нервно-возбужденный человек получает извне повод к возрастанию бредовых идей, а с ними видений и касаний неведомого, – он пойдет по линии наименьшего сопротивления, отдаваясь окутывающим сознание соблазнительным зовам. Картина похорон видится Герману. Нить сознания обрывается. Всей волей, всем чувством он стремится уйти от кошмара, но тем ярче усиливает напряжение и подсказывает своему воображению все более и более осязаемый лик мертвой старухи: и тогда она является! К данному моменту музыка, постепенно видоизменяясь, становится холодной и властной: на трепетно шелестящем фоне (словно в перемежающемся, отраженном, непрестанно дрожащем свете) прорезывается, звук за звуком, мертвящий и сковывающий волю гаммообразный ряд тонов. Теперь Герману уже не высвободиться из-под власти «трех карт». Он обречен гибели…
Шестая картина. Здесь луч музыки направлен на Лизу. Ее вера в Германа поколеблена в момент встречи с ним у трупа Графини-Старухи. Страстно возбужденная музыка, но сурово сдерживаемая, словно чья-то тяжелая поступь четко отмечается шаг за шагом, или мерно гудит набат! Лиза в нервном ожидании борется между надеждой и отчаянием. Временно берет верх душевное утомление, и из него возникает трогательная ария-причитание: «ах, истомилась я горем». Вновь возбуждение и вновь страдание за этой песнью скорби. Но Герман, все-таки, приходит. Обманчиво-ласковый и нежный красивый дуэт словно возрождает нарушенную было интимную связь между ним и Лизой (это один из поэтичнейших по музыке моментов во всей опере):
«О, да, миновали страданья, я снова с тобою, мой друг!» Герман сперва робко повторяет за Лизой ее напев, потом сам завладевает мотивом и ведет дуэт.
В созерцании любовном только на миг застывает музыка. А дальше – опять бред, опять кошмар: искаженная тема дуэта звучит в оркестре. Герман подпадает под власть «трех карт». В исступлении он зовет Лизу с собой в игорный дом. Дико трепещущие, нервно «скачущие» ритмы сопровождают его экстатические восторги. Отчаяние Лизы растет и, наконец, когда Герман, не узнавая, отталкивает ее от себя, – как буйный разлив волн, стихийно разливается музыка отчаяния и заполняет звучащее пространство. А чья-то тяжелая поступь опять, но с еще большей суровостью и непреклонностью, неумолимо отмечается в музыке, шаг за шагом. Лиза гибнет, так как ей уже нечем жить: она изжила себя в любви.
Седьмая картина. Герман приходит в игорный дом. Там, в пьяном угаре задорного и вместе с тем отчаянного веселья, завершается действие. Первые две поставленные им карты выигрывают. В упоении своей страшной победой, чувствуя, что мечта его вот-вот готова осуществиться, и в то же время предчувствуя возможность срыва и гибели, поет Герман свою страшную застольную песню – вызов Смерти: «Что наша жизнь? Игра!». Песня, моментами, принимает облик жуткого марша с мерно отчеканенным ритмом, на фоне которого выткан нежно-лукавый орнамент кларнетов и флейт: как будто бы в самом деле будут венчать победителя лавровым венком!.. При третьей попытке выиграть – карта обманывает: вместо туза на руках у Германа оказывается пиковая дама. Так неизвестно, кто – жизнь или смерть – обманывает человека. За ним остается право уничтожить себя. Герман закалывается. В предсмертном бреду он видит реющий над ним ласковый образ Лизы. Нежной темой влечения к ней кончается опера…
Я позволил себе, упуская бытовые подробности, рассеянные в опере, проследить драматическое развитие основной мысли всего произведения: как неожиданно приуготовляет судьба гибель человеку, если он стремится насильственно выбрать себе непредназначенный путь. Сперва она предупреждает его предчувствием гибели и сладко манит к борьбе. Потом все жизненные обстоятельства складываются так, что отступления нет, что надо итти по пути осуществления замыслов. Уклон все наклоннее, отвеснее – влечение сильнее. Смерть манит человека, и он страстно изживает свои силы. Для Чайковского таким изживанием сил было его музыкальное творчество, и годы, близкие к смерти, показывают, как он все напряженнее и острее выявлял ее безликий лик[53]53
И не только выявлял, а заклинал, вызывал, пользуясь для этого соответствующими сюжетами всю жизнь, пока в «Пиковой Даме» не выразил ярчайшей картины поступательного хода или нагнетания таких душевных состояний, в итоге которых появление призрака стало неизбежным. В этом отношении пятая картина – психологический центр всей оперы (не коллизии драматической), ибо в ней процесс галлюцинации приводит Германа к полному подпадению под власть стихийных сил.
[Закрыть] и силой музыки заставлял ее реять вокруг себя. Этим постоянным стоянием на грани небытия объясняется могучая, порывистая жизненная энергия, излучаемая его музыкой, и жажда жизни или тоска по жизни, разлитая в ней.
Страх, сомнение в своих силах, колебание, тоска и, моментами, «невыразимый ужас» преследуют сознание Чайковского. Под тягостнейшим впечатлением известия о смерти сестры садится он на океанский пароход, отправляясь в Америку, в сопровождении своих неизменных спутников, только что перечисленных. В сознании глубокого одиночества, в невозможности сочинять провел он весь переезд. Суета американского пребывания захлестнула его, но он, все-таки, жаждал, как школьник отпуска, дня возвращения в Россию. Нравственная выдержка и сознание долга помогали ему осиливать и отвращение к концертному «коммивояжерству», и постоянное непрестанное волнение перед выступлениями. Как в этом, так и в прежних и последующих путешествиях и турнэ у него хватало силы воли, чтобы доводить до конца то, что он считал неизбежными обязательствами. Тем сильнее было стремление к тихому и покойному уюту клинского убежища, тем радостнее возврат к работе.
Беспокойная мысль теперь, у порога смерти, ищет решения жизненно-важных проблем. Перешло ли в область веры и то, что смущало рассудок, – пока не поддается разгадке. Ясно только, что этическая ценность Евангелия для Чайковского – несомненна, но философско-догматическое здание, надстроенное над «христианским баптистерием», т. е. над Евангелием, он охватить умом и принять душой не мог, пленяясь и умиляясь только религиозной поэзией богослужебных форм русского православия, но более в его деревенском, преломлении, чем в торжественно-величавом обличьи.
В одном из июльских писем 1891 года Чайковский упоминает об изучении философии Спинозы. Его и раньше влекло это имя, вероятно, из симпатии к этическим принципам, а теперь из стремления углубить свое миросозерцание на основе дорогого его сознанию пантеизма. Рационалистический монизм Спинозы с пантеистическим уклоном, тождество бог-природа, конечно, говорил душе Чайковского[54]54
«Говорил душе» – потому что для меня нет сомнения, что Чайковский не столько осмысливал, сколько «переживал» то или иное решение философией тревожащих его совесть проблем, среди которых устранение дуализма была насущнейшей.
[Закрыть] больше, чем формулы христианской догматики. Дальше нить его философско-религиозных размышлений теряется, уступая место очередным жалобам на тоску, а затем, в 1893 году – увлечению созданием шестой симфонии. В письме к племяннику от 11 февраля 1893 г. Чайковский сообщает важные факты, не считаться с которыми нет оснований: «Мне хочется сообщить о приятном состоянии духа в коем нахожусь по поводу моих работ. Ты знаешь» что я симфонию, частью сочиненную и частью инструментованную осенью, уничтожил. И прекрасно сделал, ибо в ней мало хорошего, – пустая игра звуков, без настоящего вдохновения.[55]55
Симфония не совсем уничтожена: из первый части ее сделан третий фортепианный концерт, законченный 3 октября 1893 года и исполненный в левый раз С. И. Танеевым уже после смерти Чайковского.
[Закрыть]
Во время путешествия у меня явилась мысль другой симфонии, на этот раз программной, но с такой программой, которая останется для всех загадкой – пусть догадываются, а симфония так и будет называться «Программная симфония» (№ 6). Программа эта самая, что ни на есть, проникнутая субъективностью, и нередко во время странствования, мысленно сочиняя ее, я очень плакал… По форме в этой симфонии будет много нового, и, между прочим, финал будет не громкое аллегро, а, наоборот, самое тягучее адажио.[56]56
Этим нововведением, психологически обусловленным, Чайковский проводил в то же время и важную формальную реформу, переводя симфонию окончательно на стезю лирической напряженности (путь симфонизма) и стирая с нее последние следы формальной архитектоники частей, в свою очередь стилизовавшихся или, вернее, окристаллизовавшихся на отложениях сюитных форм.
[Закрыть] Ты не можешь себе представить, какое блаженство я ощущаю, убедившись, что время еще не прошло, и что работать еще можно» (Ж. Ч. III 602–603).
Во время поездки летом 1893 г. в Лондон Чайковский испытывал очередные острые приступы тоски, теперь еще усугубленной: «я страдаю не только от тоски, не поддающейся выражению словом (в моей новой симфонии есть одно место, которое, кажется, хорошо ее выражает), но и от ненависти к чужим людям, от какого-то неопределенного страха и еще чорт его знает, чего». «Физически это состояние выражается в боли в нижней части живота и в ноющей боли и слабости в ногах» (письмо к племяннику от 17 мая). – Сумрак сгущается. О «примирении» нет ни слова. Чайковский действительно переживает загадочную стадию, в то же время многих людей, даже из близких друзей, обманывая своей жизнерадостностью. Вокруг – смерть за смертью (Третьяков, сестра, Шиловский, Альбрехт, Апухтин, Зверев), но острой реакции в Чайковском эти «уводы» дорогих людей не вызывают. Притупления нравственного быть не может: или в нем окрепла вера в будущую жизнь, во встречи, или же он философски нашел исход в сознании справедливости исчезновения личного сознания в безличной сфере пантеизма.[57]57
Тогда проблема, поставленная им в 1877 г., о встрече с покойной матерью, бывшей источником добра на земле, рушится окончательно.
[Закрыть] Но и в том и другом случае смерть уже не враг-победитель, а избавительница, простой факт перехода в инобытие, факт, а не лик, страшный в своем неразгаданном безличьи.
В сентябре 1893 г. К. К. Романов предлагает Петру Ильичу, как текст для музыки, «Requiem» Апухтина. Композитор пишет князю в ответ: «меня смущает то обстоятельство, что последняя моя симфония проникнута настроением, очень близким к тому, которым преисполнен «Реквием». Мне кажется, что симфония эта удалась мне, и я боюсь, как бы не повторить самого себя, принявшись сейчас за сочинение, родственное по духу и характеру к предшественнику». И в следующем письме (Клин, 26 сентября) он от предложения отказывается, мотивируя отказ целым рядом соображений, крайне любопытных. Первое: «общее настроение этой пьесы, конечно, подлежит музыкальному воспроизведению, и настроением этим в значительной степени проникнута моя последняя симфония (особенно финал)». Но в деталях многое в данном Requiem'e противоречит, по мнению Чайковского, сущности музыки. Поэтому: «уж если класть на музыку «Реквием», то скорее настоящий, средневековый латинский текст, превосходно передающий томление и страх, испытываемый нами в виду похищенного смертью любимого человека». И еще: Чайковскому органически чуждо и теперь, как было чуждо всегда, представление о Боге-судье, Боге-мстителе, представление, с которым неизбежно приходится встречаться при воплощении идеи католического «Реквиема».
Параллельно этому остается подчеркнуть, что в период, предшествовавший смертельной болезни, Чайковский, по свидетельству всех имевших с ним общение лиц, и в Москве, перед последней поездкой в Петербург, и в Петербурге, до и даже в начале болезни, был, как редко, радостен, счастлив, оживлен и даже говорил, что никогда не чувствовал себя ни таким здоровым, ни таким счастливым. Все это убеждает меня в правильности моего заключения о преодолении им ужаса смерти, как некоей реальности («Пиковая Дама»), и позволяет видеть в шестой симфонии осуществление этого процесса преодоления в образе художественного задания. В первой части симфонии – сама жизнь т. е. постоянная смена контрастов и борьба, а как основное влечение – искание светлой женской ласки (см. вышеупомянутое письмо к брату Анатолию Ильичу, стр. 80–81). Во второй и в третьей частях представление о мире, обо всем, что вне я, но что я воспринимает, как данность: мир созерцаемый, а затем мир нападающий. И, наконец, в четвертой части: вечное «Warum?» и в ответ – схождение утишающей и исцеляющей силы, но не столько примирение, сколько забвение или погружение в иной мир. В какой: в мир небытия, в смысле растворения в безличном все, или в мир существования личности в новом, претворенном, преображенном сознании – это остается тайной, так же, как и все догадки о том, в каком направлении пошло бы творчество Чайковского после шестой, если бы он остался жить.
Его жизнь и творчество развивались в сфере трагического – в постоянном преодолевании трех жизненных насущных проблем: религиозной, этической и эстетической. Последняя из них, особенно остро им поставленная в знаменитом письме к Балакиреву, утверждала страшный для художника-композитора, осознающего процесс своего художественного творчества, вопрос о своей «тропинке», об идеале мастерства, о такой хватке материала, при которой созданная форма выражения выявляет без остатка, в целостности и единстве, желанное-выражаемое (то, что желанно, что подлежит выражению, как художественная концепция). Получил ли бы Чайковский в шестой симфонии разрешение этой трагической проблемы, если бы остался жить? Конечно, нет. Нет, потому, что ее решение стояло в тесной связи с остальными беспокоившими его жизнь запросами, – по всей вероятности, оставшимися неразрешенными, ибо примирение или погружение в забвение и даже признание смерти за простое состояние перехода в ино-бытие ничего еще не решает и сознания не удовлетворяет. Поставленный Чайковским вопрос о том, что неужели же смерть доброго и хорошего человека есть вместе с тем безвозвратное уничтожение его личности, а с ней и суммы свершенного им добра, осталась неразрешенной. Кто-же сильнее, любовь или смерть?! Ощущение тихости и покоя, засыпания и исчезания конца шестой симфонии есть только засыпание, исчезание, уход в сон или в небытие. Неизвестно, достигла ли мысль Чайковского постижения веры, как фактора творческого, созидающего миры и их опрокидывающего, или его религия так и осталась только статическим состоянием, «элементом примирения», а вера и скептицизм или иное противопоставление: непостижимая рассудком вера и вполне логически обоснованная человеческая справедливость — пребывали до конца в трагической беспомощности, так же, как и проблема совершенного мастерства. Думается, что да, так как творческой сущностью Чайковского было постоянное напряженное преодолевание самой жизни и художественного материала. Трагической данностью его сознания было противоречие: только неравновесие, только неустой души. Его художественное творчество предстает перед нами, как неустанный процесс запечатления его личностью в звучащих образах непосредственно данных преходящих состояний сознания, остро тревоживших восприимчивый (впечатлительный и чувствительный) строй его душевной организации. Скептик, он до смерти просуществовал и без веры в воскресение, и без веры в земной рай: он очень хотел бы встретиться с умершей матерью, но самая мысль о каком либо постоянном блаженстве приводила его в полное недоумение. И, все-таки, во всю свою жизнь он только и вопрошал о мире и покое, сам их страшась.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.