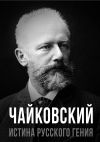Текст книги "Гений музыки Петр Ильич Чайковский. Жизнь и творчество"

Автор книги: Борис Асафьев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Если мы примем во внимание постоянный уклон русского искусства в эмоциональность, связь его, крайне тесную, с бытом и психически-настоятельную потребность изливать душу в песне, если свяжем это стремление с разнородными, крайне сложными впечатлениями и воздействиями, которые испытывала и которым подвергалась только-что зарождавшаяся юная культурная среда полу-варварского молодого, чудом возникшего города, с различными тягостными душевными испытаниями, в связи с политическими перипетиями, на которые должна же была возникать в сердце ответная реакция – тогда, быть может, мы поймем ценность и глубокий смысл петербургской песенности, а также – уясним себе причины, по которым она восприняла колорит сентиментально-меланхоличной раздумчивости и грустно-созерцательную настроенность. Не буду говорить подробно о том, как логически вытекает все творчество Верстовского, затем «Жизнь за Царя» Глинки, а за ней и «Русалка» Даргомыжского, как в отношении стилистическом, так и особенно в отношении психологическом, из указанных основ, и как любопытны преломления этого стиля у петербургских музыкантов, смотря по тому, преобладает ли в их творчестве всецело великорусская песенная волна (Мусоргский), влияние схем придворного распева, польская танцевальная ритмика, мелос Малороссии, сложный комплекс западно-европейского инструментализма (Балакирев – пианизм которого являет собою искусное скрещивание ряда наслоений: Гензельта с листианством и лирикой Шопена и Шумана), грубое подцельное народничество Серова или тонкое стилистическое мастерство Римского-Корсакова (в «Майской Ночи» малорусский песенный слой дан в характерной петербургской обработке).
Чайковского все влекло к этому стилю: южнорусское происхождение предков по отцу, в сочетании со своеобразно скомпанованным происхождением матери и окружающей чиновной средой близких и дальних родственников. Воспитание матери в институтских условиях обеспечивало внедрение в ее психику, при ее большой музыкальности, сентиментальных пьес, куплетов, арий и романсов конца александровской и начала николаевской эпохи. Надо думать, что в Воткинске Чайковский-ребенок воспринимал в пении и игре матери культуру музыки Петербурга, хотя бы и в очень отдаленном преломлении. Его чувствительность, нежная и хрупкая, безусловно должна была остро реагировать на петербургский песенный стиль:[13]13
Я бы очень хотел, чтобы понятия: песенный, песенность, мелос не были превратно истолкованы в смысле узко-этнографическом или наивно-народническом, как обязательное везде и всюду наличие народной песни. Под этими понятиями я разумею песенный строй, как основу интонации – Психею музыки, ее жизненную напряженность, ее дыхание. Конечно, это музыкальное начало обязательно присутствует в народном песенном творчестве, органическом продукте природы и непосредственного с ней сосуществования, но, включая в себя песню, оно – больше, чем песня.
[Закрыть] наивность и непосредственность чувства, воплощенные в мягких, податливо-томных мелодических линиях с преобладанием тускловатого минора и ласкового хроматизма, в любой миг готового изнежить суровый диатонизм великорусского лада, несомненно, влекли к себе, в атмосферу мечтательной грусти белых ночей, впечатлительную душу мальчика.
В течение пятидесятых годов, т. е. во время пребывания Чайковского в Училище Правоведения, петербургская песенность испытывала постоянные изменения, к сожалению, в сторону большего огрубения: внедрялась «цыганщина» т. е. продукт крайне сложного скрещивания претворенной городом великорусской песни с манерой фразировки и интонацией цыган, причем, просачиваясь в салоны, эта помесь, под влиянием общего падения вкусов к началу шестидесятых годов, породила весьма привившийся вид жестоко-чувствительных романсов, грубо эмоциональных и, по существу, крайне однообразных. Я бы рискнул назвать их «апухтинским стилем». Нет сомнения, что, будучи светским кавалером, ухаживателем и признанным дилетантом, Чайковский сочинял подобного рода романсы. По крайней мере, в цитированном уже выше письме к сестре от 10 марта 1861 года Чайковский дает понять, что такие факты бывали; рассказывая о прощании с одной из знакомых барышень, уехавшей в Вологду, он пишет: «я обещал ей сочинить романс и надул» (см. также приложенный к I тому Ж. Ч. романс на слова Фета). Это и был чувственно-музыкальный яд, отравлявший впечатлительность Чайковского в юные годы, от влияния которого ему нелегко было избавиться вплоть до того момента, когда, отойдя уже на далекое расстояние от петербургского быта, он, уже как художник, воплощал лирику этого быта в ряде романсов («Ночи безумные», «Песнь цыганки» и др.).
Когда Чайковский переехал в Москву (1866 г), он застал там восторженное и любовное отношение к русской драме, литературе и русской народной песне, так как попал в круги художественные (главным образом в среду артистов Малого театра, в ту пору блиставшего), познакомился с Островским, с кн. Одоевским и со многими истыми любителями народного музыкального творчества. Правда, любительство их не шло далее знания мотивов на-слух.[14]14
Исключение – кн. Одоевский, который действительно знал и понимал склад и строй песни, потому что различал в истории музыки ступени эволюции слухового восприятия и воспроизведения звука, т. е. интонирования. Но мне думается, что большинству музыкантов он казался чудаком.
[Закрыть] Когда Чайковский при сочинении последней части первой своей симфоний намеревался использовать песню «Цвели цветики», но смущался ее явно не народным мелодическим ходом в конце – никто не мог указать ему «ничего, кроме ходячего городского варианта» (см. Восп. Ч. стр. 29). Горячих восторгов, слезного умиления и пылкого обожания песенной стихии всегда было много в Москве, в особенности, если какой-либо талантливый певец из числа «услужащих» в излюбленном погребке заводил песню так, что душу захватывало – как это и водилось в период содружества «молодой редакции» «Москвитянина» с конца сороковых годов и до эпохи реформ. Увы, неярким выражением стилистических намерений, точно так же, как и выражением музыкальных эмоций и настроений данного содружества, не поддающихся точной формулировке, служат те напечатанные в 50-х и 60-х годах материалы (сборник русских народных песен Михаила Стаховича, потом сборники «петербужца» Вильбоа, переложения песен для ф.-п., сделанные А. И. Дюбюком и множество песен московских цыган), по которым приходится теперь восстанавливать безвозвратно минувший, а когда-то насыщенный пламенным энтузиазмом даровитейших людей быт, лирический пафос которого выявлен в знаменитой «Цыганской венгерке» Аполлона Григорьева. То, чем являлись тогда для русской московской интеллигенции песня и пляска, русская и цыганская и русско-цыганская, рассказано в воспоминаниях С. В. Максимова, Фета, Сеченова и др. и объединено, красочно и рельефно, в статье Влад. Княжнина: А. А. Григорьев и Л. Я. Визард (Материалы для биографии А. А. Григорьева. Издание Пушкинского Дома при Академии Наук. Петроград 1917). Но наилучшие выразители этой эпохи – пьесы Островского, если только рассматривать их с точки зрения внутреннего музыкального – лирического напряжения: если заполнить такую пьесу, как «Бедность не порок», песенным содержанием столь богатой интенсивности, о какой в свое время Островский мог не только мечтать, а всецело ощущать ее – я убежден, что всякое иное восприятие творчества Островского покажется тогда абсолютно вне-жизненным и внекрасочным.
Мы, люди иной, совсем иной жизненной настроенности, с трудом теперь можем понять эмоциональное значение лирики чистой песни и песенной музыки, как органических элементов русского быта. Мы даже склонны презирать такую обыденную музыкальность, как музыкальную обыденность, объединяя все в презренном понятии «цыганщины». Отчасти мы правы, потому что застали только вырождение или банальные перепевы того, что когда-то само звучало и созвучало всей интеллектуальной и душевной жизни таких больших людей, в смысле вчувствования их в нераспознанную глубь русской стихии, как А. Н. Островский, Аполлон Григорьев, Т. И. Филиппов, Л. А. Мей, П. М. Садовский, П. М. Боклевский, М. А. Стахович, П. И. Якушкин, Н. Г. Рубинштейн и др. Жизнь отказывала в действии – воля уходила в песнь и нескончаемые беседы, споры, собрания и, наконец, в разгул.
В песне страдали, любили, томились, возмущались, искали забвения, тосковали, редко радовались, чаще утопали в разудалом, безоглядном, беспробудном угарном весельи. Надо же было как-нибудь изживать скованную волю, которая не могла у здоровых, любящих жизнь во всем ее размахе, людей, уйти в послушницы интеллекта. А как приходилось томиться – вспомним хотя бы пример Островского: его первая пьеса «Свои люди – сочтемся» появилась в свет в 1850 году в «Москвитянине» и удостоилась Высочайшей резолюции: «совершенно справедливо, напрасно напечатано, играть-же запретить, во всяком случае»… (см. А. Н. Островский. Собрание сочинений. Изд. Просвещение, т. X, стр. XXIX). В своем подлинном неизувеченном виде пьеса попала на сцену только в 1881 году!.. Мей был глубоко прав в своей «Запевке», воспевая песню, как нечто более значительное, чем песня в специфическом своем смысле:
«Ох, пора тебе на волю, песня русская
Благовестная, победная, раздольная,
Погородная, посельная, полольная,
Непогодою – невзгодою повитая,
Во крови, в слезах крещения – омытая!
Чайковский приехал в Москву в 1866 г., когда начавшаяся эпоха реформ почти смыла волну чувствований и чувствительных излияний. Но, уменьшив силу напряжения, она не могла все-же заставить совершенно забыть песню и переживание всей жизни, со всем ее горем и радостями, в песне. Давая понять в самых общих чертах роль и значение звукоощущения песни в жизневосприятии лучших людей московских, многих из которых Чайковский застал еще, я хотел указать на большую качественную разницу между салонно-замкнутыми музыкальными настроениями «светских» чиновничьих кругов с их песенностью, уложившейся в сентиментальный лиризм или в сладостно-чувственные романсы, и стихийно-эмоциональным содержанием песенной лирики Москвы. К Островскому Чайковского влекло. Он еще в Консерватории задумывал написать оперу на сюжет «Грозы», и первым его самостоятельным оркестровым сочинением была увертюра к этой драме: страшная стихийная сила, обрушивающаяся на существо безвинное и кроткое и подавляющая в нем побеги жизни – одна из основных психологических тем музыки Чайковского.[15]15
Можно сказать, что проблема «обреченности» есть тема, вариации на которую гнездятся в творчестве всех русских музыкантов, и что есть опера («Хованщина»), всецело посвященная этой проблеме.
[Закрыть]
Среди только что описанной эмоционально-музыкальной атмосферы Москвы Чайковскому суждено было формироваться, развивать свой талант, заострять мысль, находить свой язык выражения, организовывать стиль, как комплекс средств выражения и манеру ими пользоваться. Над последним заданием он работал всю жизнь, но есть большая разница в этом отношении между первым, московским, до-онегинским периодом творчества и последующими стадиями жизни Петра Ильича.
Сперва его влекло в Петербург. В первый год своего пребывания в Москве он ворчал и негодовал на этот город. Обидные щелчки по самолюбию, полученные от высокомерных петербургских учителей и критиков в отношении первых его opus’oB (особенно же оскорбившее автора отношение А. Г. Рубинштейна к первой симфонии и, наоборот, большой успех ее в Москве) заставили Чайковского обратить свои взоры на Москву, и вскоре ненависть перешла в обожание: он полюбил город, радушно откликнувшийся на призыв его творчества, и до тех пор, пока его талант не разросся настолько, что в условиях московской суетливой жизни и однообразно-провинциальных все одних и тех же музыкантско-консерваторских интересов ему стало тесно развиваться, – Чайковский не расставался с Москвой. До конца жизни он не порывал московских связей и даже свой «Эрмитаж», свой домик отшельника-«одиночника» выбрал в Клину, близ Москвы.
Возникает вполне понятный вопрос – почему Москва приняла творчество Чайковского, и почему Петербург откликнулся не сразу? Мне это представляется достаточно легко поддающимся объяснению. Музыкальность Москвы (я говорю о только что выясненных эмоциональных токах ее) оставалась до внедрения в этот город Чайковского неразряженной. Верстовский, конечно, не был тем сильным человеком, который мог бы стать московским Глинкой. Дисциплины (воли и духа), чтобы стать им, не хватило и у даровитого Алябьева. Между тем, напряженный ток музыкальности требовал настоятельно выявления. Случилось так, что личные импульсы к творчеству у Чайковского совпали с настроениями музыкальной Психеи Москвы. Настроения эти сводились к общепонятной, обобщающей все стремления точке: к ощущению стиснутости, связанности, скованности, т. е., в конечном счете, неволи. Колоссально-богатый запас душевных сил, нагнетание и напряжение воли и чувства, – но деться с этим совсем было некуда и использовать неначто. В песне родится стон. Стон не возмущения, а покорности: а если и возмущения, то неизвестно против кого: против стихии неведомой, упорно гнетущей дух и волю, порабощающей и личное и общественное начало, или же против себя, в досаде на свою собственную покорность. Непосредственное (как жизненная потребность выросшее) изливание, изживание души в песне, совершенно не считаясь с тем, в каких рамках оно выражено: есть ли оно кусок жизни или художественное произведение.
Все это соответствовало, как нельзя лучше, личной лирике Чайковского. Он тоже чувствовал на себе гнет, но гораздо более страшный: гнет призрака смерти, отрезавшей от него уют жизни и ласку матери; как существо чувствительное, остро самолюбивое и потому ищущее постоянного тихого приспособления к жизни, чтобы только не вызвать шума, внимания, насмешек (наследие жизни в закрытом учебном заведении в условиях вечного торчания «всех на глазах у всех»), он чувствовал постоянный гнет от этого ужасного чувства приспособления, но зато и выучился быстро сочетаться со средой, в которую попадал по воле судьбы. Сочетаться, хотя бы ценой ущерба своей личности т. е. недостаточно смелого выражения ее. И как же он бранит себя постоянно, особенно в дневниках, за воображаемое им, будто-бы неизбежное, присутствие в нем «двух Петей»: одного подлинного, внутреннего, настоящего, а другого – внешнего, чуждого ему, ломающегося перед людьми. Конечно, его нападки на себя преувеличены: именно, он был всегда самим собою и особенно настоящим единым и цельным существом тогда, когда чувствовал себя бессильным перед человеком, с кем надлежало обойтись сурово или презрительно. Бессильным не от ненависти, а от жалости к тому человеку. Такой своеобразный гнет чувствует и испытывает чуткая душа вследствие своей собственной мягкости, робости и чувствительности к нападениям и даже нападкам. Основа песенности Чайковского, поэтому, также неволя: сознание скованности в настоящем и грусть о прошлом, о его невозвратимости и неповторимости. Но за этой точкой идет поворот в сторону возмущения и борьбы; поворот уже чисто личного волевого напряжения. В основе же личного напряжения звучит стон окружающей среды. Стон сквозь народную песню, как о том возвещала эмоционально-музыкальная атмосфера Москвы, и стон примиренности, как он, уже преодоленный, звучал в готовых уже, в слезах застывших, формулах народной скорбной лирики: в ней нет возмущения, в ней уже данность скорби, с которой жизнь примирилась, как с неизбежностью. Это, если можно так выразиться, эпический стон-выражение личных или общественных эмоций в облике общепонятных схем выражения. Чайковский в своей музыке дает долгожданное Москвой музыкальное разрешение эмоций в утверждении лирики плененной личности, страдающей и борющейся, но возвещающей свою песнь в найденных и выбранных собственной волей интонациях, в границах своих собственных средств выражения.
С Чайковским в музыкальность Москвы вступила сильная индивидуальность. Теперь, на расстоянии, любопытно наблюдать, как в его творчески-изобразительный язык привходит Москва. Как человек впечатлительный, он впитывает в себя воздействие окружающей среды; как «невольная» личность, ищущая приспособления, он стремится усвоить то, что будет откликом на эмоции людей, вокруг снующих. Первым крупным сочинением, над которым Чайковский работал в Москве, была d-moll-ная симфония. В первых трех частях ее – возвещает себя интимный строй души, робко кутающейся в свои же грезы. Даже порывов овладевавшего в это время воображением Чайковского духа Шумана здесь почти нет. Но в последней части вдруг просыпается темперамент своеобразного склада: разнузданный, беспорывистый, как бы топочущийся на месте разгул, гул, гулянка, гульба. Даже гульбище, то застывающее, то снова гудящее: ухарски, по-фабричному, с бахвальством выступает здесь Русь. А завершается это грубое, даже циническое топотание не менее разнузданным ритмом, напоминающим бесшабашный оглушительный трезвон московских колоколен на пасхальной неделе. Картина суетящегося, пьяным угаром напоенного, шумного города врезалась в сознание композитора, и он создал самое современное для тогдашней Москвы сочинение.
Петербургские наставники Чайковского выбрали для исполнения две средние скромно-лирические части. Москва же приветствовала всю симфонию успехом (3 февраля 1868 года), что является чрезвычайно важным и характерным фактом. Финал второй симфонии – явление психологически того же происхождения, т. е. возникшее под влиянием только что описанных факторов, но уже претворенное в ярчайшее художественное задание. В дальнейшем процессе композиции Чайковского облик Москвы, резко переходящей от тоскливой неволи к гульбе и кутежу, шумному, угарному, трезвонному – не раз еще захватывал воображение композитора. Я слышу этот основной великорусский психологический контраст в переживаниях и в музыкальном выражении многих моментов оперы «Опричник», в первом квартете и в сонате для ф.-п. (финалы), в пляске скоморохов в «Снегурочке», в увертюре «1812 год», в финале 4-ой симфонии, в пьесах для фортепиано: Humoresque (op. 10, № 2), Romance f-moll (op. 5) Capriccio (op. 19, № 5), «Масляница» из «Времен Года». В сутолоке без подлинного движения первой сцены балета «Лебединое озеро» и в пьяной суете финала скрипичного концерта[16]16
Ганслик в своем отзыве об этом произведении («Neue Freie Presse» 1881, № 6224) попал в цель как нельзя удачнее.
[Закрыть] можно уловить воздействие того же основного контраста.
Но, конечно, грубый эмоциональный примитив такого порядка не мог долго удовлетворять Чайковского. В первый же московский период его творчества легко заметить, как постепенно получают заполненность все черты знакомого нам лика композитора в его наиболее совершенных произведениях. Процесс этот шел под двояким воздействием: под влиянием личных переживаний, глубоко осложнявшихся в силу завязывания отношений с новыми людьми, к которым надо было приспосабливаться, и в силу довольно сильного любовного увлечения (певица Арто), доставившего еще каплю разочарования и неудовлетворенности в копилку таких же подарков судьбы. Иного порядка влияние шло из Петербурга.
Дело в том, что художественной совестью для Петра Ильича, все-таки, всегда оставались петербургские музыкальные круги. В Москве были друзья, милые люди и хорошие музыканты. Но они все же были москвичи, а мы знаем, что громадный запас музыкальных эмоций Москвы тогда еще не прошел сквозь искус интеллектуальной оценки и выбора. Знак тождества ставился между переживанием и выражением: не чувствовалось грани между непосредственным воплем и преломлением душевной скорби в творческом сознании. Поскольку дело шло о претворении и воспроизведении народной песни, постольку, благодаря ее художественности, безразлично было в проблеме выражения спрашивать о самом материале: в готовые, веками сложившиеся формулы скорби люди вкладывали свое горе, свои мысли о неволе душевной. Вкладывали с полной непосредственностью, за интенсивностью чувственного напряжения забывая о средствах выражения и материале. Голос за душу захватывает?! – ну вот и достаточно!
Но когда на место готового эпического материала вступало личное творчество, то подобные непосредственность и искренность излияний по любому поводу, чрез выражения их в звуковом материале любого характера, привносили с собой полное смешение понятий: интенсивности личного выражения и выразительности материала. Только критерий вкуса, строгого и разборчивого, мог внести ясность в дело оценки личного творчества. Вне этого критерия музыкальное искусство рисковало застыть в слепом эмоционализме, в стремлении к интенсивности чувствований вне самой природы музыки, которая превращалась в средство, в обыденный язык междометий. Чайковского привлекал в этом отношении Петербург, ибо там уже наступил период критицизма, период интеллектуальной оценки и осознанного выбора средств выражения. Как музыкант-композитор, Чайковский чувствовал, что суровый судья его Балакирев[17]17
Вот где кроется крупнейшая историческая заслуга и значение Балакирева: он первый внес дух острого критицизма и скептицизма, дух, присущий Петербургу, в оценку музыкального наследия и фильтрование музыкальной современности.
[Закрыть] и те, кто с ним и за ним, обладают сильной творческой волей; что как ни дорого ему мнение Н. Рубинштейна, Кашкина, Альбрехта и других московских приятелей, хотя бы прекрасных музыкантов, – какое-то, может быть и неосознанное, право на власть в деле оценки остается, все-таки, за Балакиревым. Самолюбию Чайковского было далеко не безразлично, как отнесется петербургская группа передовых музыкантов к его сочинениям. Вот почему возникает любопытное борение, крайне своеобразное в летописях музыки, между эмоционально-напряженным талантом композитора, крайне впечатлительного и самолюбивого, желающего во что бы то ни стало отстоять самостоятельность выражения своих мыслей, и между композитором-аналитиком, построяющим свой критерий на тезисах вкуса и на принципе внедрения этих тезисов в чужое сознание, путем ли ласкового убеждения, внушения или путем колкой и жестокой насмешки.
Балакирев был бы глубоко неправ, если бы крайняя субъективность его суждений не базировалась на основе, все-таки, хорошего вкуса, бескорыстности и на сознании, что тому, на чем он воспитался сам и хочет воспитывать других, суждена жизнь. Чайковский, невидимому, это чувствовал и понимал, что никакого вреда для непосредственности и интенсивности его музыкальных стремлений не будет, если он последует советам строгого воспитателя.
Под таким воздействием было создано одно из лучших сочинений Чайковского в первый московский период: увертюра «Ромео и Джульетта». В ней Чайковский угодил Петербургу, потому что, конечно, старался угодить, следуя терпеливо настояниям Балакирева в смысле разного рода переделок, пока инстинктивно не почувствовал, что воспитатель заходит слишком далеко, насилуя его самобытность. Тогда Чайковский прекратил свое ученичество, отдав увертюру в печать, и только лет через десять, вернувшись к ней вновь, сам произвел желательные ему самому переделки. Так он поступал всегда и во всем, кротко вникая и внимая советам и настояниям, если они не задевали его внутреннего душевного строя, который он зорко оберегал от вмешательства посторонних глаз. Под влиянием Петербурга создалась и симфоническая поэма «Буря» (здесь в роли вожака-гипнотизера выступил Стасов), а следующая оркестровая фантазия, «Франческа да Римини», сочинена Чайковским по личному выбору и побуждению, но, вероятно, не без тайной надежды угодить петербургским друзьям, что и было достигнуто.
Таким образом, строгая и суровая, холодно-властная петербургская культура, в лице ярких представителей ее молодой, как тогда казалось, все разрушающей школы, вносила строй и критерий вкуса в яркое творчество композитора, под влиянием петербургских легкомысленных привычек балующегося музыкой чиновника и под влиянием московской эмоциональной стихийности[18]18
Я имею здесь в виду не отдельных музыкантов, живших в Москве, из которых, например, Ларош подчас очень сурово расценивал Чайковского с точки зрения единства стиля, но общее течение, выше выясненное, психологически обусловленное.
[Закрыть] склонного заменять творчество непосредственными обнаженными изъявлениями чувствований, с полной неразборчивостью в выборе материала, а иногда и средств выражения.
Как один из психологических тезисов, направляющих развертывание композиции у Чайковского, я упомянул: ощущение приближения или впечатление того, как надвигается жуткая стихийная сила, готовая обрушиться на кроткое, невинное существо или на робкую мысль, вот-вот могущую расцвесть (это уже было дано в увертюре к Грозе»), Наоборот, в первой симфонии важно отметить еще другие стимулы: наивно-грубый, но психологически, в национальном претворении, понятный контраст между щемящей тоской или зябкой грустью и наглым буйным разгулом, это с одной стороны, а с другой – чистое созерцание, вне борьбы и вне бунта. В каком направлении должно было итти творчество Чайковского, чтобы выявить или выразить подлинный лик композитора? Первый стимул вносил в стиль его музыки ощущение «невольности», приглушенности, гнета и постепенное нагнетание взрывчатых элементов: эволюция идет по этому пути в смысле нагнетания все большей и большей напряженности («Франческа да Римини»), Стимул второй, примитивного порядка, дает лишь яркий и сочный, но грубый контраст. Третий-же выступает, как простая данность тихой покойной скорби и выражается в милой музыке, но зато в пьесах подобного рода отсутствует темперамент. Курьезно в этом отношении, что композитор для такого рода эмоционально-ровных, спокойных, с мягкими контрастами сочетаемых пьес выбирает бойкий ритм, например, ритм мазурки. Тогда возникает «бестемпераментная мазурка», хотя и с острым сопоставлением: минорного оттенка вяло колышащийся мелос на фоне бойкого тактового размера (см. ор. 9 № 3 Mazurka d-moll и ор. 21 № 5 Mazurka as-moll). Если привнести в данный ряд стимулов, обусловливающих логику развертывания звуковых образов, еще один, являющийся у Чайковского наиболее своеобразным и психологически ценным, то музыкально-творческая личность композитора встанет перед нами во всем своем выразительно-могучем облике. Возникает это новое привнесение так: неоднократно я утверждал, что остро впечатлительная и нервно реагирующая на мир явлений душа ищет прежде всего приспособления к окружающему. Важно утвердить теперь, что, приспособляясь, она далеко не все, воспринимаемое вокруг, уподобляет, ассимилирует себе, а выбирает лишь безусловно ей необходимое для дальнейшего развития. Из этого вытекает, что подлинный внутренний мир Чайковского рискованно было бы искать в таких сочинениях, как финалы первой и четвертой симфонии или увертюры «1812 год», хотя отдельные частицы его душевного строя, конечно, соприсутствуют в них.
Чувствительность и впечатлительность вызывают в душе самолюбивую мнительность и, как я уже сказал, зоркую охрану своего подлинного я от взоров посторонней воли Но те-же самые свойства, которыми обусловлена острота восприятия, оставляющая след в психике человека, естественно заставляют возникнуть в ней глубокий отклик – нервную реакцию на все то, что вызывает раздражение. Понятно, что у людей такой душевной организации, как П. И. Чайковский все творчество получает смысл отражения или, вернее, претворения испытанного в жизни, причем в данном случае безразлично, идут-ли толчки от вещей видимого мира или от собственных переживаний. Значит, Чайковский не мог не создавать музыку уже потому, что впечатлительность его психики вызывала на всякое полученное впечатление соответствующую нервную реакцию в образе тока гораздо большего напряжения, чем у обыкновенных людей. Но душевная впечатлительность вызывает душевную застенчивость, как вполне естественное следствие того явления, что всякое более тонкое вникание в окружающую нас жизнь делает нас более чуткими к постижению свойств и отношений вещей и препятствует грубому вмешательству в их течение. Кроме того, хрупкость всякой впечатлительной душевной организации заставляет организм, в целях самозащиты, не раскрываться до конца, не развивать чувство до сжигающей страсти, не обнажать своих переживаний до цинического восторга перед ними. Как только возникает сдержанность выражения, она ведет за собою томление, неудовлетворенное желание, погоню за мечтой, рост воспроизводящего звуковые видения воображения. Интенсивность звучаний растет, но вместо того, чтобы воспламениться в страстном экстазе, они либо истаивают, либо принимают совсем не возбуждающий страсти облик или бывают резко сметены вмешательством более сильных и властных элементов. Все эти психологические явления вызывают особого рода приемы и методы звукового воплощения. В музыке Чайковского большое значение имеет очень часто применяемый им метод завлекания или дразнения, путем развития какой-либо раздражающей нервные центры звучащей идеи, но развития не полного, не доведенного до разряда а либо возвращаемого, как ни в чем не бывало, к исходной точке, либо резко преломляемого. Я считаю, что именно этот принцип недосказанности, недовершенности и является наиболее важным и главным магическим средством воздействия его музыки на нашу психику. Именно в противоположность Вагнеру, действующему на нас насилием – колоссальной жизненной напряженностью своих эротических откровений, Чайковский возбуждает скрытностью и затаенностью. Он дразнит, вызывает томление, неудовлетворенность возбужденных желаний, и либо сводит их на нет, лукаво оставаясь в стороне, либо доводит до страстного напряжения, но тогда внезапно раскрывает за ними страшный призрак вездесущей Смерти. Особенно ярко выражено это в увертюре «Ромео и Джульетта»,* но та же психологическая тема и во «Франческе», и в «Воеводе». Только «Буря» оптимистична в этом отношении, если держаться трактовки, исходя от сюжета. Если же отправляться от музыки, то смысл получается иной: путем заклинаний возбуждена морская стихия и стихия любви. Последняя разрастается до наивысших доступных Чайковскому сфер страстного подъема, но, достигнув их, разрежается в бессмысленно бессодержательном взрыве звучаний (словно чей-то злорадно торжествующий смех!) с тем, чтобы быть поглощенной вновь спокойно и величаво царящей морской стихией. Свойство недосказанности и выразительность томлений музыки Чайковского заставляет предполагать в нем трагически переживаемую эротическую проблему. Томятся: Наташа, Оксана, Таня Ларина, Жанна д’Арк, Мария, Настя-Чародейка, Лиза, Иоланта. Смерть поглощает почти всех их. Неужели смерть сильнее любви?
Итак, основная данность – чистое созерцание (обычно, у Чайковского это спокойно сосредоточенное грустное настроение); следующая стадия: созерцание переходит в наблюдение и рождает, как итог впечатлений, контраст между покорной подчиненностью и разгулом – между основными крайними точками великорусской стихии жизни; далее, с момента давления, испытываемого личностью извне, растет эмоциональное напряжение, а за ним борьба и бунт: бунт скованной воли. Сознание скованности и под-
См. мой очерк П. И. Чайковский (изд. Госуд. Филармонии 1921). чиненности рождает ощущение неудовлетворенности. Отсюда исход в постоянном раздражении и обольщении души чувственными образами, но не до полного их раскрытия, а либо постепенного сведения их на нет, либо через внезапное обнаружение небытия, смерти, как фона, или безбрежного неведомого мрака, разверзающегося позади всего, свершающегося в мире и в душе человека. Вот четыре разветвления творческих домыслов Чайковского.
Здесь мы приближаемся к самому загадочному свойству психической и интеллектуальной сторон личности Петра Ильича. В жизни его две тайны. Тайна женитьбы – конечно, ничуть не поколебленная собственным признанием Чайковского, как оно передано в статье Н. Д. Кишкина.[19]19
См. «Прошлое русской музыки», изд. «Огни» Петроград. 1917 г.
[Закрыть] Рассказ Чайковского, очень последовательно развитой, все-таки, производит впечатление выдумки post factum, выдумки, которой, отчасти противоречат факты, но которой, вероятно, верил и сам Чайковский, сроднившись с ней в своем воображении. Во всем этом рассказе самое правдивое и верное то, что представляется наиболее странным, т. е. самое возникновение идеи о женитьбе. Чувствительность и застенчивость Чайковского дают полное основание верить, что, находясь в периоде создания «Евгения Онегина», он действительно мог вообразить, что сыграл по отношению к влюбившейся в него девушке роль бессердечного эгоиста (именно так, во вкусе французской мелодрамы: бессердечного). Что ему надлежит искупить свой грех смертью (отсюда впоследствии попытки самоубийства) или же, оставаясь жить, принять на себя крест т. е. связать себя, а главное, свое творчество, жизнью для другого существа. Все же фактически данное, что окружает эту основную психическую данность в рассказе, представляется мне, наоборот выдуманным, потому что все это очень детально, правдоподобно, но не искренно и не убедительно. Дальше, в кратком синтезе жизненного пути Чайковского я еще коснусь рассказа. Пока же отмечу: женитьбой Чайковский не разрешил какого-то крайне существенного для себя жизненного вопроса, и потому естественно ожидать было в его музыке дальнейшего еще более напряженного томления и еще более мрачного, чем в «Ромео» или в «Онегине» (Ленский), разрешения тоски, жизненных очарований и влечений.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.