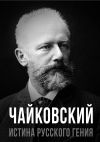Текст книги "Гений музыки Петр Ильич Чайковский. Жизнь и творчество"

Автор книги: Борис Асафьев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Редакция и переработка ранее сочиненного занимает теперь также много времени, и наличие этой мании редакторства очень характерно именно здесь, в эти сравнительно пустые, «разреженные» годы, годы вспышек (как, например, опера «Мазепа» или третья сюита), а не последовательно напрягающегося течения мысли. Венцом этого периода благодушия (относительного, конечно) является поразительно вдохновенный, брызжущий щедростью и неизбывностью мелодической струи и напряжением юного воображения балет «Спящая Красавица», написанный всего за четыре года до смерти.
Так как могучая жизненная светлая волна шла в творчестве Чайковского параллельно трагическому постижению смысла жизни и одна другое обусловливала, то не удивительно, что «Спящей Красавице» – всплеску жизни – предшествуют сочинения, указующие на третий завершительный период творчества и влекущие к «Пиковой Даме» и Шестой симфонии. Это: «Манфред», «Чародейка», «Пятая симфония» и «Гамлет». Они как бы вклиняются в средний период сосредоточения сил и делают совершенно непонятным создание «Спящей Красавицы», если смотреть на Чайковского как на отчаявшегося безвольного «нытика»-пессимиста, абсолютно шедшего мимо радостей жизни. Еще раз скажу что источник такого рода воззрении лежит, конечно, в психике людей девяностых годов, односторонне ощущавших музыку Чайковского, в свойствах петербургской музыкальной культуры: «направниковщине» и «фигнеровщине», а главное, все-таки в близорукой биографии, составленной Модестом Ильичем, типичным петербуржцем стиля «Дубровского». От гипноза этой капитальной, но близорукой в отношении подбора суждении книги, трудно освободиться.
Как и в обзоре достижении первого периода, за исходную точку исследования возьмем некую данность относительного покоя и светлого сосредоточения звучащих состояний сознания. Теперь таковая представляется менее непосредственной но вместе с тем и менее меланхоличной. В лирике среднего периода, как такая «средняя» данность вне напряжения в ту или иную сторону, звучит в мажорном ладу данная мелодия, спокойной поступи светлой окраски. Примеры из романсов: «Нам звезды кроткие сияли», «На землю сумрак пал», «То было раннею весной», «Скажи, о чем в тени ветвей» и др., из детских песен: «Мой садик», «Весенняя песня» и др., из «Обедни» («Отче наш»); элегия – ясная и светлая третьей сюиты; третья часть Манфреда; панорама из «Спящей Красавицы»; Reverie interrompue – очень характерный пример поворота беспокойства на покорность; эпизодым-моменты из «Детского Альбома» (Молитва, Песнь жаворонка. Сладкая грёза). Вообще таких устойчивых, спокойно серебристых, неволнуемых состояний можно найти в этом периоде очень много, но самым выдающимся выражением моей мысли будет, конечно (и только), упомянутая панорама.
Немало и отклонений в сторону большей яркости, света, раздолья и смеха (но до разухабистого разгула музыка за немногими исключениями уже не опускается). Если приблизительно установить градацию (стилистическую), то, например, можно взять такое последование: фея Альп из «Манфреда», вальс из 2-ой сюиты, «Новая кукла» – чистый порыв детской непритворной радости, вальс и затейливая полька из «Детского Альбома», вальс из «Серенады», «Кукушка» из «Песен для детей», романсы:. «Вчерашняя ночь» и дуэт «Рассвет», «Благословляю вас, леса», первое ариозо Кумы из «Чародейки», «День ли царит», Итальянское Каприччио, Marche miniature из 1-ой сюиты, некоторые вариации и полонез из третьей сюиты, «Scherzo humoristique» и «Danse baroque» из второй сюиты, гопак из «Мазепы», шуты в «Орлеанской деве» и скоморохи в «Чародейке» (замечательно характерный по нарочитой придурковатости и юмористическому ритму терпких гармоний танец). Наконец, многие куски из «Спящей Красавицы» и в особенности взрыв ослепительно радостного оркестрового восторга в момент пробуждения принцессы Авроры, как яркий луч солнца из за тяжелой завесы туч или мгновенный переезд из дождливой и туманной местности в солнцем залитую страну света. Я пропустил величественный гимн из «Орлеанской Девы» (первый акт), кантату «Москва» и первую часть сонаты для ф.-п. Любопытно, что в «Спящей красавице» «бесовщина», очень нагло начинающая балет, уже во вступлении встречает, если не преодоление, то свое противоположение, в виде развития спокойно контрастирующей натискам Феи Карабос темы Феи Сирени, отнюдь не «обреченной», а светлой, подобной тихо и плавно струящемуся лунному лучу. И во всем балете «спор» двух начал везде разрешается только противоположением без борьбы. Светлое начало радостного упования – надежда – начинает спокойно струиться, а посланница Смерти – отчаяние – постепенно исчезает. Это характерно, ибо «Спящая» создана между пятой симфонией и «Пиковой Дамой». Если бы в самом Чайковском надежда – весенняя Фея Сирени – преобразилась в веру, в его творчестве засиял бы более яркий свет, чем какой засиял в «Иоланте».
В противоположном направлении от светлых устоев развертывается теперь еще более последовательно утонченная гамма психических состояний и стилистических достижений. Сперва уклон в сторону ясной тихой грусти (то, что составляло основную данность в первом периоде). Знаменитая легенда («Был у Христа младенца сад») в своей тихо-струйности как раз выражает желанное состояние «тихого света вечернего»; в таком же роде приветливо-грустный плавный (несмотря на свой семидольный размер) хор девушек, начинающий действие «Мазепы»; песня менестрелей из «Орлеанской Девы»; отсюда уклон в сторону мягкой томной, но все еще тиховейной грусти: известная «грустная песенка» и элегической задумчивой прелести полный вальс fis-moll (из opus’a 40), романсы «Средь шумного бала», «Я ли в поле да не травушка была». Жуткий Valse melancolique из третьей сюиты переносит воображение в сферу романтической поэзии Жуковского: тихо и почти недвижно реют призраки отошедших душ над скорбной землей. Или всем знакомое ощущение сумрачного зимнего дня, когда снежные хлопья с монотонным упорством молчаливо и печально ложатся на хмурые улицы.
Дальше грустнее и печальнее: Intermezzo из первой сюиты, «Осень» и «Колыбельная песня в бурю» (из «Песен для детей»), «Ночи безумные», «Песнь Цыганки» – романсы тонко претворяющие петербургскую «цыганщину» и поэзию апухтинских образов и бытовых картин 70-х и 80-х годов. «Подвиг» – призыв к непротивлению. Ночь – «Отчего я люблю тебя, светлая ночь» – один из совершеннейших романсов Чайковского, напоенный мучительным и вместе с тем сладостным томлением белых ночей. Созерцание призрачности Петербурга и вместе с тем вопрос, вдумчивый и глубокий, к себе, к своим тревожным, всегда непокойным мыслям-призракам.
Концепция первой части «Манфреда» – еще более углубленный и обостренный вопрос о смысле блуждания в жизни, и вместе с тем беспокойный порыв вперед куда-то, лишь бы выйти из тумана, – искание опоры, устоя. Но свет чуть брежжит, далеко и невнятно. Балакирев знал, что предложить Чайковскому. Этот сюжет должен был вызвать и вызвал в воображении последнего все самое ужасное для него в жизни, основную загадку бытия: как совместить наличие творческих порывов и достижений с гибелью всего и ничтожностью перед ликом всепоглощающей смерти. Манфред-Чайковский не ведает гордыни Манфреда-Байрона: безнадежность, тщету всяких поисков покоя и удовлетворения духовного он ставит, как тезис, как символ русского странничества. В «Манфреде» почти нет освобождающего движения, порыв за порывом потухают в тягостном вздохе основной темы.
В пятой симфонии, наоборот, ощущается постоянное стремление и бег, безостановочный и трепетно-нервный. Только он – скованный, несвободный. Место фанфары судьбы 4 симфонии здесь занимает гораздо более скромно утверждающая себя тема какой-то постоянной оглядки, препоны. Словно бы Чайковский постиг, что не в видимых путах дело, а вот тут где-то возле, даже внутри собственного мозга какое-то что-то назойливо маячит со своим упорным холодным: veto. Враг – не судьба, не внешние обстоятельства, а постепенно выростающее внутри себя, внутри своего «я» отрицание воли к жизни. Этот мотив, если угодно, «судьбы», в пятой симфонии твердит о себе, растет на всем ее протяжении и, наконец, в финале уже нагло возвещает себя в торжественном маршеобразном величании. Но какой он жалкий – даже в своем величии – по своему бессилию: он повторяет свое зачало с тем, чтобы тотчас суровым и постепенным ходом мелодии вниз к той же ноте, из которой она вышла, прекратить всякий порыв, и тотчас решительным кадансом замкнуть круг. Звучит ли он вкрадчиво, звучит ли он нагло, мотив этот равно страшен своей бесповоротной ограниченностью. Что же это? Смерть? Вероятно, да. Что-то такое, что, как в «Смерти Ивана Ильича» у Толстого, вдруг прокралось в человека и постепенно отнимает все права у жизненной энергии, мало-по-малу отравляя ее.
Пятая симфония, «Манфред» и еще увертюра «Гамлет» – в целом мучительно-безнадежный порыв разрешить какой-то неустанно и упорно мучащий душу вопрос. Они влекут нас к последним сочинениям Чайковского и, в особенности, к «Пиковой даме» и шестой симфонии. Но до них еще было произведение, стоящее в центре всего этого периода и выступающее вследствие проникающей его глубоко острой печали, как явление, соответственное es тоИ’ному квартету памяти Лауба. Это сочинение возникло так же под влиянием жестокой и внезапной утраты крайне близкого человека, создавшего Чайковскому имя на первых порах его композиторских выступлений – под влиянием смерти Николая Рубинштейна, памяти которого оно и посвящено. Имею в виду, конечно, известное трио. Как ни сильно воздействие музыки первой части «Манфреда» и пятой симфонии, элегическое трио все же впечатляет глубже. Мы привыкли к нему, как привыкаем в быту ко многим ценным вещам, засоряем и загрязняем их. Боль утраты, невозвратимостъ дорогого облика – вот, в чем ужас смерти, не говоря уже о том, что с ней навсегда тухнет пламень сознания данного человека, в его единственности и неповторимости. Чайковский с детских лет соприкасался со смертями такого порядка, которые не могли приучить к смерти, а если даже в последние годы жизни он, судя по некоторым известным мне рассказам, позволял себе легкомысленно относиться к ней или делал вид и храбрился, что подшучивает – то такая «привычка» или такое «все равно» могли возникнуть лишь под влиянием страшной мысли о реквиеме (вероятно для себя), возникшей в его мозгу совместно с концепцией шестой симфонии, программу которой он упорно скрывал и на которую лишь нечаянно намекнул, когда ему предложили написать Requiem. Ужас в том, что, соприкасаясь не раз с яркими смертями, Чайковский как бы на опыте узнал, что значит умирание и, создавая своего рода «пляску смерти» – «Пиковую Даму», он имел дело со «старой знакомой». Но, повторяю в трио звучит не преодоление страха смерти через выявление ее в творчестве – в трио впечатляет горе, искреннее, глубоко поразившее горе утраты и скорбь о не-возвратимости. Тут дело не в преодолевании, а в сознании неизбежности и бесповоротности исчезновения человека. И чрез это сознание личное горе утраты возвышается до общего сознания ужаса бесповоротной и вечной утраты тех элементов человечности, которые заключены в каждом индивидууме. Такая скорбь от смерти величественнее ужаса перед самой смертью!..
Три оперы, написанные Чайковским в течение среднего периода, на расстоянии одна от другой в четыре года (см. Хронограф), дают в отношении степеней возрастания и понижения интенсивности звучащего материала ряд редчайших примеров колебаний в данных пределах minimum’а и maximum’a напряжения эмоциональной динамики и смен света и тени. Я уже приводил несколько примеров. Теперь же, вкратце, в отдельности на каждой из данных опер, покажу основное направление тока.
В «Орлеанской Деве» – взрыв света и динамики восторга дан в религиозном экстазе первого акта. Все дальнейшее течение сводится, по существу, лишь к разложению создавшегося впечатления, к доказательству, что чуда не было. В этом столь неожиданном, но психологически понятном ходе действия заключается недоумение, почти всегда невольно вызываемое при восприятии данной оперы. Ее спасает лишь то обстоятельство, что, при росте скептицизма и уменьшении света в одном направлении, он усиливается в другом: светлеет лирика Иоанны в связи с тем, как все ярче и ярче вспыхивает в ней любовь. По мере того, как божественность ее низлагается, то, что свойственно девушке прежде всего, начинает сиять. Но любовный ток прерывается, и мистическое течение приобретает окончательно подавляющее господство. В «Мазепе», в опере, крайне схематично, но смело построенной, захватывает напряженнейшая яркость ее сочного театрального письма: пафос пытки и казни. Мрак здесь есть нечто постоянное, начиная с тяжелозвонкой интродукции. Мрак, как фон, как данность, почти не разряжается на всем протяжении оперы. И даже об истечении света более или менее продолжительном говорить не приходится. Дразнят световые пятна, там и тут мелькающие, но ими еще сильнее углубляется тень. Колоссальное впечатление, поэтому, получается от заключительной колыбельной песни сумасшедшей Марии над трупом. Плавная, нежная, трогательно-задушевная, наивно-искренняя музыка этой песни, как светлый луч замыкает оперу, не разрешая нависшего ужаса. Такой конец, на контрасте, на парадоксе – крайне смелая театральная концепция!
В «Чародейке», как и в «Орлеанской деве», ток идет от света – к тьме, от разудалого беспечального житья – к смерти, прерывающей любовное пламенение. Трагизм музыкальной концепции сводится здесь к яркому противопоставлению душевных переживаний девушки, идущей навстречу любви среди гульбы и веселья, и той же девушки, полюбившей беззаветно, со всей силой страстного отчаяния: вместо роста света, мы ощущаем все большую и большую накипь злобы и ненависти, ревности и зверства вокруг, вместе с ростом печали и скорби в душе, обреченной на смерть Настасьи, ибо смерть опять оказывается сильнее любви.[45]45
Как сразу бросается в глаза контраст двух ариозо Настасьи: в первом акте («Глянуть с Нижнего») и в последнем («Где же ты, мой желанный»). В них смысл направления всего действия.
[Закрыть]
Опера «Черевички» – новая редакция «Кузнеца Вакулы» – в противоположность «Мазепе» являет светлый празднично веселый фон, на котором все проделки беса выступают, как темные пятна, не омрачающие, однако, этой бытовой комедии до ее глубины.
В третьем завершительном периоде творчества Чайковского сумрачность, тоска, нервная судорожность занимают первенствующее положение, так как то светлое, что им противополагается, не в состоянии заглушить таких звучаний, какие возникли в сценах Германа с Графиней, в страшной скачке «Воеводы», в мышиной войне «Щелкунчика» и, наконец, в надрывах шестой симфонии. Свет не исчезает вовсе, но и в «Пиковой даме» и в «Щелкунчике» он какой-то неестественный, искусственный: от рампы, а не от солнышка! В «Иоланте» же, как ни манит смысл сюжета, милая музыка не углубляет, а только овевает процесс влечения к свету.
За точку отправления в музыке столь краткого промежутка времени, протекшего от создания «Пиковой дамы» до шестой симфонии (1890–1893), можно принять, как менее всего драматически напряженную, музыку робкого томления, музыку тихих жалоб Иоланты («Отчего это прежде нс знала» – ее ариозо). Звучит скорбь томящегося в неизведанном мире, все слышащего, но слепого человека, звучит вопрос одинокой души о причинах ее страданий-томлений, как и в романсе «Ночь» («Отчего я люблю тебя»), Иоланта душа Чайковского – «Слепого музыканта». От данной точки в сторону рассвета есть довольно постоянный уклон: таков семейный строй и игрушечно-кукольный мир «Щелкунчика», хотя в самом своем задании балет этот страшен и жуток, предвещая современного «Петрушку». Детские игры – иллюзорный миг наивной радости, и только стихийное наростание звучности в момент превращения Щелкуна ведет нас к вдыханию свежего воздуха. Веет холодом: в лесу идет снег, грустно и томно реют снежные хлопья, магически завораживая своеобразным ритмом своего вальса всякий живой порыв. Своеобразие ритма зиждится здесь на трепетности мелодической линии и на неустойчивом равновесии треходольного метра, когда слух из двутакта делает один такт, и когда пиеса, вложенная в схему трех четвертей в такте, воспринимается, как звучащая в трехполовинном тактовом размере, т. е. вдвое медленнее. Наиболее непосредственно радостные моменты в кукольном «Щелкунчике» – детский марш, русская пляска, пастушки, китайцы, вальс цветов и заключительный вальс. Но наиболее непринужденная веселость разлита в бойком шептании и баловстве тембров и ритмов увертюры,[46]46
Словно группа детей перед запертой дверью, в тревожном нетерпении ожидающих зова на елку.
[Закрыть] а затем в прекрасной стильной звукописи – картине рождественской елки в семье одного из почтенных немецких советников, столь трогательно милых в претворении Гофмана. Но явление Дроссельмейера, его подарки, затем, наступление ночи, бой часов, мышиная возня и, наконец, самая баталия, все это выражено крайне серьезно, все держит наше воображение на грани чудесного и таинственного, тревожа и растравляя его. Ритмы и тембры злой феи Карабосс в «Спящей красавице» пугают и внушают опасение, но далеко не в такой степени, как ночная жуть и оживление кукол в «Щелкунчике». Поэтому, как ни радостен балет этот во многих своих моментах, он не получает в данном периоде творчества того значения, какое имеет для предыдущего периода «Спящая красавица».
Если напомнить четыре стадии – crescendo интенсивности – присутствующие всегда в творчестве Чайковского, форма «Щелкунчика» дает любопытную комбинацию их: предчувствие (покой обреченности), контрасты, наростание напряженности (давление), вызванное ими, и, наконец, раздражение, выявляющееся в ряде приливов и отливов грусти и радости.
Увертюра и почти все первое действие – мираж покоя и волны раздражения. Война – нагнетание скорби, жути (давление). Превращение – рост влечения к свету, сменяемый тихим, покойным созерцанием: падающий снег (изумительный вальс). Второй акт – сюита: ряд красочно-забавных контрастов света и тени, ритмов и темпов, нежной грусти и бешеной радости. Прелестна в своем созерцательно-задумчивом танце Фея-Драже: ее вариация (с челестой) звучит, словно если бы зазвенел серебристый искристый иней.
«Иоланта» по звуковой концепции своей – непрерывный ток к свету, к радости. В этом отношении она полная противоположность «Чародейке». От первого грустного, как нежный цвет весенний, как белая ночь, ариозо – Иоланта приходит к торжественно-радостному возвещению: вижу. Но экстаза радости от познания стихии света в музыке нет. Красивый любовный дуэт и заключительный ансамбль – просто пышные оперные номера.[47]47
Иного и не могло быть: композитор в эту пору в свет не мог и не хотел верить.
[Закрыть] Нет впечатления и вспыхнувшего экстаза и в средней части симф. поэмы «Воевода». Поскольку выразительно все начало поэмы, постольку crescendo страсти и буйные ласки влюбленных растаяли в ряде очень красивых, но бледно выразительных напевных эпизодов. Очевидно воображение Чайковского влекло его в иные сферы, не в сферу радостного ликования или огненных парокисзмов.
Ответ на это дает шестая симфония. В ней четыре момента: первый – яростное противление, сменяемое ласковым напевным мотивом, как бы манящим к себе образом прекрасно-женственным. Самый мотив борений рождается из темной глубины звучаний. Композитор развертывает перед нами крайне любопытную картину как бы заклятия идеи музыкальной, вытаскивания ее из забвения, словно бы человек силится вспомнить какую-то мысль и долго не в состоянии этого сделать. Наконец, мысль – идея вызвана, рождена. То, что она не возникла сразу молниеносно, показывает, что в этот момент жизни Чайковскому надо было вызвать в себе противление, борьбу. Но когда душевная буря разгорелась – она становится мучительно острой и пламенной, доходящей до небывалых у Чайковского по-демов напряжения и буйных взлетов. Memento mori – «Со святыми упокой» промелькнуло мимолетно среди общей порывистости. Изжив себя, гроза затихает, и тогда ласково-нежно возникающий и как бы истаивающий напевный образ проходит перед взорами, словно не раз уже преследовавший воображение композитора лик Джульетты или призрак Ундины. Тишина.
Второй момент. Светлый радостно-приветный ток звучаний в пятидольном ритме привносит забвение тягостных скорбей. Ничто не нарушает идиллии.
Третий момент – пробуждение духов зла: иллюстрация пушкинских «бесов», в метелице рождающихся: их шелест, их стрекотание, их ликующие взлеты, их остро-ритмован-ный маршеобразный натиск! Кажется, все, что мучило и тревожило сознание Чайковского, сошлось здесь в славном содружестве, чтобы в хаотическом кружении, беготне и топоте заглушить песни надежды. В конце концов демоны все испепелили. Осталось в одиночестве скорбящее и страждущее личное сознание: как птица, уже лишенная сил, пытается взлететь, так усталый дух несколько раз всплескивает крыльями звучаний, но каждая попытка заканчивается стоном и истаиванием порыва. Снисходит плавная, завораживающая и убаюкивающая сознание светлая тема. Она не манит и не ласкает, как светлое видение в первой части симфонии, она, снисходя, успокаивает и примиряет.
Если внимательно проследить по обрывочным заметкам эволюцию религиозного сознания Чайковского, о чем он неохотно распространялся и хранил тайну в себе, можно с большой вероятностью догадаться о найденном им примирении. Я отмечу лишь основные вехи на этом пути. В одном из октябрьских писем к И. Ф. Мекк[48]48
ж. ч. п 39.
[Закрыть] в 1877 г. перед нами скептик и рационалист, который никак не может совместить в своем мозгу суть догматических положений с логикой здравого смысла. Вера в будущую жизнь ему также недоступна. Он всецело разделяет пантеистический взгляд на бессмертие. Через месяц (20 ноября 1877 г.) в письме из Вены Чайковский, сомневаясь в устойчивости религиозных убеждений, выработанных вне церкви, неожиданно выдает суть своих собственных исканий: «в том-то и заключается трагизм человека, склонного к скептицизму, что, порвавши связь с традиционными верованиями и ища, чем заменить религию – он тщетно кидается от одной философской теории к другой, мечтая найти в ней ту непобедимую силу в борьбе с жизнью, которою вооружены люди верующие». Устанавливается тезис: верить разумно, примирив все противоречия, возникающие в критическом процессе, есть величайшее счастье, ибо это броня, «против которой совершенно бессильны всякие удары судьбы.»
Поэтому еще тезис: религия есть элемент примирения. В следующем-же письме рационалист уже борется с художником: обожает поэзию религиозных песнопений и церковной службы, хотя вера в догматы утрачена давно. Личного бессмертия понять нельзя, «если есть будущая жизнь, то только разве в смысле неисчезаемости материи и еще в пантеистическом смысле вечности природы, которой я составляю одно из микроскопических явлений.» Далее идет отрицание загробной жизни, вечного блаженства, и вдруг фраза: «я, несмотря на победоносную силу моих убеждений, никогда не помирюсь с мыслью, что моя мать, которую я так любил, и которая была таким прекрасным человеком, исчезла навсегда…» А вывод: «вы видите, мой милый друг, что я весь состою из противоречий». Если бы не музыка-покровитель и утешитель – было бы отчего сойти с ума. Борьбу между победоносными убеждениями и инстинктом веры Чайковский не мыслил только, как рассуждение pro u contra. Для него это насущный жизненный вопрос, и если не решить его, то остается лишь забвение – к музыке.
Это мы и видим во всем уклоне его творчества которое представляется непрерывным самоизживанием, непрестанным преодолеванием инертности материала. Но почему же, все-таки, борьба эта не разрешается в плоскости чистого интеллектуализма, а становится вопросом жизни? Прежде всего, это лежит в свойстве русских интеллигентов – идеалистов: претворять интеллектом выработанное этическое положение в конкретность, в явь, испытывая его ценность на опыте. Лично же для Чайковского здесь дело шло об ответе на вопрос о смысле жизни: куда девается вся сумма совершенного добра, все благо, излучаемое прекрасным человеком, и сам он, как воплощенное благо?
Будучи поставлена так, проблема теряет всю бесплодность спора между довольно наивно построенными убеждениями скептика и инстинктом взрослого ребенка, безумно любящего мать и не могущего поверить в бесследное исчезновение добра. Проблема становится строго этической и раскрывает перед нами нравственную красоту личности Чайковского. В одном из дальнейших писем (от 5 декабря 1877 г.) он и силу воздействия музыки переносит в сферу высшую, чем простое забвение: музыка не обман и не опьянение (как думает Н. Ф. Мекк) – она откровение. Она мирит нас с жизнью. Религию Чайковский считал также элементом примирения. Отсюда ясный вывод – музыка искусство божественное. Круг как будто бы замкнулся: дальнейшего взлета мысли не видно!.[49]49
Но в следующем 1878 году сочинена «Литургия св. Иоанна Златоуста».
[Закрыть]
В 1881 г. в марте умер И. Г. Рубинштейн. Смерть близких всегда вызывала острое потрясение в душе Чайковского. Теперь он опять стоял перед вопросом: куда ушла вся энергия добра, соделанного его умершим другом, и он сам, как личность, воплощавшая своим делом добро. Письмо к Мекк от 16 марта начинается с пространных рассуждений о христианской морали всепрощения. Вдруг Чайковский бросает рассуждения и откровенно признается: «в голове темно – да иначе и быть не может, в виду таких неразрешимых для слабого человека вопросов, как смерть, цель и смысл жизни, бесконечность или конечность ее — но зато в душу мою все больше и больше проникает свет веры. Я чувствую, что начинаю уметь любить Бога, чего прежде я не умел.» И далее: «Мне хочется верить, что есть будущая жизнь. Когда хотение обратится в факт, тогда я буду счастлив, насколько счастье на земле возможно» (Ж. Ч. 11 467). Здесь Чайковский соприкоснулся с религиозной стихией, ибо у него довольно резко отделены рассуждения о морали от подчинения себя воле Бога. В связи с этим религиозным устремлением стоят работы в области церковного песнопения (изучение Обихода, гармонизация Всенощного бдения в 1881 году летом).
В 1884 году, познакомясь с «Исповедью» своего любимца, Льва Толстого, Чайковский вновь подтверждает, что просветление давно пришло к нему, и что он даже не может себе представить, что было бы с ним без веры при его способности «от ничтожного толчка падать духом до стремления к небытию». (Ж. Ч. II 631). Небытие, значит, еще владеет его вниманием, и полной религиозной гармонии нет. Есть только примирение в смысле подчинения своей воли – воле божественной. Что это так, видно из апрельского письма к А. П. Мерклинг, с которой Чайковский был очень дружен: «а еще что нужно, это чтобы не было страха смерти. Вот в этом отношении не могу похвастать. Я не настолько проникнут религией, чтобы в смерти видеть начало новой жизни, и не философ, чтобы помириться с той пучиной небытия, в которую придется погрузиться.» (Ж. Ч. II 641). С осени 1886 года учащаются жалобы на краткость жизни, на усталость, рождается опасение не успеть выполнить всего задуманного. Мысль влечется к человечности образа Христа. В 1887 г. в Ахене, у постели умирающего друга, Н. Д. Кондратьева, Чайковский вновь близко соприкасается со смертью («жизнь проходит, идет к концу» – так ли живу, справедливо ли поступаю?»). В дневник,[50]50
От 21 сентября 1887 г. (Ж. Ч. III 183).
[Закрыть] наряду с очередной жалобой на кратковременность жизни, он заносит: (год тому назад) «я смел сомневаться в Его (т. е. Христа) Божественности. С тех пор моя религия обозначилась гораздо яснее: я много думал о Боге, о жизни и смерти во все это время, и, особенно в Ахене, роковые вопросы: зачем, как, отчего? нередко занимали и тревожно носились передо мною». Является желание «уяснить свои верования и ту границу, где они начинаются вслед за умозрением». Выработался свой «Символ веры».
Очевидно, работа над выработкой миросозерцания и своеобразной теодицеи – оправдания божества – продолжается с упорством, ничем не заглушаемая, почти все время. Но не заглушается и другое: «я буквально не могу жить, не работая, ибо как только кончен какой-нибудь труд, и хочешь предаться отдыху, так вместо отдыха является тоска, хандра, мысли о тщете всего земного, страх за будущее, бесплодное сожаление о невозвратном прошлом, мучительные вопросы о смысле земного существования, одним словом, все то, что отравляет жизнь человеку, не поглощенному трудом и вместе склонному к ипохондрии, и в результате является охота немедленно приняться за новый труд.[51]51
От 2 октября 1888 г. (Ж. Ч. III 275 – 276).
[Закрыть] Как видно, в то время как сознание доходит до стройных выводов, непосредственное ощущение жизни далеко еще от всякого примирения или решения в ту или иную сторону: оно все в стадии преодолевания, как и музыкальное творчество Чайковского. Исцеляющее же воздействие самой музыки при таких состояниях отнюдь не в откровении, а опять в забвении — что знаменует возврат к 1878 году. Религия примирения не дает. К началу 1890 года, к моменту работы над «Пиковой дамой», власть тьмы окончательно расстилается над восприятием жизни у Чайковского. В письме к Глазунову из Флоренции от 30 января звучат страшные слова:
«Я очень нуждаюсь теперь в дружеском сочувствии и в постоянном общении с близкими сердцу людьми. Переживаю очень загадочную стадию на пути к могиле. Что-то такое совершается внутри меня, для меня самого непонятное. Какая-то усталость от жизни, какое-то разочарование: по временам безумная тоска, но не та, в глубине которой предвидение нового прилива любви к жизни, а нечто безнадежное, финальное, и, даже, как это свойственно финалам, – банальное. А вместе с этим охота писать страшная. Чорт знает, что такое! С одной стороны, чувствую, что как будто моя песенка уже спета, а с другой – непреодолимое желание затянуть или все ту же жизнь, или, еще лучше, новую песенку… Впрочем, повторяю, я сам не знаю, что со мной происходит» (Ж. Ч. III 345).
Происходило же, вот что: он получил в руки сюжет, который приманил из глубин его души духов отчаяния и зла. Более подходящей концепции, чем «Пиковая дама», в данный момент для Чайковского нельзя было сыскать. В ней царят: полнейшая арелигиозность – начало без сомнения не чуждое душе композитора; и тезис – смерть сильнее любви, раскрываемый в упорной борьбе взаимно-противоречащих течений: мглы страстей Германа и светлой любви Лизы. Мрачная страшная сила гипноза смертного ужаса веет над развитием действия от начала до конца. Проблема обреченности развертывается во всем своем подавляющем волю значении и влиянии. Здесь исходный пункт завершительного периода творчества Чайковского и центр уклона к душевной смятенности, который определился в Yalse melancolique третьей сюиты через «Манфреда», пятую симфонию, и через «Гамлета», мимо «Спящей красавицы», лишь украдкой подернутой дымкой меланхолии[52]52
Стоит обратить внимание на финал балета!
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.