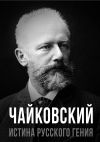Текст книги "Гений музыки Петр Ильич Чайковский. Жизнь и творчество"

Автор книги: Борис Асафьев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Характеристика Антонины Ивановны, данная Чайковским, вполне соответствует стилю ее воспоминаний (это обстоятельство сильно подтверждает их правдивость, хотя и прикрашенную). Облик Петра Ильича, сложившийся в чисто житейском представлении впечатлительной девушки, также вполне совпадает со всеми другими описаниями его характера, душевных свойств и обхождения с людьми. Настойчивое указание Чайковского на то, что он не раскрывал, сам не зная почему, тайны своего жениховства своим консерваторским друзьям, боясь, что они как-то могут помешать,[30]30
«Я был уверен, что если вы об этом узнаете, то все должно кончиться, и мне нельзя будет поступить, как я хочу».
[Закрыть] – получает даже некоторое фактическое разъяснение в словах его вдовы: «нас разлучили посредством постоянного нашептывания Петру Ильичу, что семейная жизнь убьет в нем талант. Сначала он не обращал на эти разговоры никакого внимания; затем понемногу стал вслушиваться все внимательнее и внимательнее… Утратить талант было для него ужаснее всего. Он начал верить наговорам, сделался скучным и мрачным». То обстоятельство, что Чайковский долго ревниво охранял свою супружескую жизнь от посторонних и любопытных взоров, при свете этого заявления получает более понятное объяснение, чем у Кашкина, желающего быть может невольно, доказать психически ненормальное состояние жены Чайковского еще в то время. Решительно никакой ненормальности ни в ее поступках, ни в воспоминаниях нет, наоборот, преданность и любовь с ясным сознанием ценности личности мужа; но тон всего рассказа – легкомысленно наивный и только. Остальные ссылки Кашкина на спокойствие и равнодушие, с каким Антонина Павловна приняла от Ник. Рубинштейна весть о болезни мужа, ничего не доказывают, кроме выдержки ее характера, каковая вполне могла быть перед лицом одного из тех, кого она считала виновником происшедшего.
Полное совпадение между основными внутренними психологическими данными в обоих рассказах как в обстоятельствах, предшествовавших женитьбе (Чайковский знал, что его могут отговорить, и потому, если бы он хотел избежать события и бежать от назойливости «обожательницы», он, прежде всего, в виде самозащиты все огласил бы!), так и после (зная мнительность Чайковского, можно безусловно быть уверенным, что ссылкой на потерю способности сочинять его легко могли смутить), я склонен думать, что данное событие далеко еще не получило своего надлежащего разъяснения, что в рассказе Чайковского – Кашкина несомненно есть умолчания и стилизация в целях художественной правды воспоминаний, как литературной формы, но что со временем решения этого вопроса надо искать не в самих супругах, а где-то возле. Чайковский не мог быть так слеп, чтобы не увидеть интеллектуальной ограниченности и, допустим, даже патологичности своей жены до свадьбы, и мне кажется, что бегство его не есть бегство от жены и от семейной жизни в силу каких-либо сокровенных причин. Совсем наоборот, – вероятно, ему приходилось делать тяжкий выбор: между продолжением супружеской жизни и между мнительностью, вызванной опасением убить свой талант.[31]31
«Намеки» на это могли, конечно, зародиться и в его собственной голове и завладеть его воображением без остатка. Будь жена его женщиной иного склада, дело приняло бы другой оборот.
[Закрыть] Таланта бы он не убил в себе, но при своей честности и душевной добропорядочности долго бы еще мучился, прежде чем решился бы на разрыв. Раз же решившись, он порывал не столько с женой, сколько вообще с Москвой, мешавшей ему жить, как ему хотелось, и, в таком случае, связь супружеская являлась только частью всех остальных связывавших его цепей: служебных, дружеских и прочих. До Чайковского многим было дело уже в то время, и дружеское соболезнование окружающих и родственников легко могло утвердить его в той мысли, в тоне которой написаны воспоминания Кашкина. И в особенности с годами эта мысль о романтической неожиданности письма и всего факта женитьбы, а также о последующем разочаровании – легко могла крепко и навсегда завладеть его вниманием.
Я слишком долго остановился на этом эпизоде по многим причинам. Идея освобождения от всяких препятствовавших творчеству целей завладела вниманием Чайковского. Женитьба, задуманная, может быть, как одно из средств высвобождения, обратилась в лишнее звено цепи. К счастью, обстоятельства сложились так, что, вслед за этим нервным потрясением, Чайковский, благодаря помощи влюбленной в его музыку Надежды Филаретовны Мекк, получил материальную обеспеченность и с ней свободу отдаться творчеству. Творчество всегда было, а теперь и фактически стало для него главным делом, и сильное творческое напряжение явилось главной причиной нервного разряда. Бегство от Москвы нельзя объяснять ни дру-гоненавистничеством, ни женоненавистничеством, ни отчаянием психо-патологического порядка, ибо женитьба по существу была частным случаем и простым эпизодом, который лишь в силу сопряженных с ним психических состояний композитора обратился в стимул разрыва и бегства от приютившей его в момент расцветания его таланта семьи друзей-консерваторцев.
Второй период творчества композитора, до второй половины восьмидесятых годов, представляется гораздо более разряженным в сравнении с первым. Это естественно. И потому, хотя Чайковский получал полную свободу распоряжения своим временем, данная свобода вовсе не послужила к немедленному расцвету творчества: были промежутки совсем не обычного для него полного молчания. Личность его теперь, к сорока годам жизни, уже окончательно сформировалась, т. е. получила некий неизменный основной строй или жизненный тонус. Слава его растет, но с ней растет и недовольство собою. Покоя он не находит и, в конце-концов, опять вступает в хаос жизни, ищет в нем рассеяния, а забвения – только в творчестве. Неуемная тоска гонит его из города в город, из страны в страну в вечной жажде смены впечатлений и в упоении работой до изнеможения, с тем, чтобы, только что закончив одно, обдумывать дальнейшее. Жизнь его полна противоречий: мечтает об опере на сюжет «Ромео и Джульетта», ибо находит там то, что его очаровывает: любовь, любовь и любовь – единую страсть, пронизывающую все, а пишет оперу на исторический сюжет («Орлеанская Дева»), как бы боясь изойти, после «Онегина», в новом лирическом порыве. Тоскует, живя в Каменке, по загранице, а приехав туда, тоскует по России. Желает жить с родными, любит их, а в дневниках, порой, брюжжит на окружающую его жизнь и на себя. В письмах этого периода, как и раньше и как до конца жизни – душевное томление и недовольство. Чем, почему? Можно только догадываться, ибо тайны своей композитор не раскрыл.
Спокойствие духа было ему чуждо. Воспламеняясь сюжетом «Ромео», он пишет: «Первый любовный дуэт будет совсем не то, что второй. В первом все светло, ярко; любовь, не смущаемая ничем. Во втором трагизм. Из детей, беспечно упивающихся любовью, Ромео и Юлия сделались людьми, любящими, страждущими, попавшими в трагическое и безвыходное положение. Как мне хочется приняться за это»! (Ж. Ч. II, 175). Это в достаточной мере показательные слова. Чайковский любил жизнь, ее свет, ее ясность, но тем острее впечатляла его смерть. Зачем всё: рост, трата сил, творчество, любовь, непрерывное достигание, если смерть поглощает рано или поздно все усилия природы и человека? Жалоба – старая, как человек в мире. Но в искусе творческом и в творческом опыте Чайковского она была по-новому, по-инакому, по-своему воплощена, вызвала ряд выдающихся произведений и дала толчок многим замыслам. Стоит, поэтому, попытаться установить основные черты личности Чайковского на средине его жизненного пути.
Путь этот в житейском преломлении довольно прост: или творческая работа, или нескончаемые переезды, конечно, уже не влиявшие так на личность, как основные перемещения в раннем детстве из Воткинска в Петербург и из Петербурга в Москву. Описанию этой стороны жизни со всеми сопровождающими ее наиважнейшими событиями и основными вехами посвящен составленный мною краткий хронограф. Но жизненный путь в душевном смысле – крайне сложен. Здесь важно определить несколько течений, питавших именно то восприятие жизни, какое было у Чайковского, и обусловивших ее строй или, как я сказал, ее жизненный тонус, качественность, напряженность. Строй этот – сплошное противоречие. Противоречие, как данность и как текучесть и непрерывность жизненных процессов. Не раздвоенность, не двуличность, ибо Чайковский очень цельный и ясный человек, но именно противоречие.[32]32
Термин этот, сознаю, не совсем удачен для пояснения таких состояний душевной жизни, когда, при наличии где-то в глубине духа присутствующего, руководящего жизнью и в интуиции себя раскрывающего единства жизненного воления данной личности, – ее отношения ко всем извне идущим впечатлениям и реагирование на них являются сплошным неустоем и чередованием или смесью утверждения и отрицания, приятия и неприятия и т. п.
[Закрыть] Обусловлено оно было, с одной стороны, впечатлительностью и хрупкостью нервной организации Чайковского, ставившей его в чрезвычайно тягостное отношение к миру, благодаря необходимости ежемгновенного приспособления ко всякому явлению; а с другой стороны – вызвано было сильным, непрерывным и напряженным излучением творческой энергии, что невольно в острой форме ставило перед сознанием человека, разумно желавшего осознать и оценить процесс, происходящий в нем самом и всюду в жизни, ряд роковых проблем: о том, зачем уничтожение (смерть), если есть непрерывный рост и созидание? о высшей силе, управляющей миром, и о несправедливости лежавшей в основе ее системы управления? а далее, уже в связи с этической проблемой о несправедливости космического становления, возникала религиозная проблема переоценки христианских догматов (напр., возмездия, вечной жизни) и всего смысла жизни. Чайковский не мыслитель. Поэтому хотя он и ставил в письмах эти вопросы в конкретной форме и давал те или иные пояснения интеллектуального порядка, но решал он их, как художник, в искусе творчества, в преодолении эмоций, и, как истый русский интеллигент, не рассудком только, а всем существом своим мучаясь, терзаясь, ища выхода. Русских, многих, не удовлетворяет и не удовлетворяло разрешение жизнью выдвигаемых проблем в плане интеллектуальном, как преодоление антиномичности мыслью. Оттого и русское творчество, большей частью, пребывает в состоянии непрестанного преодолевания, а не в чередовании преодолений.
Смерть – неизбежный удел всех. Но решение проблемы смерти может быть дано только в интеллектуальном порядке, ибо на опыте никакое подобное решение не приложимо. И все же Толстой бился почти всю жизнь над этой проблемой и, упрямо не желая удовлетвориться только созерцательно-философским ее разрешением воплощал ее в художественном опыте в ряде попыток-подвигов преодоления смерти путем творческого делания, – попыток, приводивших, чаще всего, к анализу, мучительному и острому, гибели личности. То же делает Чайковский, но не в преодолении, а в непрерывном преодолевании. Оттого для него симфония, прежде всего, лирическая форма, оттого и оперы свои он претворяет в лирические поэмы обреченности любящих существ смерти, что для него лично важнее и главнее всего непрестанное познавание и выражение в художественном опыте проблемы взаимоотношения любви и смерти.[33]33
И оттого, прибавлю, он, после «Онегина», уклоняется надолго от симфонии и, ходя вокруг, все-таки, избегает до поры до времени чисто лирических, полных любовной истомы, подобно «Ромео», оперных сюжетов.
[Закрыть]
Поэтому и чисто религиозно-этические вопросы для него связаны с творческим опытом и взаимно-сплетаются, принимая то более эмоциональную, то интеллектуальную окраску, но всегда оставаясь насущно-жизненными вопросами, словно бы и жить нельзя, не вызывая в своих представлениях образа смерти и не преодолевая постоянно все один и тот же искус общения с ней чрез творческое делание. Как же могло в творческом делании осуществляться подобное общение с тем, что по сущности своей есть ничто? Конечно и безусловно – только чрез постоянное воплощение и выражение чувства любви, как наиболее могучей силы, способной противостоять смерти,[34]34
Чайковский и в жизни неустанно жаждет ласки и любви и сам везде и всюду выявляет себя, как источник ласки и любви.
[Закрыть] и чрез столь же постоянное убеждение – оказательство, что смерть в результате всегда оказывается сильнее любви. Отсюда становится понятным целомудрие, как процесс преодоления чувственности в музыке Чайковского, ибо в ней чувственная страсть выдвигается не как самоцель, а как жизнь, несущая энергию, как волевой импульс к росту, к произрастанию.
Но эти два течения, религиозно-этическое и психоэротическое, тесно связаны с проблемой творчества, его осмыслением, как в сфере теоретической, так и в сфере самого делания, т. е. художественного выражения. Теоретического основания в строгом смысле слова Чайковский не ищет. Ему это чуждо при его абсолютно не философском складе ума, но анализ творческого процесса интересует композитора, и он не без некоторого, по видимому, удовольствия излагает свои воззрения на природу, сущность и самое течение творческого процесса и делится соответствующими наблюдениями в письмах к Н. Ф. Мекк (см. Ж. Ч. II) и к С. Танееву (см. Переписку его с Чайковским). В сфере самого делания творческого, а не в умствованиях, мы встречаемся с этой важнейшей из насущных для Чайковского проблем о мастерстве и о полном преодолении материала, проблемы, стоявшей перед ним всю его жизнь, как проблема действенно трагическая, и обусловившей собою многое в его художественных воззрениях и в его психике, и ею в свою очередь обусловленной.
Творческий процесс может быть или непрерывно текущим процессом преодолеваний, т. е. не окончательного овладения материалом, или непрерывным рядом преодолений, когда материал приведен каждый раз в завершенную систему. В музыке для Чайковского богом был Моцарт, в котором он видел идеал художника и музыку которого он безумно обожал. Рядом с Моцартом для него, как идеал, стоял Глинка. Обе оценки – безусловные, и спорить против них трудно. Творчество Чайковского – постоянное устремление к Моцарту и Глинке, постоянное, иногда достигаемое, но никогда не достижимое, ибо и психика, и строй души Чайковского глубоко отличны от художественного credo его богов, и как бы он ни ценил и ни понимал их, сочинять с тем же мастерством, как они, он не мог. Понять этот основной разлад между стремлениями и достижениями, между желанием все преодолеть и между постоянным пребыванием в сфере преодолеваний, когда только что оконченное сочинение кажется наилучшим, а по прошествии небольшого промежутка вызывает к себе чуть-ли не ненависть, – понять это и значит понять музыку Чайковского и его место в эволюции русской музыки. Чайковский, вероятно, жаждал такого мастерства, при котором он мог бы сознавать, что каждое законченное им произведение говорит то, что он хотел им выразить, что оно есть произведение завершенное – своего рода философский трактат – и заключаем в себе, независимо от своей эмоциональной напряженности те объективные данные целостности и единства, которые позволяли бы не только чуствовать, но осознавать и постигать без остатка его жизненный и художественный смысл. Можно предполагать, что подобного рода осуществления он видел в «Евгении Онегине», в «Черевичках» и в «Пиковой Даме».
Принимать или не принимать это, но основной уклон его творческого процесса, несмотря на безусловно наличествующий критицизм (Чайковский сам говорит, как о вторичной стадии процесса сочинения, о строгом осознании и процеживании эскизов), все-таки, – уклон в сторону упорного и непрерывного преодолевания своей же собственной непосредственности. Его упрекали за отсутствие самокритики, что глубоко ошибочно. Чайковский всегда знал, что делал, но он органически не был в состоянии сочинять, как советовал ему Балакирев, т. е. не торопясь кончить во что бы ни стало. Дело не в отсутствии у композитора критицизма, а в самообмане, в уверенности, что в момент творческого процесса с ярко эмоциональным напряжением он слышал в том, как выражал все, что ему хотелось выразить. Простейший пример: зная хорошо пьесу, слыша ее внутри, в своем представлении, можно сыграть ее по ошибочно записанным нотам, не заметив в них ошибок. Когда время проходило, и комплекс эмоций, под воздействием которых возникла та или иная концепция произведения, рассеивался, Чайковский, встав лицом к лицу с записанным фактом, мог легко возненавидеть его, если запись не вызывала в нем того, чем она была вызвана. И, конечно, он не мог работать иначе, ибо, прежде всего, тогда большую часть его произведений постигла бы участь «Воеводы» (и оперы, и поэмы), «Ундины» и Fatum’a, а кроме того, отвыкнув от быстрой непосредственной записи звуковых впечатлений, он не смог бы сохранить все то богатство образов и жизненную насыщенность, наличие тепла и дыхания, что составляет наивысшую ценность его произведений. Но каким бы ни казалось теперь естественным и разумным естество творчества Чайковского, сам он трагически переживал свою неспособность выразить так, как выражаемое мыслилось ему в процессе создавания. Вот часть знаменитого письма Чайковского к Балакиреву, в ответ на присылку сюжета для симфонической поэмы (Манфред), где он искренно, смело, откровенно и честно, без оговорок и уловок, ставит данную проблему во всей ее величественной простоте. Я убежден, что многие русские музыканты переживают то же и, почувствовав вопль Чайковского, они поймут, почему я смотрю на явление Чайковского в нашей культуре, как на явление глубоко трагическое по своей сущности.
…«Несмотря на почтенный возраст[35]35
Письмо написано 12 ноября 1882 года т. е. на 43-м году жизни.
[Закрыть] и значительную опытность в писании, я должен признаться что до сих пор блуждаю по безграничному полю композиторства, тщетно стараясь найти свою настоящую тропинку.[36]36
Здесь раскрывается, как тонко и умно чувствовал Чайковский разницу между формальной опытностью в писании и подлинным выражением.
[Закрыть] Чувствую, что такая тропинка есть, и знаю, что, раз я найду ее, то напишу, что-нибудь в самом деле хорошее, – но какая-то, роковая слепота сбивает меня постоянно с пути, и Бог весть, попаду-ли когда-нибудь, куда мне следует? Вернее, что нет. Я думаю, что первостепенные таланты и гении тем-то и отличаются от подобных мне неудачников, что сразу попадают на свою широкую дорогу и смелыми шагами, без оглядки идут по ней до конца своей деятельности
Изредка мне случалось близко подходить к «тропинке», и тогда выходили вещи, которых до конца жизни не буду стыдиться, которые радуют и поддерживают во мне энергию к работе. Но это случалось редко, и к числу этих немногих исключений я никоим образом не причислю «Франческу» и «Бурю». Обе эти вещи написаны с напускной горячностью, с ложным пафосом, с погоней за чисто внешними эффектами, – и в сущности до крайности холодны, фальшивы и слабы. Недостатки эти происходят оттого, что упомянутые произведения мои вовсе не воспроизводят данного сюжета, а лишь написаны по поводу его, т. е. родство музыки с программой не внутреннее, а случайное, внешнее. Бестолковая суетня оркестра в первой части «Франчески» ни мало не соответствует потрясающей грандиозности картины адского вихря, а приторно изысканные гармонии ее средней части не имеют ничего общего с гениальной простотой и силой текста Данте.[37]37
Пример постижения разницы между приближением к выражению в форме и истинным мастеровом, где все данные элементы материала так преодолены, что к уразумению их смысла можно подходить как к обмеру кристалла: все окажется закономерно истекающим и взаимно-обусловленным этой внутренней закономерностью. Наоборот, то, что создано по поводу или возле чего нибудь, теряет свою самостоятельную внутреннюю закономерность. Если есть закономерность, то в ней, т. е. в ее корне (закон), уже имеется выход ко всеобщности от индивидуальности; а с потерей закономерности, обусловливающей единство выражения, искореняется вся сущность формы, как такого начала, что вызывает перед нами в итоге преодоления материала все выраженное. В данном случае Чайковский глубоко прав: его «Франческа» несравнима с Дантовским стилем выражения
[Закрыть] Еще менее удовлетворительно и недостойно своей программы пестрое попури, носящее название «Бури». Я уж не говорю об увертюре «Ромео», которую Бог знает отчего так же преувеличенно хвалили, как преувеличенно порицали другие мои сочинения. Помню, что, когда я писал ее, то, был очень тронут вашим участием и интересом, весьма старался угодить вам, – но и тогда я болезненно-чутко сознавал полнейшее отсутствие связи между Шекспировским изображением юношеской страсти итальянца Ромео и моими кисло-сладкими стенаниями». (Переписка М. А. Балакирева с П. И. Чайковским, стр. 78–79).
Так высоко подниматься над самим собою – свойственно немногим. Только трагическое сознание может поставить человека на такой пункт, откуда перед ним открылась бы столь увлекательно-заманивающая взор перспектива. Если сравнить содержание этого письма с впечатлением от первой части симфонической поэмы «Манфред», написанной три года спустя, невольно ощущается жуть. В письме, по видимости, поиски стиля, а в звучаниях – поиски той светлой мечты,[38]38
Тема Астарты – мимолетная, дразнящая – знаменует призрачность любви: она уже не имеет тех могучих крыльев, которые возносили музыку «Ромео».
[Закрыть] того идеала, в стремлении к которому почерпала вдохновение мечта композитора: любовных тем, подобных темам «Бури» и «Ромео», теперь уже нет в музыке Чайковского. Вместо взлетов – порывы или ласковое любование (для этого стоит лишь сравнить мелодический рисунок страстных мелодий двух упомянутых поэм и ариозо Ленского с любовными темами «Пиковой Дамы» и даже с темой andante пятой симфонии).
Трагическая перспектива, раскрытая в 1882 году, приводит через ряд опытов к завершительному периоду жизни Чайковского. С третьей сюиты заметно возбуждается и качественно углубляется его симфонизм – напряженность чисто музыкального сознания, слитого в единое созвучие с сознанием испепеляемой временем жизни. «Манфред», пятая симфония, «Гамлет», «Чародейка» – все стремительнее и стремительнее уклон к «Пиковой Даме» (1890), где со страшной интенсивностью вновь вызвана любовная страсть и остро противопоставлена властному дыханию смерти.
Как композитор, Чайковский к этому времени уже достиг полного признания и в России, и в Европе. Живя все свободное от разъездов время в усадьбах, около Клина, он в сущности достиг своего жизненного идеала: полный хозяин своего времени, он идет к людям, в мир, или зовет их к себе, когда сам хочет. Но в то же время свободно-давае-мые обязательства (участие в делах консерватории, турнэ, присутствие на концертах, постановки опер, наконец, колоссальная корреспонденция и корректуры) отнимают у досуга для творчества гораздо больше часов и дней, чем это было в первый московский период. Чайковский начинает все более и более дорожить своим «Клинским эрмитажем», но жизнь упорно втягивает его в свои сети и даже в тиски. Так до самой неожиданной смерти.
Но никакое благополучие видимое не заглушало в сознании Чайковского звучания трагических концепций о собственной «тропинке» (т. е. искания правды выражения или соответствия выражаемого выражению), о смысле поглощения всякого творчества небытием (смерть сильнее любви), и о противоречии между принятием Бога, как подателя благ, и жестокостью отмщения.[39]39
Т. е. по существу искания синтеза между верой и божественной справедливостью, ибо рассудком Чайковский постигал лишь чудовищную несправедливость космического становления, что приводило к разрушению веры в добро, как высшее начало, управляющее жизнью.
[Закрыть] Последнее преломление трагического постижения жизни Чайковским с трудом поддается точному выражению и еще меньше того анализу (скрытность), а между тем в его переживаниях, поскольку можно об этом догадываться, именно данная религиозная проблема, будучи тесно связана с остальными, занимала крайне важное и «влиятельное» положение. Решить ее – было жизненным вопросом для Чайковского. Скептик и рационалист (опять противоречие, и на этот раз с его же собственным художественным инстинктом), Чайковский терялся в сомнениях, сохраняя между тем в душе жажду живой могучей веры, которая только одна, как он это чувствовал, могла спасти его, т. е. вернуть к единству нескончаемую данность противоречий и сочетать их в высшем, лишь верой постигаемом синтезе. Вера же могла и утишить ужас перед сознанием неотвратимости смерти.
Совершилось ли это: тут остаются лишь догадки. Но они тесно стоят в связи с предпоследним произведением Чайковского – шестой симфонией, которой суждено было стать одним из сильнейших – вследствие интенсивности творческой энергии в нее вложенной – проводников предсмертной борьбы сознания композитора за правду выражения, за победу любви, обращенной в ласковое сочувствие и сострадание, над смертью и, может быть, за главенство веры над справедливостью. Попытку раскрыть, произошло ли примирение или объединение в высшем синтезе всех жизненных противоречий, я делаю уже в связи с мыслями о шестой симфонии, как творческой данности, в конце следующей главы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.