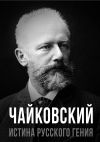Текст книги "Гений музыки Петр Ильич Чайковский. Жизнь и творчество"

Автор книги: Борис Асафьев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
Другая тайна – его борьба с коренящейся в нем арелигиозностью и зовами нигилизма. Правда, он, как художник или по воспоминаниям детства, любит обряды, любит церковную службу, особенно всенощную в деревне среди простой и милой его сердцу русской природы (см. письмо П. И. Ч. к Мекк. – Ж. Ч., II), но чувство умиления еще не есть религия. Богословские дискуссии его с г-жей Мекк тоже в достаточной степени рассудочны. Лишенный дара веры в воскресение, любя природу, стремясь почерпнуть в ней чувство непосредственного касания жизни, он все же в творческую силу жизни, во всепобеждающую мощь ее не верит. Но это не есть неверие ученого материалиста, не есть и атеизм. Чайковский – скептик и скептик жестокий по отношению к самому себе: чуждаясь отвлеченностей, рационалистически настроенный к догматам религии, он реально и конкретно ощущает только одно – казалось бы, самое нереальное начало – смерть. Не веря в жизнь, он хочет тем не менее знать содержание смерти – смысл темного ничто. И в этом отношении он жестоко последователен: не останавливаясь на том, что смерти обречено все весеннее, все расцветающее в жизни – любовь, Чайковский идет дальше: Марию в «Мазепе» он заставляет петь колыбельную над трупом любившего ее человека (смерть не властна над сумасшедшей!); в «Чародейке» высшее напряжение любовной страсти он сопрягает с кровавым пиром смерти, – в «Пиковой Даме» он доводит Германа до видения самой смерти, чарами музыки сплетая Лизу, Германа и Старуху в погибельный круг переживаний. Так звукописать смерть, как это делал Чайковский, может только человек, безумно страшившийся ее. Чтобы так ее знать, надо денно и нощно, всегда и постоянно ощущать ее возле себя, как тень, как неотъемлемую спутницу, уметь заклинать ее и слышать ее шаги. Но для такого самовнушения надо не верить в жизнь, в победу сознания, в торжество света. И Чайковский вызывает, порой, в своей музыке странные образы: вместо свойственной ему мелодической ясности, родятся звучания, возникшие из тембровых контрастов, которые стучат, шуршат, шелестят, забавно поваркивают, гримасничают, пестрят и снуют, как будто бы исчезая, но вдруг застонут, завоют, закружатся, как Пушкинские бесы в диком смятенном хороводе…
Эти безличные образы-звучания, конечно, не могли зародиться под влиянием Москвы с ее наивно-психологическими и, порой, грубо эмоциональными контрастами. Мир Гоголевских петербургских повестей, кошмарная явь видений Достоевского – магия призрачного Петербурга – воскресает в душе Чайковского. Ближе и ближе завлекает его к себе фантастический город. И никто, повторяю еще и еще, кроме Чайковского не звукописал с такой убедительной силой выражения «безжизненную жизнь» – томление белых ночей, т. е. тех странных моментов, когда многолюдный пышный город как бы повисает между бытием и небытием, между днем и ночью, между жизнью и смертью. Город превращается как бы в застывшее звучание: нет камня, ибо все «прозрачнеет», нет тяжести, ибо все теряет вес и лишь пребывает, как музыка, в состоянии неустойчивого равновесия: в томлении.
Если Москва внесла в музыку Чайковского яркие и грубые контрасты и, порой, касание чисто великорусских песенных интонаций, – состояния наглого разгула, но и ясный светлый уют созерцаний (andante cantabile), то, все-таки, основное, существенное, что звучит в его музыке, идет от Петербурга, от его томительного «без солнца», от безлазурности зимнего застывания, от робкой улыбки нежных весенних зорь, от туманной мглы осенних дней, от напряжения злого холодного ветра и от призрачности летних ночей. Все богатство лирики: от томных вздыханий до трагического вопля («Корольки»), от пышного полонеза до жуткого вальса падающих снежинок, от суетливого весеннего гама и шума до таинственно-сосредоточенного безмолвия белой ночи или до безпощадного молчания мертвеца (момент смерти «Пиковой Дамы»), Магия Петербурга звучит во всех эмоциональных состояниях музыки Чайковского, в ее колорите blanc et noir, в ее напряженной динамике и свето-тени. Поколение за поколением, жители Петербурга наполняют призрачный город миллионами жизней, чтобы, в угоду воле Петра, мир видел перед собой живой населенный город, но если кто один на один сталкивается с холодной бесстрастной гранитной скалой или со стеклянным застывшим взором белой ночи, – ужасу подвластно тогда его сердце. Не заполнить ему в такой страшный миг своей жизненной трепетностью жизненную пустоту вокруг.[20]20
Сам Пушкин – великий жизнелюбец – не мог ее заполнить.
[Закрыть] И звучит вопль: «мне страшно!…» или: «смерть, я не хочу тебя!» – вот откуда рождается музыка Чайковского, музыка отчаянной борьбы за жизнь, в которую здесь не верят, музыка покорной примиренности со смертью, в которой ищут смысла жизни.
Я сказал: примиренности. Думается, что иначе немыслимо объяснить не только последнюю часть шестой симфонии, но многие излюбленные гармонические и мелодические ходы в музыке Чайковского, главным образом в заключениях мыслей, когда, например, сверху постепенно ниспадают аккорды, а снизу, им навстречу, от выдержанного в басу тона (органный пункт) также постепенно движется in contrario контрапунктирующий верхнему голос. Это ли не покорное примирение с судьбой: подъем без надежды взлететь, если целый слой звучаний, как гробовая крышка, сверху спускаясь вниз, мягко интонирует свое veto?
Музыкально-творческий облик Чайковского весь перед нами: к ясности, нежной и хрупкой, очень немногих звучаний движется угрожающая тень, которая всегда поглощает ясность; тоска и скорбь овладевают душой – в контраст им звучат бойкие ритмы плясовых песен, в поисках забвения в разгуле; навстречу смерти выступает стихия любви – смерть всегда ее поглощает, если только любовь не истаивает сама в бесплодном томлении; страх и жуть овладевают душой: трепетно бьется сердце в сознании тщеты своих стремлений: не заполнить жизнью беспредельной холодной пустоты. Вопль: «мне страшно!», а в самый момент смерти вдруг снисходит примирение, покорное и светлое – как будто бы замыкается круг, и все приводится опять к робким светло-грустным ясным звучаниям, которых так немного в творчестве Чайковского, но которые хочется считать за некоторую нравственную точку опоры среди скорби, страха, ужаса и отчаяния.
Переходя теперь к дальнейшему описанию линии жизни Петра Ильича или синтеза жизненного пути, им свершенного, я подчеркиваю настоятельно, что вся жизнь его представляется более или менее понятною только в том случае, если считаться с основными факторами его психической жизни: впечатлительностью и до хрупкости нежной чувствительностью. Идя от них, надо всем сердцем ощутить весь ужас перемены судьбы для мальчика столь остро нервной организации, перемены, которая выразилась в неизбежном расставании с родными и в ужасном ощущении одиночества, усугубленного страшным веянием призрака смерти.
К 1877 году творческое напряжение Чайковского достигает высших степеней выразительности. Он уже одновременно создает четвертую симфонию и оперу «Евгений Онегин» – два пути лирического восторга, два течения борящейся за утверждение себя воли. И в душе его также возникают с еще большей остротой два стремления, параллельно существующие. То выплывает одно, то другое. Одно – освободиться от всяких житейских, сковывающих волю, связей, чтобы жить только для творчества. Другое – непобедимая жажда любви, ласки, близости близкого человека, дорогого существа, всецело его понимающего. Я думаю, что Чайковский конкретно сам не представлял себе жизнь с таким существом: оно должно было бы быть как бы ангелом-хранителем, без своей личной жизни, но в то же время оно не мыслилось, как какой-то бесплотный дух. Надо знать, что, по рассказам многих лиц, Чайковский был совершенно наивный в житейской практике человек. Пройдя стадию совместной жизни с Николаем Рубинштейном, он поселился – в чаянии желанной свободы – один, на попечении слуги. Видя, что свобода, все-таки, не дается, что он скован Москвой, он и жаждет полной воли, и одновременно наивно считает возможным бросить постылую холостецкую жизнь и завоевать себе домашний уют, т. е. жениться, найти устойчивый очаг и жить, как все, или, вернее, как большинство. Он, конечно, не отдавал себе отчета в том, что беспокойство, всегда им ощущаемое, имеет корни в его же собственной душе, что никакая свобода не освободит его от сознания вечной неудовлетворенности, и что – это главное – потребность в одиночестве есть органическая потребность его натуры; в одиночестве не в смысле того, чтобы быть одному, но в смысле неслиянности с интересами другого существа. Какое-то идеальное равновесие или созвучие душ при полном невмешательстве в чужой внутренний мир (т. е. главным образом, конечно, в мир его – Чайковского). Такая мечта, конечно, могла лишь уродски осуществиться, но Чайковский все же должен был пройти стадию женитьбы, чтобы житейски ощутить этот факт. Вытекшая из настойчивой потребности в дружеской ласке и из житейской потребности стать, как все люди, женитьба Чайковского отнюдь не должна быть рассматриваема, как важнейший и существеннейший факт данного периода его жизни. По моему глубокому убеждению, это факт совершенно случайный. Он мог и не быть, а нервное расстройство, к которому будто-бы привела женитьба, все равно случилось бы, как оно и ранее бывало и позже случалось с Чайковским.
Два положения важно помнить при подходе к такому сложному психическому явлению, как жизнь Чайковского.
Одно – то, что он, прежде всего, творец-композитор, одаренный неизбывным стремлением и неутолимой жаждой фиксировать в звуке преходящие состояния сознания. Это первое и главное. При высшей же степени душевной впечатлительности и абсолютном отсутствии чутья к постижению практических житейских отношений, это первое и главное должно было всецело доминировать над всеми поступками Чайковского, и, во-первых, окрашивать его жизнь в тона идеализма, а для людей – в факты чудачества и блажи; во-вторых, это же свойство, будучи главным и основным, претворяло все и решительно все его житейские отношения в сплошную цепь приспособлений к жизни и к людям. Конечно, отсюда ряд нескончаемых недоразумений, поддерживаемых отчасти самим Чайковским, отчасти его братом Модестом – его биографом. Неделимое, совершенно понятное в своей парадоксальной цельности, красивое, трагически напряженное постижение жизни было представлено в свете какого-то раздвоения или двойничества. Теория «двух Петей»; одного – наедине с самим собой– правдивого и искреннего, другого же, с людьми, лукавого и притворного – должна быть бесповоротно отброшена.
Чайковский не был ненавистником людей. Против его человеконенавистничества говорит, прежде всего, его застенчиво-ласковая, добрая, снисходительная к людским слабостям натура. Он боялся обидеть человека, потому что по себе, по своему чувствительному сердцу знал, как тяжело отзывается иногда случайно и легкомысленно сказанное слово. Поэтому естественно, что в тех случаях, когда дело шло об ущербе его личном или для его произведения, он не в силах был выступать против виновника. Но как только дело шло о том, чтобы вступиться за несправедливо обвиненную общественной молвой личность или о том, чтобы отстоять интерес музыки, как искусства, Чайковский, решительно ни с чем не считаясь, вступал в бой. Об этом свидетельствуют его письма и газетные выступления в защиту Балакирева, Римского-Корсакова, Ник. Рубинштейна, Направника, в защиту русской музыки и русской музыкальной культуры от лжи, распространяемой некоторыми русскими рецензентами и заграничными аферистами и т. д. Но при всем том, в отношении себя самого он всегда сохранял высшую степень скромности, а по отношению к своим сочинениям – в нем жила та же скромность, но вытекающая из гордого сознания ценности творческого дара. Живя в Риме, близ Листа, Чайковский решительно не в состоянии был итти к нему на поклон. Больших мук стоили ему разговоры с парижскими издателями. Не будучи в состоянии сдержать данное Римскому-Корсакову обещание попытаться устроить в Париже концерт из сочинений русских композиторов, Чайковский несказанно волнуется этим обстоятельством, отравляющим ему жизнь. Он пишет Римскому-Корсакову трогательное своею беспомощностью и наполненное извинениями, с подробным изложением всевозможных причин неудачи, письмо (из Лондона 8 марта 1888 года).
Кроме того, отношения к близким родным, друзьям, собратьям по искусству, к Московской консерватории, к случайным знакомым и даже к деревенским мальчишкам в Клину – все это свидетельствует о доброте, ласке и готовности помочь. Никакого раздвоения личности нет в том, когда Чайковский, боясь обидеть, благодарил за исполнение, его не удовлетворившее, или когда в жажде одиночества чуждался людей и упорно избегал нежелательных встреч. Когда дело касалось существа жизненных отношений и принципов, им отстаиваемых, или крепко вкоренившихся в нем убеждений, или даже просто непосредственной оценки в кругу музыкантов тех или иных фактов или произведений, – Чайковский искренне и непреложно выражал свое мнение, совершенно не считаясь с тем, к чему это может повести, и не скрывая своих вкусов и симпатий. Об этом свидетельствуют письма Мусоргского к Стасову, отношения Чайковского к Балакиреву и Римскому-Корсакову и переписка с ними, письма к Глазунову, споры-письма к С. Танееву, случай с отвергнутым Ник. Рубинштейном первым фортепианным концертом, и т. д. Достоинство русской музыки и свое, как русского композитора, было для Чайковского – заповедным и непреложным фактом. Основные, трудом и опытом выработанные взгляды на творческий процесс и метод сочинения были областью, куда он не допускал постороннего глаза и где он не уступал ни шагу, делясь обменом мнений лишь с И. Ф. Мекк и, главным образом, с С. И. Танеевым, человеком наиболее близким ему из музыкантов, хотя и встречал с его стороны скорее преданность и любовь, чем проникновенное понимание. Как только Чайковский начинал ощущать насилие – в смысле назойливого вмешательства в тайники его душевной жизни и в процесс его творчества – он или замыкался, или резко прекращал сношения. Переписка с Балакиревым – тому пример. Конечно, Чайковский не мог не любить и не уважать прямодушие, честность и суровую последовательность натуры Балакирева. Но властолюбие и некоторая психическая недальновидность и топорность последнего ему претила. Для Балакирева в процессе творческом многое из того, что для Чайковского было сущностью, представлялось лишь вопросом формального или чисто вкусового порядка. Как непреложный «вкусовед», Балакирев предписывал не только желанные ему схемы сочинения, но и тональности. Вытерпев это насилие при создании увертюры «Ромео», Чайковский уклонился от сношений с «учителем» во время работы над «Манфредом», а по окончании последнего уже прямо послал ему завершенную партитуру. Также, несмотря на упреки, Чайковский не уступал Балакиреву в кардинальном вопросе о методе сочинения: опосредствованном – в итоге длительного обдумывания и исключения материала – или непосредственном, при овладении материалом сразу, в процессе вытягивания плывущих из глубины сознания мыслей и непрерывного их записывания. Балакирев не понимал, что последнее свойство было для Чайковского не случайной причудой и не вредной привычкой, а органической потребностью, и что иначе сочинять он не мог. Наоборот, Чайковский с трогательной благодарностью и внимательностью относился к религиозным убеждениям Балакирева и сердечно внимал его беседам в этом направлении. Тут, невидимому, Балакирев угадал, чем мучился Чайковский, и чего ему не хватало: понятно, что писать об этом было трудно, и собеседования двух великих русских людей, касающиеся, быть может, крайне существенных пунктов их взглядов, остались тайной.[21]21
См. письма от 30 и 31 октября Чайковского и Балакирева в их переписке стр. 81 и 83–85. (Переписка М. А. Балакирева с П. И. Чайковским – под ред. С. М. Ляпунова).
[Закрыть]
В отношениях и переписке Чайковского со Стасовым (см. «Русская Мысль» 1908) также нет никакого двоедушия, кроме неослабного наблюдения за тем, как бы сохранить самостоятельность своей личности от ретивых, порой, настояний и требований увлекающегося своей ролью толкача пылкого собеседника. По рассказам Анатолия Константиновича Лядова, горячо любившего Петра Ильича, последний был обаятельным, добродушным и ласковым человеком, интересным в отстаивании своих убеждений мастером и душевно прекрасной личностью. По воспоминаниям близко знавшей Чайковского талантливой артистки А. В. Панаевой-Карцевой, Петр Ильич был человеком в высшей степени нервным, чувствительным (до сентиментальности, даже до слезливости, – в особенности при восприятии любимой музыки), глубоко впечатлительным и потому, порой, излишне подозрительным – отчего и избегал иногда нежелательных ему знакомств.
По видимому, ему нелегко было приспособляться ко всякому новому лицу или новым житейским отношениям. Но раз он начинал привыкать и приручался – тогда доверию его не было пределов. Ни о каком злобном отношении к людям мрачного мизантропа не могло быть и речи. Личность Чайковского омрачили его биографы. Не мог бы распространять вокруг себя сплошное обаяние насквозь фальшивый человек, который бы при людях корчил из себя их содруга, а за пазухой держал бы камень. Характеристика, данная А. И. Зилоти идет по тому же пути: Чайковский – милый, добрейший человек, ласковый и скромный. Только, когда дело касалось его достоинства, как композитора, или его интимных убеждений музыканта, он с несвойственной ему твердостью и резкостью ставил ряд определенных тезисов. Точно так же формулировал свое впечатление от личности Чайковского покойный Н. Д. Кашкин, причем добавлял, что никому, даже Ларошу, не проходило даром его слишком назойливое вмешательство в строй музыкального «я» Чайковского. Свидетельства людей, различных по характеру, по положению, по вкусам, в итоге сводятся к тому же.[22]22
Мне случилось расспрашивать о Чайковском, кроме только-что упомянутых лиц, еще доктора А. Л. Зандера, хорошо его знавшего и бывшего при нем во время предсмертной болезни и кончины, В. Э. Направника, И. В. Тартакова, В. В. Стасова, Р. Е. Дриго и др.
[Закрыть] В личных сношениях с людьми Чайковскому претило сознание, что, при своей житейской неприспособленнности, он не мог быстро и тотчас схватывать данное положение вещей и постигать свойства тех или иных личностей, в особенности, когда он испытывал натиск на себя.
Глубоко правдивая и прямая душевная природа его остро реагировала на все те случаи, когда ему приходилось из за чисто внешних условий в различного рода мелочах житейской политики или кривить душой, или, из нежелания обидеть человека, не высказать ему горькой истины, или же самому позорно сознать всю свою неумелость и непоследовательность в отношении устройства всяческих людских дел. Конечно, никакого двоедушия здесь нет, а есть просто нервная впечатлительность, влекущая человека от одного противоречия к другому. Но противоречие – не двоедушие и не двойничество.
Когда Чайковский почему-либо приспособлялся к человеку, доверию его не было конца. Все отношения к Мекк – тому свидетельство. Самая частая и наиболее содержательная корреспонденция велась Чайковским с ней. Ей он пытался поверять самое сокровенное. Но понимания с ее стороны не было[23]23
Если судить по письмам П. И. Чайковского, обнародованным М. И. Чайковским в биографии брата. Быть может, их переписка в полном своем виде, т. е. и с ответными письмами Н. ф. Мекк к Чайковскому, если только она когда либо будет доступна исследованию, вскроет многое, неведомое теперь, я лично думаю, что, внеся свет в некоторые факты, эта переписка не углубит степени понимания И. Ф. Мекк творчества и душевной сущности личности Чайковского.
[Закрыть] Настолько не было, что если внимательно следить за тем, как доверчиво Чайковский ставит тот или иной дорогой для него тезис на обсуждение и как потом, встретив, по видимому, ответ невпопад, он умно и осторожно замыкается и прячется; как несмело, боясь, что не встретит сочувствия у дорогого человека, он вносит в письма выражение своих симпатий и, наоборот, как упорно возвращается он к какой-либо теме, убеждая свою корреспондентку, когда ему хотелось бы, чтобы она была одного с ним мнения (напр., письма о Моцарте, о Пушкине, об опере и т. п., т. е. о явлениях, глубины и ценности которых Мекк не постигала), – иногда становится даже досадно за его доверчивость, за то, что он, – при своей нравственной стойкости и житейской корректности – желая избежать малейшего упрека в неблагодарности, как глухой, словно не слышит столь частой несостоятельности ответов. Чайковский непрестанно убеждает Н. Ф. Мекк, а главное себя самого, в том, что у них полное взаимопонимание и отсутствие расхождений. Читая его письма теперь, почти понять нельзя, в чем и на чем собеседники сошлись!
В музыке – общего только сочинения Чайковского. Моцарта Мекк не любит, оперы не любит, а Чайковский не очень любит камерную музыку. Мекк не понимает, решительно не понимает и не слышит поэзии, а в особенности поэзии Пушкина. Она не любит и не ощущает интимной прелести русской природы. Не чувствует поэзии религии, будучи ярой рационалисткой, но в то же время неспособна интеллектуально постигать музыку. Она для нее источник раздражения, наслаждения и любопытства. Вероятно, что отчасти прихотливый каприз, отчасти любопытство, а сверх всего эмоциональное воздействие на нее музыки Чайковского и привели ее к мысли облагодетельствовать его и своеобразно приручить. Я нисколько не сомневаюсь в том, что самый акт выдачи ежегодного пенсиона был с ее стороны актом непосредственного дружелюбия, вне какой бы то ни было специфической заинтересованности, но психические внутренние корни или побуждения к этому поступку покоились не на всецело глубоко-сердечном или бескорыстном, интеллектуально-продуманном основании. Сама того не подозревая, Мекк могла осуществлять лишь свой каприз.[24]24
Я совсем не склонен умиляться даже пред ее оригинальным требованием никогда не встречаться, обращенном к Чайковскому.
[Закрыть] Иначе, т.-е. если бы ее поступок был вызван высшей человечностью, она не разошлась бы так внезапно с Чайковским, так грубо и пошло придравшись к случаю, уступив, как будто, каким-то гнусным наветам или суеверным страхам (в лучшем случае) и не желая ничего больше знать о человеке, который, был ей дорог по побуждениям этического порядка, как даровитейший композитор.
Возвращаюсь к тяжелому для Чайковского 1877 году. Необходимо уяснить себе, сколь велико в нем было творческое напряжение в течение десятилетнего пребывания в Москве, ибо творчество музыкальное, на взгляд профанов столь быстро осуществляемое, на самом деле требует колоссальной затраты сил от организма.
В десять лет Чайковский создал ряд выдающихся произведений, напоенных эмоционально насыщенным током и свидетельствующих о непрестанном росте его музыкального сознания. Если присоединить сюда деятельность преподавательскую и непрестанные волнения, связанные с вполне естественным стремлением завоевать себе имя и положение, то понятным станет, что нужна была сильная воля, дисциплина духа и крепкий организм, чтобы выдержать столь усиленную, почти сплошь текущую затрату энергии. Организм Чайковского был как бы аккумулятором. В нем до какого-то предела скоплялся заряд жизненных ощущений и впечатлений. Потом следовал внезапный разряд – нервный-ли припадок, мимолетный и быстро бесследно исчезавший, или же длительное острое нервное расстройство. Обычно все это совпадало с тягостными событиями и испытаниями, порой, чисто житейского порядка, но могло и не совпадать, а отзываться как бы на расстоянии. Раз совпав с запутанными отношениями, разряд нервной энергии вызывал необходимость в ином направлении жизни и работы и в перемене обстановки. Так было в первый год жизни мальчика-Чайковского в Петербурге, когда связанные с отъездом из Воткинска и со вступлением в новый круг жизненных отношений перемены потребовали от хрупкого, чувствительного организма ряда сложных приспособлений и усиленной работы воображения, впечатления от которой скапливались и, наконец, вызвали нервное потрясение.[25]25
Так было, как я упоминал, еще и в Воткинске, в связи с первыми музыкальными впечатлениями, так было и потом не раз в жизни Петра Ильича.
[Закрыть] Результат таких разрядов был всегда благодетелен для здоровья, и, таким образом, сама природа, помимо воли обладателя этим чудным организмом, регулировала правильность жизнеповедения, и в моменты высокого давления как бы сам собой во-время открывался клапан парового котла, чтобы выпустить скопившиеся пары.
Повторяю, описывая биографию музыканта, надо прежде всего исходить от представления о самом явлении музыкального творчества и понять какую невероятную сумму усилий требует от человека музыка и до того, как он станет композитором, и когда или после того, как он уже стал таковым. И вот, с такой точки зрения, главное в 1877 году в биографии Чайковского не его женитьба – совершенно случайное событие, вызвавшее нервную реакцию и ускорившее очередной, но крайне сильный разряд – а высший предел творческого напряжения: параллельное создавание четвертой симфонии и «Евгения Онегина» после десятилетней непрерывной устремленности творческого делания. Женитьба оказалась крайне ценным психологическим стимулом к острому нервному припадку. Припадок, как всякий разряд, оказался чрезвычайно благодетельным и для физиологии и для психики Чайковского событием, выздоровление пошло чрезвычайно скоро. Заболев 24 сентября, Чайковский уже 25 октября пишет Мекк из Кларана о том, что принимается за работу над симфонией, а вскоре занялся и оперой, как будто бы ни в чем не бывало, и как будто ничего и не произошло. Произведения эти после припадка не стали же для него ненавистными! Даже, кажется, наоборот. Значит, разряд был только средством для здорового организма избавиться от скопившейся нервной энергии. После него все пошло, как было. Но, кроме того, разряд помог Чайковскому совершить резко и бесповоротно то, на что он вряд ли бы скоро решился: порвать и со служебными и с житейскими отношениями, в тину которых он пуще всего опасался погрузиться и, вероятно, все-таки, чувствовал, что погружается. С этой точки зрения женитьба была безусловно опасным, для него шагом, и потому-то, женясь, он в то же время, вовсе не из ненависти к жене и не по каким-либо аморальным причинам, а из сознания ошибочности шага помышлял о самоубийстве, ходя на Москву-реку осенью и опускаясь в нее по-пояс с целью смертельно заболеть. Как же велико, значит, было нервное возбуждение этого человека, если подобные прогулки не привели его и в самом деле к смертному исходу!
Итак, главное в этом периоде: maximum творческого напряжения и слишком высокое давление его на мозг, в итоге сплошного десятилетнего фиксирования в звуковых образах преходящих данных сознания. Затем, важный факт разряда или молнийного удара, приведший к разряжению и очищению атмосферы: к оздоровлению организма и спокойному завершению двух сложных концепций. Кроме этого, значительный, конечно, но, все-таки, случайный стимул, ускоривший взрыв: женитьба.
В том, что это был акт случайно осуществленный, хотя, быть может, судя по письмам, давно задуманный (как некий очередной якорь спасения в неумелом плавании по житейскому морю), доказывается тем, что он нисколько не повлиял на мечты Чайковского о некоем идеальном женском существе, сопутствующем в жизни. Как это было до женитьбы, так осталось и после. До — влюбления и ухаживания и в бытность правоведом и в бытность чиновником. В Москве то же и, сверх того, даже серьезная мысль о женитьбе на артистке итальянской оперы Арто. Дальше опять мечты. А в 1882 г., т. е. уже через пять лет после неудачного, казалось бы, опыта, Чайковский пишет брату Анатолию Ильичу в ответ на сообщение его о сватовстве и помолвке следующие знаменательные строки:…«Есть известного рода потребность в ласке и уходе, которую может удовлетворить только женщина. На меня находит иногда сумасшедшее желание быть обласканным женской рукой. Иногда я вижу симпатичные женские лица, к которым так и хочется положить голову на колени и целовать руки их. Впрочем, мне трудно это выразить. Когда ты совершенно успокоишься, т. е. уже после свадьбы, прочти «Анну Каренину», которую я недавно в первый раз прочитал с восторгом, доходящим до фанатизма (sic). То, что ты теперь испытываешь, там превосходно выражено по поводу женитьбы Левина». (Рим, 7 февраля 1882 года. Ж. Ч., II, 519).
На основании рассказа самого Чайковского, процесс его женитьбы и дальнейший ход всего кризиса можно понять так.[26]26
См. Сборник: Прошлое русской музыки. Из воспоминаний о П. И. Чайковском Н. Д. Кашкина.
[Закрыть]
Весной 1877 г., увлеченный мыслью об опере «Евгений Онегин», Чайковский получил письмо, содержащее объяснение в любви. Оно было от бывшей ученицы Московской Консерватории А. И. Милюковой. Прошло некоторое время, в течение которого Чайковский всецело погрузился в творчество; пришло второе письмо с угрозой покончить с собой. «В моей голове все это соединилось с представлением о Татьяне, а я сам, казалось мне, поступал несравненно хуже Онегина и я искренно возмущался на себя за свое бессердечное отношение к полюбившей меня девушке».
Чайковский свиделся с Милюковой.[27]27
По рассказу Чайковского в передаче Кашкина выходит, что Чайковский как будто бы не знал Милюковой и даже справлялся о ней у одного из преподавателей консерватории. А в письме к Н. Ф. Мекк от 3 июля 1877 года, т. е. почти перед свадьбой, он пишет: «я получил однажды письмо от одной девушки, которую знал и встречал прежде«. (Ж. Ч. II. 20). Это вполне совпадает с воспоминаниями самой Милюковой (см. дальше).
[Закрыть] Тронутый ее преданностью, он был окончательно смущен. Всего хуже было то, что им овладели смутные колебания и беспокойство, мешавшие сочинять. Вероятно, сознавая, что делает ложный шаг, Чайковский, все-таки, пошел к Милюковой и заявил ей, что любви к ней не чувствует и не почувствует, но что если, несмотря на это, она пожелает выйти за него, он готов жениться. Все это он, из желания поступить по-своему, упорно держал в тайне от всех друзей своих.[28]28
Эта скрытность то же крайне характерна. Чайковский знал, что его отговорят, но, все-таки, настолько хотел совершить акт освобождения от жизни холостяка среди «музыкантского компанейства», что решил итти напролом (он знал, какого рода доводами его убедят!), но потайно, причем был, по видимому, очень доволен, когда чуткий и душевный человек, священник Разумовский, одобрил его решение. Шаг подготовлялся давно. Случай помог ему совершиться. Как видно из всего, окружающие Чайковского друзья, крайне милые люди, но по грубости своей психической сущности – в сравнении с чуткостью и обостренностью душевного мира Чайковского – они, вероятно, решительно не понимали, чем он недоволен в жизни и отчего «блажит».
[Закрыть] Май и июнь, в виду отъезда невесты, Чайковский, почти не вспоминая о совершившемся, с увлечением сочинял «Евгения Онегина» в подмосковном имении своего друга Шиловского (Глебово). Невеста вернулась, известила Чайковского, он приехал в Москву, и 6 июля их повенчал свящ. Д. В. Разумовский.
«С первых же дней нашей совместной жизни я с ужасом убедился, что между нами нет никаких общих интересов, и что Антонине Ивановне абсолютно чуждо все, чем и для чего я жил… она лишена была способности найти в своей душе отклик на что-либо, кроме самых обыденных потребностей жизни». На лето Чайковский уехал к сестре в Каменку, где работал и собирался с силами. Осенью, вернувшись в Москву, он нашел уже новую квартиру, устроенную его женой с помощью одного из друзей Чайковского, Альбрехта. Невозможность совместного существования двух абсолютно чужих друг другу людей сказалась вновь. Обвиняя во всем себя, Чайковский пришел к мысли о самоубийстве и однажды, гуляя, поздно вечером «пошел на пустынный берег Москвы-реки» и, «никем в темноте невидимый, вошел в воду почти по-пояс и оставался так долго, как только мог выдержать ломоту в теле от холода». Опыт прошел бесследно. Чувствуя себя накануне психического заболевания, Чайковский, по телеграмме, присланной по его-же собственной просьбе из Петербурга, выехал туда. По совету психиатра, один из братьев Чайковского вскоре увез его заграницу[29]29
Тут какое-то недоразумение: по Кашкину, со слов Чайковского выходит, что с ним заграницу поехал Модест Ильич, а по словам Модеста Ильича (Ж. Ч. II 30) больного увез Анатолий Ильич, и не прямо в Италию, а в Швейцарию.
[Закрыть].
Что Чайковский при данных обстоятельствах, поглощенный образом Татьяны, именно так мог жениться, как бы то ни казалось невероятным, – в этом я не сомневаюсь; и развязка должна была быть таковой. Но в то же время и некоторая сочиненность, – конечно, невольная, – рассказа дает о себе знать, ибо рассказ этот – представление о событии, сложившееся post factum и потому несколько стилизованное, точно так же, как несомненно идиллической повестью является воспоминание о жизни с Чайковским, изложенное его вдовой в 1893 году, а напечатанное несколько лет тому назад (см. Русская Музыкальная Газета, 1913 г., № 42). Сравнение показывает, по видимости, не сходство, но несомненный параллелизм впечатлений: точно об одном и том же событии говорят разные люди, с разных сторон его наблюдавшие. Но важно вот что: что в воспоминаниях Антонины Ивановны, несмотря на болтливость, преобладают непосредственность и искренность, которых не сочинить, и что в существе своем описание роли Чайковского, его к ней отношений и даже упоминаемые фразы его воссоздают вполне живой облик. Самое же главное – это утверждение вдовы, что Чайковский знал ее раньше, что переписка, возникшая между ними, была все более и более непринужденной, так что факт наглого и неожиданного появления «незнакомки» этим опровергается, и что супружеская жизнь их почти налаживалась. Много метких чисто житейских подробностей, вспоминаемых ею, заставляют верить ее словам, ибо такие подробности трудно выдумать, и гораздо проще считать их происхождение вполне психологически вероятным, т. е. как яркие следы впечатлений жизни с мужем, отпечатавшиеся в ее памяти. Что же получается в итоге?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.