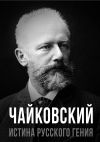Текст книги "Гений музыки Петр Ильич Чайковский. Жизнь и творчество"

Автор книги: Борис Асафьев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
II. Творчество, как выражение
Творчество музыкальное не есть только механическое воспроизведение ощущений, процессов, через которые психика человека вступает в непосредственное общение с внешним миром. Не есть оно и механическое воплощение преходящих состояний нашего сознания. Личность живет и так или иначе реагирует на все совершающееся вокруг и в ней самой. Музыка звучит, как постоянная реакция на жизнь, но, конечно, реакция не в смысле сознательного перевода пережитого на язык музыки, а в смысле бессознательной ассимиляции личностью всего пережитого и воплощения своего жизненного становления в музыкальном выражении. Данное мною определение творчества композитора, как выявления – сквозь призму звучащего в его сознании музыкального материала – тревожного порядка окружающего мира или же своего собственного душевного мира, несколько усложняется введением образа реагирующей на жизнь личности, но зато исключает психико-механический характер данного процесса. Большая или меньшая степень этой личной окраски, т. е. особого качественного призвука, вызывающего представление о данном композиторе, а не о каком-либо другом, сообщает произведениям различные оттенки субъективизма.
В стиле Чайковского с этим свойством, конечно, приходится очень и очень считаться. Анимизм его, т. е. внедрение своей личности, своей Психеи во все преходящие явления мира видимого и невидимого, доходит, порой, до полного забвения о необходимости стилизации языка персонажей какой-либо лирической драмы и о преобразовании своей личности на душевный лад данного лица. Это, конечно, ничто иное, как сильно повышенная степень чувствительности. Здесь мы подходим с другой стороны, но все к тому же основному свойству характера Чайковского, свойству, из которого происходят почти все важнейшие последствия, создающие возможность разумного вникания в его творчество.
Чувствительность лежала в натуре Чайковского, как было уже утверждено, с детства. Конечно, из этого свойства не следует делать напрашивающегося вывода и переводить чувствительность, как сентиментальность. Ничего подобного житейской сентиментальности в творчестве у Чайковского нет. Он слишком прост, естественен и непосредственно выразителен, чтобы сентиментальничать. Кроме того, нельзя же упускать из виду, что сентиментальничали люди в знак душевного утомления, усталости, причем сентиментализм всегда означает не столько простоту чувства и непосредственность подхода, сколько желание быть простым и непосредственным. Опечаленный пастушок и грустный пастух две вещи несовместные. Чайковскому не для чего было бы притворствовать, не для чего было бы носиться со своей скорбью. Он искренно грустил, потому что не мог не грустить. Порой, даже издевался сам над собой по поводу своего же хныкания. Насколько Чайковский был в своей грусти непосредственно прост, чуток и целомудрен, отнюдь не выставляя ее на показ, доказывается характеристикой Прилепы и Миловзора в интермедии «Пиковой Дамы». Вот где, казалось бы, он мог приложить со всем старанием сентиментально-слащавую музыку. Вместо этого звучит прекрасный, светлый, ясно-лазурный, нежный любовный дуэт. Также «Пастушки» в «Щелкунчике». Грусть его, как стиль, – простодушно-русская грусть. Лиза в «Пиковой Даме», в сцене у Зимней канавки, есть Лиза, русская душевная девушка, беззаветно полюбившая, пока она, по детски пригорюнясь, покорно причитает: «ах, истомилась я горем». Бывает, что в эту грусть, пронизанную отраженным светом белых ночей, привходит, порой, многое извне от музыкальных стилей, не достаточно ассимилированных композитором и вносящих элемент велеречия и романтической напыщенной позы. Но это случается не так уж часто, а, случившись, бывает так претворено личным tonos’ом Чайковского, что с большим трудом лишь можно заставить себя упрекать автора в чуждом его складу влиянии. Один из таких примеров – ариозо Наташи в «Опричнике» («Почудились мне, будто, голоса!»). Поэтому, при анализе произведений я буду итти не от внешне стилистических данных, а от некоей психическо-качественной данности, безусловно не определяемой формально, но, конечно, вполне ощутимой всеми, кто чувствует музыку, особенно же музыку, свойственную стремлениям Чайковского. В исследовании о природе и сущности его творчества без этой качественной данности обойтись нельзя. За некую среднюю величину, от которой идет творческое напряжение в противоположных направлениях, я возьму то спокойное душевное состояние, когда созерцание композитора выявлено в нежных волнистых очертаниях мелодических линий, в плавно чередующихся, неволнуемых резкими контрастами гармониях и в ритмах, не вздрагивающих от частых перебоев. Это всем знакомые настроения тихой грусти, покорной и безбурной, или грустной ясности, столь свойственные музыке Чайковского. В разные периоды его жизни такие настроения принимали личные оттенки, но основная окраска оставалась та же: минорный лад в его мягких тональных преломлениях, современный мелодический минор и, изредка, уклон в колорит древних ладов. В до-онегинскую пору творчества Чайковского лиризм, свойственный его музыке, выявляется очень часто в плавной текучести и в спокойной ясности мелоса, и это – как в интимнолирическом камерном строе, так и в произведениях большого размаха. Если итти от первых opus’oB, можно проследить довольно последовательно данное явление, причем очень нередко бывает, что оно составляет сущность выражения и заполняет все сочинение, не нуждаясь в резких контрастах (это особенно в ноктюрне F-dur ор. 10 № 1), но колеблется между все большим прояснением колорита или его отуманиванием, облачностью – легкой и прозрачной. В первом случае, как, например, в знаменитом andante B-dur из первого квартета – проявление наияснейшего душевного покоя, пребывания в чистом созерцании. Умиротворенность тихого летнего вечера; нежные сумерки; ласково и задушевно вытканная песня, красиво и в мягких очертаниях веющая, с тем, чтобы растаять, исчезнуть вдали, уступая место дивно-подготовляющемуся ощущению тишины и призрачного света. Во втором случае – легкая и прозрачная облачность, грустная туманность навевают зрительный образ ниспадающего в мерном ритме снега, мягко слетающего в тихую-тихую погоду на необъятном пространстве, в неслышном движении, на грудь пассивно-отдающейся зиме природы, – таково настроение скерцо первой симфонии. В интимно-лирических камерных сочинениях раннего периода спокойная, меланхоличная ясность почти доминирует; но и не только в них, а, например, даже в театральной музыке к «Снегурочке» Островского, где яснеют и пленительно томная «Жалоба Купавы» – наличие тончайшей кружевной ткани в творчестве Чайковского, – и весенняя светлая пастораль (антракт перед первым действием), и ласковая струя любовного навета (Снегурочка и Весна). То же в романсах: «Слеза дрожит» и «Не верь, мой друг» – убедительная просьба поверить в то, что все вокруг грустнохорошо. Конечно, это не наивный оптимизм, а примиренность после тяжелого искуса. Мы знаем, каковы были испытания и искусы в жизни Чайковского задолго до 1869 года, когда появились эти романсы.
К ним примыкает обаятельнейший по своей простоте и по теплоте и искренности выражения романс: «О, спой же ту песню, родная» (ор. 16 № 4) и еще: Колыбельная песня («Спи, дитя мое» – ор. 16 № 1), «Не отходи от меня» (ор. 27 № 3), «Он так меня любил» (ор. 28 № 4). В потрясающе выразительном романсе: «Ни слова, о друг мой» – тихая, грустная ясность достигается в итоге раскрытия напряженнейшей душевной боли, и мольба – быть спокойнее, безучастнее – тем острее звучит в своей безыскусственно простой, трогательной интонации.
В фортепианных пиесах – то же выражение: грустная тишь дубравы; застывшая недвижная гладь неведомого озера; ясная кротость участливого, но давно примирившегося с жизнью взора; спокойная грусть вечерней зари; робкая мольба беззащитной души. Так звучат: первая часть пиесы «Развалины замка» (e-moll, ор. 2 № 1), Nocturne cis-moll (op. 14 № 4), «Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи», «Баркаролла», – из серии «Времена года».
В произведениях большого охвата нередко можно встретить интимность таких же настроений: andante первой симфонии – светло-печальная песнь, уныло звенящая в морозной застылой дали, песнь одиночества, скорбное сознание беспомощности. Только-только перевести это спокойное состояние в сдержанный порыв страсти – зазвучит остро надрывная жалоба на невыносимую душевную скорбь (второй акт оперы «Кузнец Вакула», ариозо). В нем с удивительным чутьем использована патетическая, обычно в бурных взлетах выявляемая тональность do-минор (c-moll), как почти недвижный холодный фон, на котором плачет мелодия виолончели; упорно, как бой равнодушных часов, и безстрастно интонирует свои выдержанные мерные гармонические тоны валторна; и, наконец, после прислушивания к голосу скорби начинает свою разливно расстилающуюся песнь-тоску кузнец. Но здесь уже переход за грань чисто лирических пейзажей.
В пределах же этой грани остаются: первая часть богатой мелосом (как, впрочем, и вся данная опера) арии Оксаны «цвела яблонька в садочке», ночной морозный воздух оркестровой прелюдии к первому действию и холодный As-dur антракта к первой картине третьего действия – перед жутким, как причитание по умершем, хором русалок. Тихая русская печаль веет и в русской пляске придворных барышень, где так чутко схвачен музыкально-психологический колорит Екатерининской эпохи, в недрах которой шла напряженная борьба претворения чисто песенного склада в напевно-инструментальный. Впрочем, кому же, как не восприемнику придворного петербурского песенноромансного стиля, великому мастеру этого стиля и завершителю, подобало именно так совершенно претворять его? И лучший пример совершенства – в той же опере: прекрасный бархатный As-dur’ный менуэт!..
Любопытно, что в предшествующей «Кузнецу Вакуле» опере, в «Опричнике», почти совсем нет – за исключением песни «Соловушко» и трагического в своей примиренности с тягостной участью хора «Времена настали злые», а также некоторых незначительных моментов, – психических состояний, которые ощущались бы, как точки относительного покоя душевного или замирения.
Иное дело в симфониях и симфонических поэмах: прежде всего, исповедь Франчески, затем andante второй, а особенно элегическое «тишайшее» andante «сюитной» третьей симфонии и канцона четвертой создают, то в сосредоточенном созерцании, то в зыбкой нити хрупких образов-воспоминаний, ласковое чувство постоянности уюта и покоя: словно лампада теплится в детской – в чистом взоре композитора, привечающего жизнь, несмотря на всю ее тягостность и суровость.
Приветный голос, приветная интонация, приветная песенность, обычно свойственные музыке Чайковского, еще усиливаются там, где отходит он от намеченной нами «золотой средины», от относительной ровности напряжения тока психических состояний сознания, свойственной ему, как некая точка опоры, в сторону большей ясности, улыбчатости и света. В дальнейшей эволюции его творчества крайний предел улыбчатости и приветности вмещается в балете «Спящая Красавица». Здесь же, в первом периоде расцвета, наибольшая ясность сосредоточена в уже упомянутом andante из первого квартета, в замечательном романсе-идиллии «Вечер» (ор. 27 № 4), затем еще светлее – в примечательном моменте рассвета в опере «Евгений Онегин» («пастух играет – спокойно все»). Полный-же свет, огненно-страстный: лирика Миранды и Фердинанда в «Буре». Этот последний пример тем драгоценнее, что в нем мы имеем ток crescendo от робкой тихости к всплеску и взлетам страстного торжества. Почти то же задание – в увертюре «Ромео и Джульетта», но в трагическом преломлении. Светло, юно, радостно первое ариозо идеалиста Ленского («я люблю вас»), где, пожалуй, впервые, не в письмах и не в описании, а в живой данности прозвучало «люблю» русского студента-юноши, звучание, запечатленное беззаветной верой в девичью чистоту и в святость начала женственного: выражение в музыке того, что очаровывает в лирике слов писем Герцена к Наташе, в любовных письмах Белинского и в диалогах влюбленных у Тургенева.
Совсем иной уклон света и радости, впрочем, чисто русский уклон – в пиесах, выражающих светлое и радостное состояние не любовного порядка: тут лестница от наивно-простодушного веселья (радостный охват жизни) к задору, дальше к загулу, к разгулу и – все искристее, но грубее – к взрывам наглости, пьяного угара и безудержного срыва. Финал оперы «Кузнец Вакула» (Черевички) – прежде всего. А если итти постепенно, то: «На тройке» и «Масляница» из «Времен года»; Humoresque (ор. 10 № 2); Scherzo a la Russe; финалы первого концерта для ф.-п., первого квартета, третьей симфонии, второй, четвертой и, наконец, первой симфонии.[40]40
Кто хорошо помнит бытовой уклад и угарный чад русской «улицы» в день великих праздников и в столицах, и в провинции еще в 80 и 90-х годах и даже почти до войны 1914 – тому понятно будет, где восприняты ритмы, краски и динамика этих двух последних финалов.
[Закрыть] Сюда же относятся: характерно суетливый, вертящийся мелодический рисунок ритм мазурок Чайковского («Евгений Онегин» и «Лебединое озеро»), «нелепо-придурковатые» пляски скоморохов в «Снегурочке», изумительно острая ритмически и колористически пляска запорожцев в «Вакуле» (она же в «Черевичках»),
Вообще танцевальные ритмы в музыке Чайковского, и особенно его вальсы, заслуживают крайне внимательного и вдумчивого отношения к себе, так как ритмы танцев в каждую данную эпоху и в каждом преломлении имеют свою особенную психическую ценность, как своего рода заклинания, массовый гипноз. Чайковский любил часто пользоваться формулой вальса и претворял ее с изумительной гибкостью, легкостью и остроумием, насыщая различнейшим «содержанием». В первом периоде его творчества, конечно, вальс из «Онегина» является классически ясным и стройным выражением интимной «домашнести», переданной в вальсовой оболочке: легковейное опьянение в монотонном вращении. Менее интересны виртоузные фортепианные вальсы (ор. 4 и ор. 7), но зато прекрасен в своей чисто-немецкой старомодности и забавно-томной уютности ритм медленного вальса «alia tedesca» в третьей симфонии. Характерные для Чайковского перебои вальсового метра, путем частого превращения трехдольного размера в двухдольный, чем достигается замена двух тактов по три четверти одним в три половины (т. е. увеличение метрической формулы вальса), встречаются уже в первых вальсах.[41]41
Этот же прием хорошо применен в Scherzo humorestique (op. 19 № 2), где за четырьмя тактами в три восьмых следуют два – по три четверти т. е. синкопы с фигурацией шестнадцатыми нотами, сгруппированными по четыре.
[Закрыть] По настроению: в вальсах до-онегинского периода (и включая, конечно, онегинский вальс) преобладает свет, ясность, чего уже нельзя будет сказать про вальсы следующего периода.
Как на яркий контраст радости величаво-покойной, празднично-осиянной, приветливо-раздольной и радости разгульной, бесшабашно-циничной, необходимо указать на рождественские славления – колядки из «Кузнеца Вакулы» («Черевичек») и на буйный хор опричников («славен-славен») из оперы «Опричник».
Если же итти от принятой точки покоя, и почти пассивности, в сторону теневую, в crescendo скорби, надорванности, сумрачности, мрака и отчаяния, в напряженность стона, в сферу душевного смятения – мы встретимся с не менее сложной гаммой эмоций и, соответственно с этим, с крайне разнообразными стилистическими заданиями. Как намек на то, что в любой момент возможен срыв от причудливого реяния роя забавляющихся призрачных духов к заклятию злых сил, вздымающих бурю в душе, выступают образы-звучания Ариеля и Калибана в «Буре». Последний – совершенно своеобразная данность в творчестве Чайковского (быть может, отчасти от Мендельсоновских видений) и своими терпкими выпадами, искривленно-судорожной линией рисунка, ужимками и прыжками сатира наводит на мысль о склонности композитора, наряду с его постоянной приветливостью и доброжелательством, к злой издевке, внезапно в нем вспыхивавшей под влиянием нервно возбужденного состояния.
Очень резко изменчивую, прерывистую сферу звучаний являет собою увертюра «Ромео и Джульетта» с ее нервно судорожными срывами, затаенной напряженностью страсти, с характерно пульсирующими «передышками» (в разработке, в синкопах, отображении «русланистых» аккордов – словно запыхавшийся человек не может отдышаться, готовясь к новому натиску), а в итоге – с трагическим уклоном в сумеречность и в настойчивую вязкость погребального колорита, в ужас несомненности сознавания, что смерть сильнее любви. В меньшем охвате, но не с меньшим напряжением разрешает ту же проблему один из замечательных романсов Чайковского: «Корольки» (не романс даже, а драматическая пьеса). И в нем срыв за срывом, резкие контрасты и молитва, и разбой, и устремленность, и покорная застылость. Думается, что не в противоречивости-ли и постоянной «срывности» натуры композитора, как некоей неустойчивой данности, следует также видеть истоки пристрастия его к сюитным формам,[42]42
В этом отношении поучительно вникнуть у Чайковского в разработку русского пляса посредством варьирования одного напева: в «Черевичках» – гопак чорта и Солохи, в «Пиковой Даме» – русская пляска Полины с подругами; того же порядка финал второй симфонии и, отчасти, финал серенады для струнных инструментов и «Danse baroque» во второй сюите.
[Закрыть] дающим простор выявлению подобных психических состояний? И не здесь-ли таится причина своеобразных особенностей языка его вариационного стиля с характерными изломами линий, острыми уколами выдержанных нот, синкопами, нервными фигурациями и настойчивой сменой света и тени.[43]43
Так, он сам в 1884 году пишет С. Танееву: «Отчего Вы не соблазняетесь моим примером и не пишете сюиты? Уверяю Вас, что это идеальнейшая форма» (П. Ч. и Т 118).
[Закрыть]
Наивысшую степень скорбной напряженности до-онегинского данного периода творчества, напряженности мучительно-вдумчивой и нервно-спазматической я вижу не во «Франческе», а в потрясающе выразительном andante третьего квартета es-moll, написанного под впечатлением смерти друга (скрипача Лауба).
Это полный контраст светлому andante первого квартета. Здесь бьется и трепещет истерзанная душа человека перед неотвязчивым вопросом: почему любовь, творчество, мысль, – все дорогое человеческое, – поглощается смертью? Безнадежность и отчаяние от беспросветности, разлитые в этом andante, гораздо острее и выразительнее выявлены, чем в шестой симфонии. Поскольку можно догадываться, к концу жизни Чайковский, если не нашел полного религиозного примирения со «справедливостью» космического становления, то все же ощутил возможность такового. Но в данный период жизни он еще всецело был во власти рационалистических обоснований обязательности провала в ничто и, конечно, не мог сочетать бурно пенящуюся в душе волну творческих порывов с задевавшими его впечатлительность смертями близких людей. В предсмертной арии Ленского выражена скорбь того же истока, но в тонах нежного увядания: словно бы в обреченности всего весеннего на мимолетное преходящее существование, или в сознании неизбежности осеннего умирания и подчиненности судьбе композитор находил временное забвение. Оно и звучит: в отповеди Татьяны Онегину, в andante второго квартета. Но гораздо чаще, если звучание не есть бесстрастная покорность canzonett’bi четвертой симфонии, оно щемит и гложет («Осенняя песня» из «Времен года»), волнует и беспокоит, мучит и тревожит («Нет, только тот, кто знал», «Страшная минута», Serenade melancolique), страшит и пугает трепетно скользящими призрачными тенями (скерцо третьей симфонии) и, наконец, разряжается в мучительном напряжении, стонах, беспокойстве и в постоянном неуемном стремлении куда-то в безотчетное «вперед», в упорном изживании себя, в неудержимо несущемся полете творческого воображения, лишь мимолетно застывающего в сладких грезах. Такова первая часть четвертой симфонии, где мысль порывно бьется под суровым воздействием окриков судьбы – причем, судьба эта, конечно, не древне-греческий рок, а все то, что мешает быть самим собой, и все то, что в русской суетливо семенящей на одном месте жизни препятствует даровитому человеку ощутить под собой твердую почву.
Подчеркиваю опять и настойчиво, что теория «двух Петей» или раздвоения личности Чайковского – неверна, больше, она – ложна. Его психика – ряд сплошных противоречий, ток контрастов. Они – эти контрасты и противоречия – его данность, его status: он сам не знал, где и когда в нем говорит и действует настоящее и безусловное его я, как не знал, где ему приятнее и спокойнее всего жить. Когда он освободил себя ото всяких «московских» пут, он, все-таки, ощутил, что еще не совсем свободен и не имел иного покоя, кроме как в творческом самосгорании.
Симфоническая поэма-фантазия «Франческа да Римини» – ужас состояния в беспокойстве, в мраке, в отчаянии, в безнадежности. От мрака – к мраку. Внутри поэмы развертывается как раз та формула творческого становления, какую я избрал в качестве наиудобнейшей для рассмотрения лучистого разветвления творческой данности каждого из периодов: в жалобе или исповеди Франчески мы можем ясно наблюдать, как от тихой меланхолической ясности (как некоего простого, естественного состояния) ток музыки струится ко все большему просветлению, потом опять затеняется, становится мрачнее, беспокойнее, судорожнее, пока «любовная песнь» совсем не заволакивается непроглядными тучами стенаний и скорби. Laschiate ogni speranze… А за два года перед тем написаны были светлые страницы «Кузнеца Вакулы», где мелодическая струя музыки, как свежий родник, преодолевала вязкость сумрачной гармонической ткани и вытекала на свет, на солнце, превращаясь в полноводную реку звучаний на вольном просторе звенящих «колядок» и «свадебных славлений» финала.
Но синтезом творческого периода, предшествовавшего освобождению Чайковского от сковывающих жизнь обязательств, надо, все таки, признать оперу или, вернее, лирическую поэму, инсценированную, т. е. явленную в видимых образах: «Евгений Онегин» (еще вернее и точнее «Татьяна Ларина»), В ней сосредоточено и как бы приведено к единому знаменателю все волновавшее музыку Чайковского в течение юного композиторского искуса, в эпоху развертывания сил в различнейших направлениях, среди душевной неустойчивости, но в мощном жизненном порыве.
В эволюции творчества Чайковского нельзя разглядеть привычной схемы, прикладываемой к биографиям композиторов: период опытов и подражания, период расцвета (средний) и период перелома или в сторону дальнейшего углубления, или в старчество. Средины яркой у Чайковского нет, ибо как раз средний период не является расцветом, а скорее разложением достигнутого – использованием его в смысле большей яркости, – четкости и пышности. Чувствуется усталость или, вернее, передышка, есть «пустые» месяцы, и даже целый год вне творчества. Потом опять можно наблюдать, как постепенно усиливается и напрягается ток, как начинает развертываться творческая энергия, как среди процесса композиции, ощущаемого как единственная цель, как насущное дело, растут достижения, причем растут они среди жизненной суматохи и житейской деловой связанности, почти не уступающей обязательствам первого «московского» периода и даже требующей больших жертв и большого отдавания и времени, и сил, и воли.
В свободной же от дел «средине» жизненного пути творчество заметно слабеет, что, конечно, неудивительно, если принять во внимание громадность и разнородность свершений, достигнутых в немного более чем десять лет (считая с появления Чайковского в Москве в 1866 г. до разрыва с женой осенью 1877 года). И в особенности, если учесть maximum творческого напряжения, позволившего сочетать в течение одного и того же промежутка времени два различнейших замысла: четвертую симфонию и оперу «Евгений Онегин» (раньше подобного рода концепции разделялись достаточным, хотя и малым сравнительно промежутком: «Вакула» и «Франческа», второй квартет и третья симфония).
В течение 1877 года в творческом напряжении Чайковского произошло психологически чрезвычайно любопытное скрещение, слияние противоречивых и разнородных течений-контрастов. Это могло случиться лишь с человеком, жившим эмоциональной жизнью колоссальнейшего напряжения. Потому что, если мы и знаем, что в нашей личности в каждый данный момент сочетаны, быть может, неисчислимые сплетения борющихся ощущений, но вызвать-то их в сознании, познать их, т. е. представить себе их и различить их, мы можем лишь во временной последовательности. Довести творческую эволюцию до такого состояния, до какого ее довел в своем волевом упорстве в то время Чайковский – значило довести свой организм до наивысшей ступени работоспособности: в итоге, как разряд, является сильнейшее нервное потрясение. Я повторяю уже ранее сказанное ради того, чтобы опять указать, что наличие противоречивых состояний сознания, быстро чередующихся во времени или даже сосуществующих, не есть еще раздвоение. Чайковский мог быть равно искренен в своем благодушии с людьми, как и злиться на себя и на них, когда оставался один перед каким либо творческим заданием, когда ему, в спешной потребности сочинения, все предшествовавшие этому моменту дела и сношения с людьми казались зрящим, никчемным времяпрепровождением. На самом-же деле без людей он жить не мог.
Точно так же и в творчестве. Создавая одновременно и четвертую симфонию, и «Онегина», Чайковский непосредственно и искренно воплощал свое противоречивое я и там, и тут: два различнейших жизнеполагания и состояния психических, в непосредственном соприкосновении им ощущаемых.
Четвертая симфония – проекция в дальнюю даль жизни композитора (зато он до 1888 г. не мог сочинять симфоний). Считая симфонию наиболее лирической из музыкальных форм, видя в ней отображение жизни, он естественно находил в симфонических концепциях живое выражение волновавших его психических состояний. Сущность четвертой симфонии – развернутое на протяжении четырех частей постепенное удаление от я, от собственной личности, от переживания своих душевных состояний. Это своеобразное decrescendo эмоциональности. В душе Чайковский жаждал уйти от общения с миром – таково было его основное затаенное желание, – а в творчестве поступал наоборот, стремясь уйти от самого себя. Так же поступил он и в жизни – женясь, желая, но неожиданно для самого себя.
Уход от себя самого или развертывание в собственной личной жизни последней части четвертой симфонии, осуществляется позднее, с течением времени, со второй половины 80-х годов, когда Чайковский решился на концертные выступления. Но тотчас-же возбуждается и устремление, нервное и порывистое, к творчеству все более и более интенсивному, – а эта «порывность» была развернута с достаточной убедительностью в первой части 4-й симфонии. Неудивительно, что пятая симфония – через десять лет – продолжает ту же идею, что заключалась в четвертой, но осуществить ее, т. е. уйти от своей собственной самости, Чайковскому уже не удается. Повторяю, четвертая симфония– проекция вдаль. Наоборот, «Евгений Онегин» – произведение, замыкающее период, ставящее точку, и потому следующая опера («Орлеанская дева») с ним ничего общего уже не имеет. В воплощении внутреннего мира Тани Лариной и – сквозь призму ее мировосприятия – окружающего ее быта, Чайковский выявил великий свой дар претворять жизненные ощущения в напевный строй, в котором разлиты точки различной силы напряжения, но объединены своеобразным постижением жизни, как излучения любви, ласки, сочувствия, сострадания. Это воспоминание о «боткинской идиллии». И как только существо, излучающее ток любви, встречает препятствие или отпор, оно не возмущается, не борется, а замыкается в горьком одиночестве, в тихой печали, в непротивлении. Такова Татьяна.
Во вступлении к опере мы уже слышим ее «тихость», уступчивость. От этой точки идет разгорание любовного порыва. Вершина подъема – конец сцены письма и в высшей степени драматическое сопоставление смятенного состояния девушки со спокойствием пробуждающейся природы. С момента встречи с Онегиным в саду начинается снижение радостной лучистости, приводящее от скорбного недоумения к сознанию обреченности и непротивления окружающей жизни (не року, конечно!).
В целом же эта опера, как я уже указывал, содержит светлый строй излучений звучащих состояний сознания различных степеней напряжения и настроений: от спокойного сентиментального уюта первого дуэта к светлому хору крестьян, хору девушек в саду, к радостной суматохе деревенского бала и, наконец, уже к блестящему воплощению придворного быта в великолепном полонезе. И от этого же дуэта – к элегическим фразам Татьяны, к наивному простодушию няни, к идиллии Ольги и Ленского, к трепетной нервности целомудреннейшей сцены письма. А потом, начиная с ариозо Ленского «В вашем доме», все светлое клонится к ущербу, к закату, к увяданию, к осенней обреченности.
Первый период творчества, прерванный припадком, замыкается, после выздоровления, с окончанием оперы и симфонии, только что рассмотренных. Чайковский стал независимым человеком, свободно распоряжающимся своим временем. Он живет то заграницей (меняя шумный, дающий словно бы какое наркотическое средство забвения от душевной «неуспокоенности», Париж на бездушную Швейцарию или на милую Италию], то в России: в имениях его своенравной невидимой феи-благодетельницы, И. Ф. Мекк или в любезной его сердцу Каменке, среди родных и близких людей. Постепенно растет его слава и известность, и вновь, мало-по-малу, он расстается с своей незанятостью, вступая опять в мир, как деятель и как исполнитель. Духовная жизнь Чайковского в течение этого – тоже приблизительно десятилетнего – периода (периода сосредоточения сил) идет в направлении осознания своего мировоззрения и разрешения мучащих его душевный строй насущных жизненных вопросов. Конечно, как всегда у русского мечтателя: о боге, о смерти. Работа эта идет, как я уже говорил, почти потайно, но все же о ней, как и о процессах музыкального творчества (о них, конечно, чаще и больше), Чайковский беседует в письмах с Н. Ф. Мекк и С. И. Танеевым (интереснейшая из изданных переписок Чайковского) с большой охотой и откровенностью, очевидно сам желая и стремясь многое осознать в своих собственных ощущениях художника.
Период этот, благодаря таковой настроенности ума, получает характер как бы созерцательного раздумья над миром, над людьми и над собой, хотя струя чистого творчества не перестает звенеть, только несколько глуше и не столь напряженно. Вырабатываются приемы мастерства – некий шаблон. В то же время возникают часто своеобразные задания почти исключительно колористического порядка и вышеупомянутое мною стремление к сюитности. Последнее совмещает в себе чисто колористический подход с душевной потребностью в острых постоянных чередованиях контрастов: три сюиты написаны в течение времени с 1879 по 1886, совершенно различные по замыслу. Между ними созданы итальянское каприччио и струнная серенада, по существу тоже вещи сюитного рода; до них «Детский Альбом» – безусловно также сюитный, 12 пьес средней трудности, Детские Песни, Обедня и Всенощная; а вслед за ними полусимфония-полусюита «Манфред» и сюита «Моцартиана». Кроме того 2-ой концерт и фантазия для ф.-п. с оркестром.
Три оперы приходятся приблизительно на тот же промежуток времени с 1879 по 1887: «Орлеанская Дева» (1879), Мазепа (1883), Чародейка (1887) и переделка «Черевичек» (1885).[44]44
Подробности об этом периоде с любопытными промежутками в творческой работе см. в приложенном Хронографе жизни Чайковского.
[Закрыть]
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.