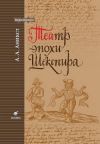Текст книги "Театр эпохи восьмидесятых. Память и надежда"

Автор книги: Борис Любимов
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Глава IV
В 1980 году заговорили о стабилизации театрального процесса. Об «отставании» драматургии (от театра или литературы?) речь шла и раньше. Впрочем, и об отставании поэзии от прозы мы тоже слышали давно.
Состояние современной поэзии в заостренной и парадоксальной, но, пожалуй, верной форме определил Александр Михайлов[5]5
Александр Алексеевич Михайлов (1922–2003) – советский и российский литературный критик, литературовед, доктор филологических наук.
[Закрыть], причем дважды: мысль, высказанную на страницах «Вопросов литературы», он повторил и в «Литературной газете». «Поэзия развивается нормально. Такое развитие поэзии ненормально», – так считает Михайлов. И впрямь, когда искусство нормализуется, оно останавливается, консервируется, канонизируется. Наступает инерция.
Вот и в разговорах о прозе 70-х появились тогда настораживающие интонации: критики говорят о «процессах усталости» деревенской прозы, а «военной прозе» в целом недостает той внутренней энергии, которая двигала большинство произведений 60-х и начала 70-х годов. Значит, и в прозе, причем на самых высших ее уровнях (и «деревенская», и «военная» проза и впрямь едва ли не лучшее, что было в нашей литературе того времени) наступила пауза (в других статьях дискуссий употреблялись слова «штиль», «затишье» и пр.). Может быть, поэзия не отстала от прозы, а, наоборот, опередила ее – сначала своим расцветом, а потом «усталостью»?
Как же на эти процессы отреагировал театр?
Взлет поэзии совпал с появлением такого явления, как поэтический театр: со сцены зазвучали стихи Маяковского и Есенина, Пушкина и Некрасова, Твардовского, Вознесенского и Евтушенко.
Но со второй половины 60-х годов поэзия потихоньку ушла со сцены, а театр решительно повернул репертуарную политику в сторону классического и современного повествования – Достоевский и Толстой, Горький и Гончаров, Тургенев и Салтыков-Щедрин, Лесков и Бунин, произведения Бориса Васильева, Федора Абрамова, Григория Бакланова, Юрия Трифонова, Василя Быкова, Чингиза Айтматова, Василия Шукшина (писателей, родившихся в 20-х годах и решавших разные задачи своего поколения на различном тематическом материале). Словом, современный ориентир на эпические жанры, существенный и для некоторых поэтов («Учусь писать у русской прозы, / Влюблен в ее просторный слог», – писал Давид Самойлов), оказался значимым и для театра.
Так что если театр и не отражал тогда прямо новейшую литературную ситуацию, то, несомненно, тесно был с ней связан. И если об «усталости» и «отсутствии энергии» говорили знатоки литературы, то это могло служить косвенным подтверждением справедливости подобной точки зрения на театр тех лет.
Но можно посмотреть на эту проблему и несколько иначе, шире. Если согласиться с суждениями критиков, полагающих, что конец 70-х годов – отстоявшийся этап общей жизни, период стабилизации процесса не только искусства, но и жизни, искусством отражаемой и преображаемой, то немудрено, что читательское и зрительское сознание как бы обратилось вспять, к истокам. Стремление познать пройденный путь – вот один из руководящих, преобладающих мотивов, который волновал современное искусство и современную жизнь. Вопрос, задававшийся когда-то древнерусским авторам: «Откуда есть пошла Русская земля», задавался всем размышляющим обществом. На первый план выходила проблема осмысления философии времени, философии истории.
Отсюда и разная степень интереса к древности, своей и иноземной, интерес к древнерусской живописи и музыке, старинной мебели, мемуарной литературе, к фольклору, к мифу, огромный читательский успех таких серий, как «Библиотека античной литературы» и «Памятники древнерусской литературы», исторических романов, пьес и кинофильмов (хороших и разных), успех классики на сцене. Достаточно сопоставить два факта. В сезоне 1960–1961 годов только в одном московском театре был поставлен всего один (!) классический спектакль – «Холостяк» Тургенева в ЦТСА[6]6
Центральный театр советской армии (далее ЦТСА).
[Закрыть]. А спустя 20 лет, в 1980–1981 годах, московские театры поставили «Живой труп» и «Дядюшкин сон», «Лоренцаччо»[7]7
«Лоренцаччо» – пьеса Альфреда де Мюссе в постановке театра «Современник» в 1980 г. В главных ролях – К. Райкин (Лоренцаччо), М. Неёлова (Маркиза). – Прим. ред.
[Закрыть] и «Былое и думы», «Три сестры» и «Жизнь Клима Самгина», «Правда – хорошо, а счастье лучше» и «Чайку». Изменилось сознание и потребности читателя и зрителя.
Показательно, что, как правило, театр обращался к тем современным романам и повестям, которые либо повествовали о прошлом (20-е, 30-е или военные годы), либо сопрягали «век нынешний и век минувший» («Дом» Федора Абрамова, «Батальоны просят огня», «Берег» Юрия Бондарева, «Усвятские шлемоносцы» Евгения Носова, «Пойти и не вернуться» Василя Быкова, «Сашка» Вячеслава Кондратьева, «Закон вечности» Нодара Думбадзе, «Дом на набережной» Юрия Трифонова, «Мы не увидимся с тобой» Константина Симонова, «Живи и помни» Валентина Распутина. В этом смысле композиционный принцип романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день»[8]8
Роман был напечатан под этим названием в журнале «Новый мир», в отдельном книжном издании получил название «Буранный полустанок». – Прим. ред.
[Закрыть], да и само заглавие как нельзя лучше выразили тягу к сопряжению и совмещению времен, активизации памяти.
Это явление – активизация памяти, осознание ее творческой силы, начинает сказываться и в драматургии. Стихи поэтов частенько обращены к предшественникам – и не только к Пушкину и Лермонтову, Блоку и Маяковскому, но и к Державину, и к Дельвигу, а драматургия вывела на сцену Фонвизина и Гоцци в «Царской охоте», Пушкина, Вяземского и Жуковского в «Медной бабушке» Леонида Зорина, Блока, Белого и Гиппиус в «Версии» Александра Штейна, Льва Толстого в «Возвращении на круги своя» Иона Друцэ. Но не только далекая история привлекает драматургов – и время ближайшее – 50–60-е годы изображаются либо припоминаются героями таких пьес, как «Уходя, оглянись» Эдуарда Володарского, «Взрослая дочь молодого человека» Виктора Славкина, «Старый дом» Алексея Казанцева, «Восточная трибуна» Александра Галина, а в «Ретро» того же драматурга прошлое становится темой, лейтмотивом, порождающим структуру пьесы. Такие заглавия пьес, как «Ретро» и «Воспоминание» Алексея Арбузова, симптоматичны для времени, о котором идет речь. У Давида Самойлова есть строки из поэтического диалога Учителя и Ученика:
Ученик
Ты помнишь, что когда-то нас учил
Глядеть вперед?
Учитель
Но тогда
Я шел не здесь… И что же?
Ученик
А мы решились поглядеть назад!..
Появление в 1980 году на сцене Московского драматического театра им. К. С. Станиславского спектакля «Исповедь» по книге Герцена «Былое и думы» показательно. Когда-то на сцене ставились дневники, письма и даже телеграммы. Но, пожалуй, спектакль по книге мемуаров, спектакль, где память есть стилеобразующий и структурообразующий фактор, тема и главный герой, впервые появился все в том же порубежном 1980 году. Былое и думы – не лучшее ли это название для целого цикла явлений литературы, театра, культуры страны в эту эпоху?
Лишь память, лишь память дана нам,
Чтоб ею навеки болеть.
Глава V
Именно это и явилось причиной рождения огромного количества спектаклей по романам и повестям. Явление инсценировок отнюдь не ново для нашего театра. В книге «Проза и сцена» Константин Рудницкий писал: «В 1803 году на подмостках петербургского театра состоялась премьера драмы в пяти действиях “Лиза, или Следствия гордости и обольщения” Василия Михайловича Фёдорова. Афиша спектакля честно уведомила зрителей, что драма эта – заимствованная из повести Николая Михайловича Карамзина “Бедная Лиза”».
Через год “Следствия гордости и обольщения” увидела и Москва. Ни петербургский, ни московский спектакль успеха не имели. Только самые дотошные летописцы русской сцены упомянули о них в своих дневниках. Чуть попозже (в 1805 году в Петербурге, в 1806 году в Москве) сыграли “Наталью, боярскую дочь”, “героическую драму в четырех действиях с хорами сочинение Сергея Николаевича Глинки, опять же “по повести Карамзина”. Сценическая судьба “Натальи, боярской дочери” тоже была незавидная.
Тем не менее “заимствование из повестей” Федорова и Глинки, вскоре бесследно затерявшиеся среди повседневного театрального репертуара, ознаменовали собой начало важного и сложного процесса. В инсценировках Карамзина молодая русская сцена впервые потянулась к молодой русской прозе…до робких опытов безвестного Федорова и безвестного Глинки никто и никогда вообще не пытался перенести на подмостки русского театра текст, написанный прозой».
Это верно по отношению к русской прозе. Но стоит добавить, что первые пьесы, шедшие на сцене театра царя Алексея Михайловича – «Артаксерксово действо» и «Иудифь», – есть сценическое изложение библейских книг; что в репертуаре театра царевны Натальи Алексеевны значатся «Комедия св. Екатерины», «Комедия Евдокии Мученицы» и другие, то есть инсценировки житий святых, принадлежавших митрополиту Димитрию Ростовскому, что «Комедия Варлаама и Иосифа», «Акт или действие о князе Петре Златых Ключей» – инсценировки переводных повестей, а «Акт о Каландре и Неонилде» и «Комедия об Индрике и Меленде» – инсценировки авантюрных романов.
О чем это говорит? О том, что инсценировки сопутствовали всем трем столетиям истории русского театра. А еще о том, что инсценируется то, что авторитетно в читательской среде. Когда читатель читал в основном священные тексты, то есть Библию и жития святых, на сцене они и инсценировались. Увлекся читатель западным светским романом – и увидел это на сцене. Когда вместе с Карамзиным русская повесть вышла на европейский уровень, она перешагнула рампу и оказалась на сцене.
В 1822 году Пушкин писал: «Чья проза лучшая в нашей литературе? Ответ: Карамзина. Это еще похвала не большая…» Вот почему и в 20-е годы XIX века театр, обращаясь к литературе, инсценировал не роман, а поэму. В первый же сезон в Малом театре идет «Фин» – волшебная комедия в стихах Александра Шаховского в трех частях с прологом, по поэме Пушкина «Руслан и Людмила», в 1826 году – «Керим Гирей, крымский хан», того же Шаховского по «Бахчисарайскому фонтану» того же Пушкина, позднее инсценируются «Цыганы» и даже баллада Жуковского «Людмила».
Но в 30-е годы в литературе начинает доминировать проза – это отмечают критики, такие, как Белинский, поэты («Лета к суровой прозе клонят») и даже такие читатели, как гоголевская Марья Антоновна, интересующаяся Брамбеусом[9]9
Барон Брамбеус – псевдоним О.-Ю. И. Сенковского. – Прим. ред.
[Закрыть] и читавшая «Юрия Милославского». И театр быстро реагирует на это изменение соотношения поэзии и прозы – Шаховской инсценирует знаменитого «Юрия Милославского» в 1831 году и «Рославлева» в 1832 году, ставятся «Вечера на хуторе близ Диканьки», проза Вельтмана и Марлинского, Бальзака и Гюго. Разумеется, это обстоятельство замечала и тогдашняя критика: «…драма “Юрий Милославский” есть новое доказательство, что роман переводить на сцену нельзя, ибо у них совсем разные условия»; «из романов и повестей хороших комедий и драм не делается»; «Творческая фантазия и самая природа положила резкое различие между действием эпическим и действием драматическим» – все эти цитаты из критических статей Сергея Аксакова 30-х годов XIX века.
Процесс этот коснулся не только России: вспомним спор диккенсовского Николаса Никльби[10]10
Герой романа Ч. Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никльби». – Прим. ред.
[Закрыть] с «джентльменом-литератором» – переделывателем романа в драму.
Словом, инсценировки, временами соперничающие с драматургией, а подчас и вытесняющие, во всяком случае теснящие ее, возникают в истории русского театра почти двух столетий. И для того чтобы аргументы за и против не повторяли того, что говорилось 20, 50, а то и 150 лет назад, стоит задуматься о специфике каждой репертуарной ситуации, над тем, что привлекает театр в романе, а что в пьесе, где сильные и где уязвимые места обоих родов литературы. Именно романы и повести, связанные с военной и деревенской тематикой, чаще всего интересовали театры в 80-х годах прошлого столетия. Можно было бы сказать, что и военная, и деревенская проза (заранее прошу прощения у читателя за всю условность этих определений и прошу рассматривать их как рабочие определения, а не как термины) объединяются все той же магистральной темой «рубежной», «промежуточной» культуры – памяти, времени, выбора, ответственности, совести.
И все же тяга зрителя и читателя к осмыслению прошлого, к философии прошлого, к притчеобразности и мифологизации драматургия в то время была удовлетворена далеко не в полной мере.
Глава VI
Драма и впрямь живет «на пороге как бы двойного бытия» – литературного и театрального. Драматургу мало пробиться к сердцу читателя – он должен пробиться к сердцу зрителя. За его судьбу отвечает не только редактор литературного журнала, но театр, где репетируют его пьесу.
Создание драматурга воспринимается в контексте театральном и литературном. Драматургия изучается по курсу истории литературы и по курсу истории театра. Драматург, как правило, является членом Союза писателей и членом ВТО. Двойное бытие и двойная нагрузка. Двойная помощь и двойной гнет. Откроем «Теорию литературы» Бориса Томашевского: «Драматическая литература характеризуется приспособленностью для сценической интерпретации. Основным ее признаком является назначение ее для театрального спектакля. Отсюда явствует невозможность полной изоляции в изучении драматического произведения от изучения условий театральной ее реализации, а также постоянная зависимость ее форм от форм сценической постановки». Обратимся к «Введению в литературоведение» (1976): «Специфика драмы как литературного рода определяется ее предназначенностью для сценической постановки».
Отсюда, видимо, и вытекают «единство и борьба противоположностей» Театра и Драмы, тождество и различие их исторических путей. Театр зависим от драмы, он тоскует по репертуару, мечтает о встрече с новой пьесой. И ему всегда их не хватает. И он всегда ими не удовлетворен. «Драма живет только на сцене», – сказал Гоголь. Но сегодняшняя сцена ее всегда не удовлетворяет, она стремиться ее реформировать. «Дух времени требует перемен и на сцене драматической», – писал Пушкин и мечтал изменить сцену драмой.
Бывает, что драма опережает сценическую постановку. Так было с «Борисом Годуновым» и «Чайкой».
Бывает, что театр опережает драму. Так было в конце 80-х – начале 90-х годов XIX века, когда Ермолова и Ленский, Садовская и Давыдов могли дать драме больше, чем драма им. И все же любое начало нового этапа в истории русского театра связано с совместным появлением конгениальных, близких друг другу по масштабу дарования и видению мира имен в драматургии и театре. Сумароков и Волков, Озеров и Семенова, Гоголь и Щепкин, Островский и Садовский, Чехов и Станиславский… Так было и в 20-е годы, и в 60-е. Так, верно, будет всегда.
Но эта двойственная природа драмы рождает и ее особую сложность. Людей с одинаково чутким слухом к слову и сцене всегда было маловато. Мы часто говорим о пьесе: «Хорошая, но литературная». А бывает и наоборот: «Да, драматург чувствует сцену, но с точки зрения литературной пьеса ниже всякой критики». Отсюда и вечные жалобы на скудость репертуара. Ну, хоть открыть наугад… «Обозрение русской словесности 1829 года» Ивана Васильевича Киреевского: «Драматическая литература наша – но можно ли назвать литературою сбор наших драматических произведений? В этой отрасли словесности мы беднее всего». Как видим, тогда драматургия «отставала». Может быть, дело все-таки не в отставании, а в уникальности этого литературного рода? А если к этому добавить сложное издательское положение драматургов, почти не печатаемых в толстых литературных журналах, все уменьшающуюся производительность столичных театров, выпускающих в сезоне 2–3 спектакля при необходимости ставить классику, зарубежную драматургию, детский спектакль и тем самым обрекающих современных драматургов на многолетнее ожидание, то надо удивляться не тому, что драма не занимает ведущее место в нашей литературе, а тому, что она выдерживает конкуренцию с романом.
Опасения, что роман вытесняет драму – иллюзия, аберрация, которая должна рассеяться, как только от суммарного впечатления переходишь к анализу. Единственная сфера репертуара, где роман и повесть теснят драму, – повторяю еще раз – война и деревня. Удивительного здесь ничего нет. Деревенская тема всегда трудно давалась драматургии – «Горькая судьбина» и «Власть тьмы» скорее исключение, чем правило. Театр тесно связан с городом – мудрено ли, что с ним по преимуществу связана и драматургия?
В драматургии, как и в ряде других видов литературы и искусства, происходила к началу 80-х годов смена поколений. В драматургии, как и в ряде других отраслей человеческой деятельности, поколение зрелости запаздывало.
И у греков акмэ – возраст человеческого расцвета – наступает к 40 годам, у народов, связанных с христианской традицией, возраст после 30-ти считается возрастом зрелости. Так вот, в драматургии в этот период мы знаем трех-четырех авторов моложе 40 лет, у которых поставлена одна-две пьесы. Между тем к 35-ти годам Булгаков написал «Дни Турбиных», Всеволод Иванов – «Бронепоезд 14–69», Маяковский – «Клопа», Катаев – «Квадратуру круга», Леонов – «Унтиловск», Олеша – «Заговор чувств», Вишневский – «Оптимистическую трагедию», Погодин – «Мой друг», «Темп», «Поэму о топоре», Афиногенов – все пьесы, кроме «Машеньки», Корнейчук – «Платон Кречет» и «Гибель эскадры», Арбузов – «Город на заре» и «Таню», Симонов – «Парень из нашего города» и «Русские люди», Друцэ – «Каса маре», Шатров – «6 июля» и «Большевики». К 35 годам написал все свои пьесы Александр Вампилов… А можно было бы добавить еще «Бориса Годунова» и «Маленькие трагедии», «Горе от ума» и «Маскарад», «Ревизора» и «Женитьбу», «Месяц в деревне» и «Смерть Пазухина», «Дядю Ваню» и «На дне», «Свои люди – сочтемся» и «Доходное место».
И в сценографии также ощущалась нехватка молодежи, ее зависимость от лидеров 60–70-х годов – Давида Боровского, Валерия Левенталя, Эдуарда Кочергина. А ведь в свое время Владимир Дмитриев, Петр Вильямс, Николай Акимов, Вадим Рындин к 35–40 годам сложились в самостоятельные и крупные художественные величины. Нехватка новых имен ощущалась и в театральной критике.
В номерах журналов конца 70-х – начала 80-х годов, дающих краткие биографические данные, таких как «Дружба народов» и «Вопросы литературы», имен, родившихся в 40-х годах, а тем более в 50-х, почти нет.
В драматургии, как, впрочем, в поэзии и в прозе, в сценографии, в режиссуре, в театроведении и филологии, образовалось то, что специалисты называют демографической ямой, а то, что яма эта пришлась на поколение тех, кто родился (или должен был родиться) в 1941–1945 годах, комментариев не требует…
Вот почему так много ожиданий связано с появившимся тогда новыми именами: Владимиром Арро, Ниной Павловой, Людмилой Петрушевской, Александром Галиным, Семёном Злотниковым, Сергеем Коковкиным, Александром Ремезом, Алексеем Казанцевым, Владимиром Малягиным, Алексеем Дударевым, теми, что заявили о себе первыми пьесами в порубежный промежуток 70–80-х годов. Все они доказали свою неслучайность в драматургии и театре, обнаружили свое видение мира, познакомили театр с новыми героями, новыми проблемами, новыми бытом и средой, новым языком. Да, их пьесы, первые драматические опыты казались тогда «странными» и далекими от совершенства, однако важным было то, что все указанные лица уже состоялись как авторы, и это – один из главных итогов на промежуточном финише.
Современникам и даже участникам процесса развития искусства свойственно и преувеличивать, и преуменьшать его издержки и достижения. Вот как в конце XIX века оценивал прозу 90-летней давности один корреспондент известного литератора, издателя, главного редактора известной санкт-петербургской газеты «Новое время» Суворина: «Скажите по совести, кто из моих сверстников, то есть людей в возрасте 30–45 лет, дал миру хотя одну каплю алкоголя? Разве Короленко, Надсон и все нынешние драматурги не лимонад?.. У нас нет “чего-то”, это справедливо, и это значит, что поднимите подол нашей музе, и Вы увидите там плоское место. Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и Вас зовут туда же, и Вы чувствуете не умом, а всем существом, что у них есть какая-то цель… Лучшие из них реальны и пишут жизнь такою, какая она есть, но оттого, что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели. Вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет Вас. А мы? Мы! Мы пишем жизнь такою, какая она есть, а дальше – ни тпрру, ни ну… Не знаю, что будет с нами через 10–20 лет… но пока было бы опрометчиво ожидать от нас чего-нибудь действительно путного, независимо оттого, талантливы мы или нет».
Трудно оспорить подобные суждения, но стоит вспомнить, что они принадлежат Чехову, – и сразу написанное воспринимается в другом контексте. А если учесть, что вслед за Чеховым пришли Горький, Бунин и Куприн, – меняется и перспектива: ведь действительно, «через 10–20 лет», то есть в начале XX века, русская культура дала невиданные плоды, причем усилиями поколения, получившего столь жестокую оценку Чехова. (И самооценку тоже: «я умен по крайней мере настолько, чтобы не скрывать своей пустоты чужими лоскутьями вроде идей 60-х годов и т. п.»).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.