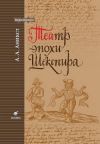Текст книги "Театр эпохи восьмидесятых. Память и надежда"

Автор книги: Борис Любимов
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
Мне приходилось слышать сетования одного из ведущих наших режиссеров на медлительность драматургов, уступающих Лопе де Вега и Гольдони по количеству (да и по качеству тоже). Ну, представим себе, что кто-нибудь из них поднатужится и напишет за лето пять пьес и принесет в какой-нибудь театр. За сколько лет театр сможет их выпустить? За пять? Или за двадцать пять?
А сколько несыгранных ролей в результате? Национальный классический репертуар, для которого будто и рожден Михаил Ульянов, прошел мимо него, пример наиболее очевидный.
В области режиссуры заметной новинкой стали спектакли Камы Гинкаса.
Появление Гинкаса важно для Москвы особенно тогда, когда приток молодых режиссеров приостановился. Это как у прозаиков – о прозе «сорокалетних» спорили, пока они не стали «пятидесятилетними». «И то, что есть меня моложе, // Стал с удивленьем замечать» – это многим свойственно. Так и в московской режиссуре новичками оказываются либо давно известные за ее пределами Юрий Еремин, Алексей Бородин, Владимир Портнов, либо те, кто окончил ГИТИС в конце 60-х – начале 70-х – Михаил Левитин, Борис Щедрин, Пётр Штейн, Алексей Говорухо, Александр Бурдонский, Борис Морозов. Продолжались непрекращающиеся попытки актеров овладеть этой профессией и доказать (часто небезуспешно), что и они способны поставить спектакль на среднережиссерском уровне. В сезоне 1981–1982 годов за это право боролись Андрей Миронов, Игорь Кваша, Лев Дуров, Евгений Весник и Юрий Соломин, Евгений Лазарев, Сергей Юрский. Мелеющий режиссерский приток – одна из опасностей театрального будущего. Ведь кому же и ставить новую драму, как не новой режиссуре?
О чем же писали молодые драматурги? За малым исключением, действие их пьес происходит дома, не на работе. Они обращены внутрь, их интересует психология современника. Новая драматургия во весь голос (или, во всяком случае, уже не шепотом) заговорила о том, что стало новой темой в нашей журналистике. Вернее, новизна здесь лишь в степени откровенности и жесткости разговора, как, скажем, в дударевском «Пороге» – радостном открытии сезона – или в том же «Вагончике»[32]32
Пьеса драматурга Н. Павловой, первая постановке в 1982 г. на сцене МХАТа. – Прим. ред.
[Закрыть], посвященном изображению судебного процесса над четырьмя девочками-подростками, избившими подругу.
Но, как ни обилен сравнительно приток новых сил, не все репертуарные ячейки заполнены одинаково. Ну, прежде всего, очевидно, как нам недоставало комедии. Стоило пропустить несколько сезонов Сергею Михалкову и Григорию Горину – и вот уже оказывается, что кроме Эмиля Брагинского с Эльдаром Рязановым смешить зрителя никто не умеет.
За исключением «Так победим», в сезоне не было ни одной исторической пьесы. И это при такой тяге культуры к истории, при том, как мгновенно исчезали с прилавков исторические книги: двухтомник «Мифы народов мира», книга Юрия Лотмана о Пушкине[33]33
Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин. – Москва, 1982. – Прим. ред.
[Закрыть]. «Ведь вспомнить и жить – это цельно, слитно, не уничтожаемо одно без другого и составляет вместе некий глагол, которому названия нет», – как сказано в романе Юрия Трифонова «Дом на набережной». Приходилось читать упреки драматургам, что они «уходят в историю». Это не они уходят в историю, это история к нам пришла.
Спустя два года появились несколько спектаклей на внешнеполитическую тему, но критика, поддерживая намерение создателей спектаклей, отметила драматургическую поверхностность большинства из них.
Ну, вот и последняя «репертуарная ячейка» – зарубежная драматургия. Две пьесы Нила Саймона – на Малой Бронной и в ЦАТСА, две пьесы Теннесси Уильямса – во МХАТе на малой сцене и в Театре Маяковского. Здесь есть над чем задуматься. В 60-х годах постановка зарубежной пьесы приобщала нас к новой реальности, новому видению мира. Мы немало узнали и о себе, о человеке вообще благодаря пьесам Де Филиппо, Гибсона, Олби, Осборна в «Современнике», Фриша в театре Сатиры, Килти во МХАТе, Ануя в театре Станиславского. Ради этого и ставились их пьесы – ради постижения нового. Затем ситуация изменилась, мы много прочитали за эти годы, кое-что и видели. И острота первой встречи с зарубежной драматургией, пафос открытия иссяк. В 1961 году театр Моссовета познакомил зрителя с Теннесси Уильямсом, с его пьесой «Орфей спускается в ад», где Вера Марецкая играла главную роль. Думал ли кто-либо, что спустя 20 лет в Москве будут идти восемь его пьес, что он станет самым репертуарным московским автором? Но вот прошли эти 20 лет, а имена, по сути, все те же – Ануй, Олби, Уильямс[34]34
Прошло еще 15 лет, и Теннесси Уильямс по-прежнему владел умами наших режиссеров, но, увы, не зрителей. – Прим. авт.
[Закрыть].
Мы открывали западную драматургию количественно, а не качественно. И ставили драматурги в технике «хорошо сделанной пьесы», ставили для актера, чаще – для актрисы. «Сочная вырезка» – для Викланд, «Последний пылко влюбленный» Нила Саймона – для Голубкиной и Зельдина, а его же «Весельчаки – для Дурова. «Кошка на раскаленной крыше» – для Дорониной, «Татуированная роза» – для Мирошниченко. Западная пьеса оказывается хорошей отдушиной для мало занятого актера. Спору нет, все они имеют на это право.
Право на монолог завоевали многие актеры. Так воспринимали русские зрители ХVIII века смысл этой профессии, такой ее смысл и сегодня: «Я не актера зрю, а бытия черты». Зарубежная пьеса на нашей сцене чаще всего ограничивалась тогда показом популярного актера, не преследуя иные задачи.
История театра XX столетия показывает, что цикл театральных идей имеет трехтактный характер – зарождение, пик и спад – «промежуток». Мне кажется, «промежуток» постепенно изживал себя, мы уже начинали сопротивляться силе инерции. Конечно, предсказывать в искусстве – самое сложное, все «предсказания» и «пророчества» сбыться не могут, а если и сбываются, то с очень приблизительной точностью, о любом «начале» и «конце» можно сказать: «не знаем часа, когда придет». Историк ведь, по известному определению, «пророк, предсказывающий назад».
Ну, ему кое-что положено и впереди видеть, а уж задумываться над этим просто необходимо. Этим тогда уже занимались литературоведы – статья академика Лихачева «Будущее литературы как предмет изучения» тому пример.
Но, помимо знания прошлого, необходимо деятельное, всестороннее и непредвзятое изучение настоящего. Именно в спокойные периоды развития искусства повышается роль исследователя-гуманитария. Он должен слушать тишину, как Боброк слушал поле перед Куликовской битвой. В период промежутка критику особенно важно изучить и назвать театральные факты своими именами. И прав был Владимира Ивановича Немирович-Данченко, когда писал: «жалок тот рецензент, кто хочет понравиться» и «боится собственного мнения», кто напоминает критика, над которым издевался Достоевский, что, будто пушкинская сваха, «речь ведет обиняком», критика, зараженного «старческой болезнью левизны», по определению Павла Маркова.
Нельзя сказать, что только театральные критики повинны в грехе излишней комплементарности. Об этом писали тогда и в «Литературном обозрении», и в «Вопросах литературы». Приводились даже цифры – на 300 статей приходится только три отрицательных. Согласимся, что эти данные не соответствуют нашему непосредственному читательскому опыту. Не соответствуют они и нашему зрительскому опыту – ведь здесь картина такая же.
Да, приходит новое время, а оно приносит, по слову Белинского, «новые требования, более трудные для исполнения, чем прежние».
Мы бесконечно обогатили формальную сторону театра, его выразительность и изобразительность. Мы почувствовали его структурную природу, мельчайшую сеть зависимостей и отношений. И ждали глубины, объемности, цельности.
Мы узнали цену преемству в Искусстве, почувствовали, что позади у нас не традиция, а традиции, а значит, впереди у нас не путь, а пути. Многообразие исканий – вот еще одно завоевание.
Плененные «карнавальными» идеями минувших десятилетий, мы в жизни и в искусстве начинали ценить трудовой аскетизм, терпение.
Сошла на нет конфронтация между «физиками» и «лириками», гуманитарные и естественные науки не слились в одну, как предполагалось еще недавно, но сблизились. Мы испытали период прозаизации стиха, возрождение лирической прозы, кинофикации театра, театрализации кинематографа. Мы вновь почувствовали синтетическую природу русского искусства, отмечавшуюся еще Блоком, и возжаждали такого искусства.
«Русский писатель всегда хочет написать что-то вроде Евангелия, книгу по всему миру», – говорил Каронин Горькому. Максимум задач при терпении и способности ждать их свершения – тоже итог периода.
Обозреваемый период был насыщен сложной духовной жизнью, которая, не проступая на поверхность, была, быть может, менее яркой, чем предшествующая, но, думается, более глубокой. Она еще не принесла своих плодов, семя только брошено в землю, жатва еще была впереди.
Есть своя прелесть в тех периодах, когда сложная духовная жизнь уходит в недра, существует подспудно. И требуется умение всматриваться в кипение «пузырей земли», они свидетельствуют, что «там, внутри» что-то происходит. Это историческая отсрочка, а не конец. И, говоря языком философской поэзии, «Тогда былое удержимо, // Грядущее заранее зримо, // Минута с вечностью равна». А на языке философской прозы та же мысль выражается так: «В настоящем и прошедшее не уходит, и будущее прежде прихода ощутительно… Тайна веков слышна».
Любой ренессанс опирается на традицию. Такую роль в развитии поэзии и театра, да и гуманитарной науки 60-х годов XX века сыграли наши 20-е годы. Каждый выбирал из них свое, кто – Маяковского, кто – Есенина, кто – Станиславского, кто – Мейерхольда, кто – Тынянова, кто – Бахтина. Вот только плохо, что каждая традиция старалась победить другую, доказать свою единственность. Сейчас мы научились сплавлять, скрещивать традиции, ощутили их корни в далеком прошлом. Пришло время собирать, а не расточать, синтеза, преображения искусства и жизни.
Последний акт пьесы может быть первым актом другой. Послесловие к сезону есть одновременно и предисловие к новому.
Часть четвертая. Иду на «Грозу»
1982–1983

Глава I
Он был не блестящ, этот сезон, лишенный крупных событий и знатных завоеваний. Тем не менее, он остается чрезвычайно показательным, ибо говорит о сложных внутритеатральных процессах, о подготовке новых театральных поворотов.
П. Марков
Одним из трудных за последние годы оказался театральный сезон 1982–1983 годов. Начало было довольно ярким и обнадеживающим: осенью московские театры открылись премьерами, подготовленными в конце предыдущего сезонама. Среди них сразу привлекли внимание «Смотрите, кто пришел» Владимира Арро и «И порвется серебряный шнур» Алексея Казанцева в Театре им. Маяковского, «Равняется четырем Франциям» Александра Мишарина в Московском драматическом театре и Театре им. Вахтангова, «Порог» Алексея Дударева в Театре им. Станиславского и «Счастье мое» Александра Червинского в ЦАТСА. Сезон должен был набрать высоту зимой, в дни празднования 60-летия образования СССР. Однако именно зимой и обнаружилось, что высоты, достигнутые театрами, в большинстве своем местного значения: что принципиальных, поворотных спектаклей ни на классическом, ни на современном материале театры не создали, более того, они в этом сезоне и не предвиделись. Театры напоминали спортсменов, у которых пик формы явно не совпадал с решающими выступлениями. Разрыв между спросом и предложением, между уровнем желаемого и достигнутого оказался очевиден. Именно зимой и состоялся ряд серьезных заседаний в Министерстве культуры СССР и РСФСР, в ВТО начались дискуссии на страницах «Литературной газеты» и в журнале «Театр». В «Литературной газете» и «Советской культуре», в «Правде» и «Известиях», «Комсомольской правде» и «Советской России» появились достаточно жесткие и требовательные статьи критиков, явно недовольных состоянием театра и собственным благодушием. Пресловутая комплементарность театральных критиков (появилась даже статья под названием «Давайте говорить друг другу комплименты») начала преодолеваться изнутри, вызывая недовольство, а то и ярость режиссеров, сетовавших прежде на отсутствие критического запала в театральной печати. Расхождение между театром и критикой лишь подчеркнуло сложные процессы, происходящие в разных театрах по-разному.
К сожалению, критик работает лишь с внешними симптомами и на их основании ставит диагноз, а болезненная нервозность «пациентов» заставляет его делать выводы мягче и деликатнее, чем подчас следовало бы. «Рентген», «просвечивание» требует знакомства с театром изнутри, а руководство театров, как правило, делает все для того, чтобы отрезать труппу от непосредственных контактов с критикой.
Сезон зимой как бы надломился. Будто машина на крутом подъеме резко переключила скорость, чувствуя, что на прежней гору не одолеть, да и двигатель что-то забарахлил. Слышен рев мотора, а автомобиль еле ползет, вот-вот остановится. Если воспользоваться терминологией известного историка культуры Арнольда Джозефа Тойнби, театр зимой пережил «брейкдаун» (надлом)[35]35
Разумеется, театральный брейкдаун 1982 г. в большей мере был вызван «надломом», связанным со смертью Брежнева, приходом к власти Андропова, появлением в Москве фигуры Алиева. «Идут опричники», – сказал мне в декабре 1982 г. один из работников Московского управления культуры. – Прим. авт.
[Закрыть].
Тому способствовало много обстоятельств, на театральных часах совпало несколько стрелок.
В ряде театров болезненно происходит перестройка. Очевидный пример – Театр им. Пушкина, где смена главных режиссеров, всегда болезненно проходящая в театрах, дополнилась еще неотлаженным производственным процессом, в результате чего не были показаны в срок два запланированных спектакля. Но то, что в этом театре видно невооруженным глазом, в той или иной мере сказывается в практике многих театров. Бросалось в глаза снижение производительности театров. Возрождение традиционного фестиваля «Московская театральная весна» помогло обозревателю сезона. К участию в фестивале допускались те спектакли, которые были выпущены до 25 апреля 1983 года. Возьмем в качестве точки отсчета эту дату.
Так вот, в период от 25 апреля 1982 года до 25 апреля 1983 года по три спектакля удалось выпустить далеко не всем театрам. А если учесть, что ряд премьер малочислены по составу участников, то можно с уверенностью сказать, что большинство театров использовало весь свой потенциал едва ли не наполовину.
В сюжете театрального сезона сказалась и ситуация с очередными режиссерами. Если еще недавно главным режиссерам удавалось выпускать по два-три спектакля в сезон (не без помощи штатных режиссеров, «разминавших» спектакли для этого, говоря откровенно, и бывших нужными главным), то многие из них оттого ли, что устали, перетрудившись на работе вне своего театра, или по какой другой причине, но больше одного спектакля в сезон выпускать не успевали. Вот тут-то и сказалось то обстоятельство, что ликвидировать «прорывы» подчас в театре стало некому. Дело дошло до того, что на помощь приходил директор театра, как это было со спектаклем «Мсье Амилькар платит» в Театре им. Пушкина.
Ряд спектаклей дорабатывались, редактировались на ходу, менялся текст, финалы. Понятно желание сделать спектакль более оптимистичным, высветлить его, но светлое мажорное мироощущение и взгляд сквозь розовые очки – не синонимы. Свет-то и ощущается лишь по контрасту с тьмой, и попытки лишить театр многокрасочности приводят лишь к появлению спектаклей серых и бесцветных.
Кстати, о финалах. Вспомните «Бедных людей» Достоевского. Как негодовал Макар Девушкин, прочитав гоголевскую «Шинель»: «Добро бы он под концом-то хоть исправился, что-нибудь бы смягчил… А лучше всего было бы не оставлять его умирать, беднягу, а сделать бы так, чтобы шинель его отыскалась, чтобы тот генерал, узнавши подробнее об его добродетелях, перепросил бы его в свою канцелярию, повысил чином и дал бы хороший оклад жалованья… зло было бы наказано, а добродетель восторжествовала бы… Я бы, например, так сделал; а то, что тут у него особенного, что у него тут хорошего? Так, пустой какой-то пример из вседневного, подлого быта». Неужто и мы, «вышедшие» из гоголевской «Шинели», тоже относимся к «вседневному быту» как к «подлогу», мечтаем о том, чтобы шинели отыскивались, вишневые сады не продавались, чтобы пеклевановы и комиссары не погибали, неужто боимся мы «черного солнца», встающего над тихим Доном[36]36
Автор отсылает к финальной картине романа Михаила Шолохова «Тихий Дон»: «Аксинья умерла на руках у Григория незадолго до рассвета. <…> Все было кончено. В дымной мгле суховея вставало над яром солнце. Лучи его серебрили густую седину на непокрытой голове Григория, скользили по бледному и страшному в своей неподвижности лицу. Словно пробудившись от тяжкого сна, он поднял голову и увидел над собой черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца». – Прим. ред.
[Закрыть]?..
По существу, из ведущих наших драматургов афиша нового сезона представила лишь постановку Афанасия Салынского, притом «Молва» написана три года назад[37]37
Пьеса «Молва» написана в 1980 г. – Прим. ред.
[Закрыть]. Отсюда и ощущение – радостное для одних, тревожное для других, что «новая волна» драматургии «смыла» прежние планы. Думается, что на самом деле шел естественный и непростой процесс поиска и обновления драматургических имен, лишь обнаруживший то, что предполагалось и ранее. «Новая волна докатилась до нас, причем с достаточным опозданием. Это не единое направление, а разные авторы – по возрасту (от 30 до 50!), полу, профессии, опыту и, понятно, таланту и мироощущению. В дебютантах тогда оказались и седобородый Владимир Арро, и Людмила Петрушевская, чьи первые пьесы были написаны в конце 60-х годов, Семён Злотников и Алексей Казанцев и реальные «дебютанты» – Анатолий Макаров, Олег Перекалин, Владимир Гуркин. Ведь тот же «Вагончик» Нины Павловой лежал в литературной части одного из московских театров еще в 1977 году! Словом, восприятие «новой волны» было обусловлено, во-первых, тем, что волна эта довольно надолго задержалась, а во-вторых, «отливом» маститых.
Блеклость сезона в большой мере была связана с тем, что и в режиссуре, и в актерском цехе, и в сценографии «святые места» стали пустовать. По разным причинам, но впервые за последние 15 лет мы не увидели ни одной новой работы Олега Ефремова, премьер Валентина Плучека, Иона Унгуряну и Камы Гинкаса, Анатолия Васильева и Гария Черняховского (если не считать его спектакля, поставленного в Щукинском училище).
Можно было надеяться на оживление режиссуры за счет приглашения ведущих мастеров из союзных республик. К сожалению, этого не произошло. Спектакли Юозаса Мильтиниса и Микка Миккивера оказались значительно ниже авторитета их создателей. То же и в сценографии – сезон остался без работ Валерия Левенталя и Давида Боровского, Сергея Бархина и Бориса Мессерера. И уж совсем обесцветило сезон отсутствие новых работ Иннокентия Смоктуновского и Евгения Евстигнеева, Юрия Яковлева и Людмилы Максаковой, Татьяны Дорониной и Армена Джигарханяна, Льва Дурова и Игоря Кваши, Лилии Толмачевой, Марины Неёловой, Олега Янковского и Николая Караченцова. Кстати, и в этом театральном «цехе» основной успех выпал на долю либо актеров среднего поколения – Натальи Теняковой и Анастасии Вертинской, либо недавней молодежи Театра им. Маяковского – Игоря Костолевского, Александра Фатюшина, Михаила Филиппова, дебютанта Владимира Стеклова, переехавшего с Камчатки в Москву. Отсутствие имен маститых и робкое появление молодых – характерная черта сезона и в драматургии, и в репертуаре, и в актерском искусстве. «Новая волна» делалась не очень молодыми силами.
Глава II
Настораживающая особенность сезона 1982–1983 годов – резкое снижение классической драматургии в репертуаре московских театров. «Базаров» по Тургеневу и «Живой труп» во МХАТе, «Бесприданица» в ТЮЗе, «Егор Булычев» на сцене Театра им. Моссовета да «Роза и крест» Блока у вахтанговцев.
Это меньше даже, чем в начале 60-х годов (для сравнения укажу, что в сезоне 1962–1963 было поставлено шесть классических произведений). Ну а если сравнивать с предыдущим сезоном, число постановок классики уменьшилось в пять раз. Вопиющее несовпадение вкусов зрителей и читателей с формированием репертуарной афиши должно было обратить на себя внимание.
Откройте мартовский номер журнала «Наш современник» за 1983 год, и вы прочтете главу из будущей книги академика Лихачева, посвященной исторической памяти. А в мартовском номере «Дружбы народов» Василь Быков начинает свою повесть «Знак беды» гимном «всеохватной памяти», наделенной извечной способностью превращать прошлое в настоящее, связывать настоящее с будущим.
Так, не сговариваясь, писатель и филолог напоминают нам о духовной силе памяти.
Скажите поэту, что его стихи – пушкинской традиции (или блоковской, некрасовской), и он возликует. Скажите режиссеру, что он поставил традиционный спектакль – худшего оскорбления и представить нельзя. И дело не только в том, что театр мало обращается к классике. Значительно хуже то, что ни один из выпущенных спектаклей не стал этапным, точкой отсчета нового. О «Живом трупе» писали много и достаточно единодушно в оценках, при всей разнице исходных позиций. «Булычева» и «Розу и крест», напротив, постарались деликатно не заметить, хотя, казалось бы, как обойти разговор о такого рода явлениях, важный в любом случае – при успехе или неудаче.
«Женитьба Белугина»[38]38
Комедия по пьесе Александра Островского и Николая Соловьева. Написана в 1877 г. – Прим. ред.
[Закрыть], долго шедшая в театре Станиславского, «Невольницы» и «Не в свои сани не садись», «Шутники» в ЦДТ, отпраздновавшие десятилетие со дня премьеры и 100-й спектакль, их ровесник – спектакль Малого театра «Не все коту масленица», шедший более 500 раз, «Лучина», «Не от мира сего», «Красавец мужчина», «Женитьба Бальзаминова», «Василиса Мелентьева» – словом, Островский не самый известный. Что ж, прекрасно, что театры расширили свой репертуарный диапазон. С успехом шел Островский-сатирик: «На всякого мудреца довольно простоты», «Свои люди – сочтемся», «Волки и овцы», «Бешеные деньги». Театры постоянно возвращаются к «Без вины виноватым» – как только ведущая актриса переходит к ролям матерей.
Но тот факт, что московский зритель не мог увидеть «Грозу», говорит о многом. Мы так научились изображать «серое царство», что «царство темное», и тем более «луч света» нам уже не по вкусу и не по силам. А ведь поколения актрис не знают, что такое сыграть Катерину. А «Бесприданница»? За 20 лет – одна неудачная постановка в ЦАТСА. Гликерии Федотовой и Вере Комиссаржевской было 32 года, когда они сыграли Ларису, Марии Савиной – и того меньше. Татьяна Лаврова и Ольга Яковлева, Маргарита Терехова и Марина Неёлова, Ирина Купченко – каждая из них уже должна была бы иметь роль Ларисы в своем репертуаре.
Не было тогда на московских подмостках «Талантов и поклонников» и «Доходного места». Между тем Островский – основа нашего национального репертуара, ни пушкинская, ни лермонтовская драматургия, ни даже пьесы Гоголя в истории нашей сцены не сыграли той роли, что пьесы Островского. В этом смысле русского драматурга можно сравнивать с Шекспиром в истории английской сцены. Алексей Бартошевич приводит данные о репертуаре Гилгуда сезона 1929–1930 годов: сентябрь – Ромео, октябрь – Антонио, ноябрь – Ричард II, декабрь – Оберон, январь – Антоний (в «Буре»), февраль – Орландо, март – Макбет, апрель – Гамлет. А в следующем сезоне добавились Просперо, Антоний (в «Антонии и Клеопатре»), Мальволио, Бенедикт, Лир!.. Кто из наших корифеев за 20–30 лет работы в театре может похвастаться таким списком ролей от Чацкого до Сатина?
Конечно, оскудение классики на московской сцене можно было бы истолковать как результат девальвации идей «режиссёрского театра». Прежние спектакли представляли собой целостную, последовательную и до конца проведенную и осуществленную концепцию. Но чем более агрессивными становились режиссерские набеги на классику, монополизирующими классический текст, обедняющими, а не обогащающими, упрощающими, а не углубляющими, деформирующими, а не трансформирующими, искажающими, а не преображающими, тем более справедливыми казались мысли Павла Флоренского из работы «Мнимости в геометрии»: «Ничего не остается, как напомнить зазнавшейся интерпретации о приличном месте и объеме ее применяемости».
Но не выплеснули ли мы вместе с водой и ребенка? Не превратили ли мы в этот период зрителя классики в читателя?
Правда, вкус к прошлому, тягу к истории театры частично удовлетворили, но только за счет постановок произведений 20–30-х годов – «Дни Турбиных», «Обвал» и пьес об этом времени – «Молва». И, разумеется, за счет небольшого количества инсценировок, где тема памяти и времени по-прежнему оставалось доминирующей: «Выбор» Юрия Бондарева и «Картина» Даниила Гранина в Малом театре, «Закон вечности» Нодара Думбадзе в ЦАТСА и Театре им. Пушкина.
Надо сказать, что инсценировать такие романы чрезвычайно трудно: представьте себе «Жизнь Арсеньева» Ивана Бунина или эпопею Марселя Пруста на сцене. «Преданье умной старины» в сочетании с философскими размышлениями, перенос почти всего событийного ряда в прошлое, малая зрелищность – все это требует напряженных поисков режиссуры, актерской подготовленности к решению именно таких задач и, кстати говоря, и зрительской подготовленности. На эти спектакли должен идти зритель, имеющий навыки чтения философской прозы (отвлекаюсь в данном случае от постановки вопроса, насколько оригинален и глубок философский пласт в «Выборе» и «Картине»). И все же, несмотря на то, что ни один из этих спектаклей не стал значительным театральным событием, необходимость этой репертуарной линии в те времена была очевидна. Тому было несколько причин.
Во-первых, у большинства драматургов явно отсутствовал вкус к философской драматургии, во-вторых, эти спектакли подводили нас к мысли о ценности жизни, о ее нравственном смысле, о необходимости ощущения себя в истории, о непрерывности культурного делания, о самовоспитании, девальвации идей и, наоборот, о возрождении человека, его способности сделать над собой усилие, вырваться из привычных рамок ради дела, в которое ты веришь всем сердцем.
Вот почему «в книге памяти с задумчивым вниманьем // Мы любим проверять страницы о былом», вот почему естественным казалось появление в репертуаре московский театров «Обретения» Иона Друцэ, «Наполеона I» Брукнера, «Мастера и Маргариты».
Новый этап в истории театра определяется тем, с каким грузом исторического прошлого, культуры, традиций мы к нему подошли, как мы встретились с классикой на новом витке, что мы в ней поняли и оценили и что раскроется в ней благодаря этой встрече.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.