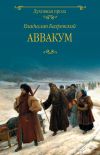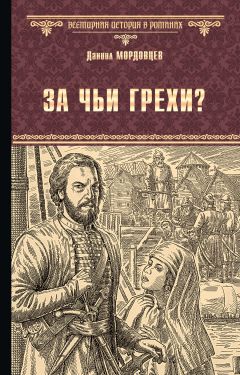
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
XXXIII. «Они там, а мы тут…»
Прошло несколько томительных дней ожидания возврата стрельцов с князем Львовым; но ни стрельцов, ни вестей никаких сверху не было.
Только однажды, на заре, знакомые нам ловцы, закинув тони несколько выше Астрахани, вместе с осетрами и белорыбицей вытащили, к ужасу, несколько трупов. Закинули еще, и опять утопленники!
Но когда хорошенько рассмотрели обезображенные и распухшие, да притом изъеденные раками лица мертвецов, то, хотя с трудом, однако же распознали в них тех стрелецких голов, сотников и дворян, которые отправились против Разина вместе с князем Львовым. Не оставалось никакого сомнения, что и эту высылку, состоявшую почти из трех тысяч стрельцов и других ратных людей, постигла та же участь, какую испытала под Царицыном прежняя высылка из Казани.
Астрахань, таким образом, должна была готовиться ко всему.
– Я давно знал, што так оно и выдет, – лукаво заметил, отпихивая подальше в воду веслом тело одного стрелецкого головы, тот молодой ловец из затинщиков, который охотно ожидал в Астрахань батюшку Степана Тимофеича.
– А ты почем, возгряк, знал про то? – спросил старик-рыбак.
– Мне сказывал Костька-«гудошник», – отвечал малый, – мы-де, говорит, спевку сделали промеж себя и всем нашим головам да сотникам зальем за шкуру сала, чтоб они напредки не заедали нашего кормовово да посошново жалованья.
Плывшие по Волге трупы этих голов да сотников были наконец усмотрены с берега и в Астрахани выловлены. Не нашли между ними только князя Львова. Где он? Что с ним?..
Ждать было спасения неоткуда, а тем более из Москвы: не было более пути, по которому можно было бы тайно послать в Москву гонца с вестью о предстоящей в Астрахани гибели, потому что Волга была в руках Разина, а посылать через степь было бы бесполезно: там по всем направлениям рыскали калмыки, давно озлобленные против русских воевод за их грабежи и притеснения.
Оставалось одно – запереться в городе и укрепиться.
В тот же день совершен был крестный ход вокруг городских стен. Ход был особенно торжественный и внушительный: церковная святыня всех астраханских церквей, хоругви, кресты, горящие громадные свечи в массивных паникадилах, – все двигалось вокруг стен, а впереди всего этого шествовала величайшая святыня города – икона Божией Матери в драгоценном окладе. У каждых ворот шествие останавливалось и воздух оглашался молебствием и пением всех церковных хоров и всего духовенства. День был такой тихий, что свечи горели на воздухе и пламя их совсем не колебалось. Над процессией кружились стаи голубей, всполошенных церковным звоном и пением.
Вместе с процессией двигался весь город, особенно женское население. Во главе шествия, позади духовенства, шел воевода и внимательным взором осматривал городские стены и ворота. Тут же шла и княгиня Прозоровская с двумя сыновьями. Старший мальчик шел бодро, уверенно. Казалось, что он был убежден в истине слов своего «коневого учителя» Фрола Дуры: «Степан Разин сам испужается своего тезки», княжича Степана Прозоровского. Но младший сынишка воеводы, Сеня, был больше занят голубями, между которыми он искал своих любимых «турманов».
Однако не весь город участвовал в процессии. Если бы князь Прозоровский мог видеть и прислушаться к таинственным перешептываньям на базарах разных кучек холопей и посадских ободранцев, то он увидел бы в этом нечто зловещее…
А вечером, когда воевода обошел все городские стены и башни, осмотрел пушки и боевые запасы, расставил по местам пушкарей и воротников, роздал стрельцам запасное оружие и приказал стрельчихам кипятить в котлах воду, стрельчихи коварно между собой переглядывались.
– Ты, Дарьюшка, не больно-то перекипячивай воду…
– Знаю, меня не учить стать: не перекипячу, не впервой своих стрельчат купать в корытцах…
– Ха-ха-ха! Вот сказала! Стрельчат купать…
– А то как же? Може, и твой сокол полезет на стену, дак и ему кипятком очи заливать! А сподручнее тепленькой водицей…
– Да они там и не полезут… А тут мы их сами за белы ручки востянем на стену…
– Так, так: они там, а мы тут…
XXXIV. Разин в Астрахани
Над Астраханью спускаются сумерки.
Тихо над городом и над Волгою. И в городе тихо, как будто все поснуло, а между тем никто и не думал спать. Тихо так, что даже слышится в темноте какой-то шепот. Кое-где неслышно перебегают человеческие тени. Слышно даже, как у Волги, под учугами, соловей заливается…
– Недолго тебе, соловушко, петь, – говорит боярский сын, стоя на часах над Вознесенскими воротами, – до Петрова дня уж недалеко.
– И то правда, – тихо отвечает другой часовой, сидя там же «в запасе», – уж и кукушка, сказывают, галушкой подавилась, не кукует боле: и как выкинет колос, дак и соловей потеряет голос.
При всеобщей тишине в воздухе, однако, проносятся иногда какие-то неопределенные звуки; но слух не может их уловить; не то жужжанье насекомых, не то шепот прибрежных камышей с осокою…
По небу звездочка прокатилась и сгасла…
– Што это, видишь?
– А што такое?.. А?.. Где?..
– Гляди, точно лес движется и шевелится.
– Вижу, вижу… Это они!.. Звони в колокол! Бей сполох.
И вдруг в вечерней тишине раздался звон башенного колокола. За ним другой, третий, все башни «заговорили».
В городе началась тревога. Послышались голоса со стен:
– Воры идут!.. К Вознесенским воротам!
Теперь ясно было видно, как к городу надвигались массы. В темноте можно было различить, что нападающие тащили к стенам лестницы.
Услыхав тревогу, князь Прозоровский быстро вышел на двор, где уже ожидал его оседланный карабахский скакун, подаренный ему Сэхамбетом. Тут же на дворе суетливо готовились к бою дворяне, дети боярские, подьячие и стрелецкие головы.
Вложив ногу в стремя, князь приказал трубить.
– Трубачи! – крикнул он. – Трубить к Вознесенским воротам!
Он выехал со двора, за ним остальные служилые люди. Впереди бежали холопы с зажженными смоляными факелами и освещали путь.
Сойдя у Вознесенских ворот с коня, воевода поспешил на стену. От факелов мрак кругом еще более сгустился, так что нельзя было отличить осаждающих. Что-то металось внизу, под стенами, слышны были голоса: «Давай лестницы!.. Приставляй к стенам!.. Дружно, атаманы-молодцы!»
– Лей кипяток на головы им, окаянным! – распоряжался воевода.
Послышался плеск воды со стен.
– Лей дружнее!.. Не жалей кипятку!
А внизу раздался хохот…
– Вода-то у вас, братцы, тепленька! Не замерзла бы! – слышится внизу.
– И впрямь вода не горяча!.. Што за притча!.. Остыла, что ли… – слышны голоса на стене.
Между тем на стене, ближе к Троице, творилось что-то необычайное. Там приставлен был сплошной ряд лестниц, и по ним быстро, но бесшумно взбирались на стену казаки и стрельцы.
Слышен был шепот и сдержанный смех.
– Давай руку! Так, так, взлезай!
– Соколики! Сюда! Сюда! – слышались бабьи голоса. – Мы вас давно ждем.
Слышны поцелуи, радостный говор.
– А где батюшка Степан Тимофеич?
– Уж он в городе… Город наш!
Астрахань взята была без выстрела. Оказалось, что все втайне было подготовлено для приема Разина и его войска. Согласники его составляли большую часть населения города: и посадские, и стрельцы, и холопы – все ждали его как своего спасителя, милостивца, защиту от бояр, от приказных, от детей боярских и всякого начальства. Тот трехтысячный отряд, который был отправлен против казаков с князем Львовым, сдался Разину без боя и потерял только своих голов и сотников, которых Разин приказал перебить и побросать в Волгу.
Князя Львова Разин велел оставить в живых и приказал ему ходить за маленькой калмычкой, за Марушкой, с которой казаки не хотели расстаться.
Когда казаки подошли к Астрахани на приступ, то уж они заранее знали, с которой стороны ее брать: они показывали вид, что начнут штурмовать город с Вознесенских ворот, куда и направились все защитники злополучного города, а между тем приставили лестницы к стене там, где их всего менее могли ожидать. Но там ждали их свои, посадские люди, стрельцы и их жены, а также холопы и базарная, и кабацкая голытьба: они-то и подавали руки осаждающим, когда их лестницы немного не доставали до верху стены. Стрельчихи же вместо кипятку налили в чаны, кадки и перерезы теплой воды, в какой они своих детей купают.
В ночной темноте грянули вдруг выстрелы: это был знак, что город в руках у казаков.
Воевода, сбежав со стены, вскочил на своего Карабаха и помчался туда, где он слышал крики торжества. За ним ринулись дети боярские, дворяне и оставшиеся верными стрелецкие головы. Но их ждала там гибель: чернь и казаки бросились на них и всех перебили.
Костька-«гудошник», заметив воеводу, бросился на него с копьем.
– А! Так я ж тебя ссажу с коня!
Копье вонзилось в живот воеводы, и князь Прозоровский свалился с своего великолепного Карабаха. Испуганный конь умчался, а стонущего воеводу какой-то сердобольный старик на своих плечах стащил в соборную церковь и там положил на ковер.
Городские ворота между тем отворили, и вся масса разинцев двинулась в город и затопила площади и улицы.
Начались неистовства, о которых мы говорить не намерены…
Скажем только, что князь Прозоровский самим Разиным был столкнут с раската, и его защитник Фрол Дура изрублен казаками в куски…
Разин пробыл в Астрахани три недели, завел в городе казацкие порядки и уничтожил посты, всем велел есть скоромное.
Сдав город Ваське Усу как своему наместнику, Разин накануне выступления в поход приказал привести к себе сыновей князя Прозоровского.
– Как зовут тебя? – спросил он старшего мальчика.
– Князь Степан, княж сын Семенов Прозоровский, – бойко отвечал мальчик.
– Мудрено что-то, – зло усмехнулся атаман, – и сам князь, и княж сын, да еще и Степан, мой тезка, значит… Ладно… А боярином будешь?
– Буду, – отвечал мальчик.
– Ну, это еще старуха надвое сказала, – снова усмехнулся Разин. – А в казаки хочешь?
– Нет, не хочу.
– Молодец! Из тебя будет прок. А тебя как зовут? – обратился он к младшему.
– Сеней, – отвечал робко мальчик.
– Только-то? А тоже, поди, князь и княж сын… А боярином будешь? Высоко пойдешь?
Мальчик молчал.
– Вот что, атаманы-молодцы, – обратился Разин к окружавшим его, – эти щенята высоко пойдут, как вырастут… Пущай же теперь пойдут повыше… только ногами кверху. Поняли? А? Повесить их за ноги!
Двое из казаков распустили на себе кушаки, связали ноги юным Прозоровским, которые от страха не могли даже плакать, и подвесили их с раската… Тут только послышались крики несчастных детей… Личики их затекали кровью…
– Довольно! Тащи сюда щенят!
Их подняли и развязали.
– Ну, тезка, а теперь будешь боярином? Будешь вешать нашего брата? – спросил Разин старшего.
Мальчик плакал и молчал.
– Аспид будет, – заметил Разин, глядя на него. – Туда ево, к отцу!
И казаки спустили мальчика с раската…
– Ну а этово малыша жаль, – сказал Разии. – А чтоб он не был боярином, все-таки выпороть его! Подымайте рубашонку.
Ребенка тут же высекли ремнем, но слегка.
– Ну, теперь не будешь боярином, – гладя мальчика по головке, сказал Разин. – Сеченый – что за боярин! А теперь отвезите Сеченова к матери.
Под раскатом кто-то шел и пьяным голосом распевал:
Поставлю я келью со дверью,
Стану я Богу молиться.
На Красную горку носиться.
Чтобы меня девки любили,
Крашоные яйца носили.
Или-или, или-или, или!
Крашоные яйца носили!
– Да это никак Никифор? Ах, горемыка!
Это и был действительно царицынский соборный протопоп. После ужасной смерти дочери он пристал к казакам и с горя стал пить.
XXXV. С самим встретиться
Был уже сентябрь месяц на исходе.
Воин Афанасьевич Ордин-Нащокин, с успехом исполнив возложенное на него царем трудное поручение по сбору ратных людей с привятских и прикамских волостей, находился уже в Казани в распоряжении воеводы Барятинского{8}8
Барятинский Юрий Никитич (? – после 1682) – князь, воевода. За усмирение бунта Стеньки Разина был пожалован в бояре.
[Закрыть] и ожидал со дня на день выступления в поход, когда рано утром, сидя на берегу озера Булака, куда он ходил, чтобы размыкать свою тоску, к нему подошла старая цыганка и, вглядевшись в него, таинственно проговорила:
– О чем закручинился, добрый молодец? Коли о том, что на Москве, так ту кручину я руками разведу, а коли о том, что случилось в Астрахани, так и к той кручине я ума-разума приложу.
Воина поразил этот двойственный намек цыганки.
– А ты почем знаешь о моей кручине? – спросил он.
– Черная птица всюду летала, всюду все видала и добрым людям помогала; поможет и тебе черная птица, добрый молодец, – по-прежнему таинственно отвечала цыганка.
– Чем же она поможет мне?
– А кручину с сердца сымет, а замест кручины радость положит; а та радость астраханской кручине сродни будет, а тебе, добрый молодец, вдвое сродни, – все так же загадочно отвечала цыганка.
Суеверный страх внушали Воину эти слова, он был сын своего века и верил в чудесное, как Аввакум верил тому, что он беса из-под печки выгнал и скуфьей бил.
– Что ж, ты судьбу мою покажешь мне? – спросил он нерешительно.
– Покажу, – отвечала цыганка. – Ты видишь в озере вон то белое оболочко?
Она показала на воду.
– Вижу, – отвечал Воин.
– Так я и судьбу твою вижу из глаз твоих: вон Арбат, а вон Веницея-град, вон, вон, с ободочком все уплыло, и вот новая судьба плывет…
Воин вскочил с места: ему казалось, что он видит сон.
– Почему ж Веницея? – спросил он.
– Не знаю, так мне черная птица говорит… А слышишь, как кто-то «Не белы-то снежки» поет и плачет?
Воин испуганно перекрестился.
– Чур! Чур! Сгинь-пропади!
– Полно, добрый молодец, не чурайся! – улыбнулась цыганка. – Ты думаешь, что я бес? Нет, на мне крест, видишь? – И она показала висевший у нее на груди крест.
Воин чувствовал, что им овладевает какая-то таинственная сила, и сила эта исходит от этой неведомой женщины. Но в то же время рассудок говорил ему, что из него хотят что-то выпытать, для чего? Для кого?
Вследствие этого он сам решился выпытать из цыганки, что она действительно знает о нем.
– А ты знаешь, кто я? – спросил он.
– Знаю, кто ты был, и узнаю, кто ты есть, – был уклончивый ответ.
– Кто ж я был? – спросил Воин.
Цыганка посмотрела ему в глаза, потом стала глядеть на воду.
– Вижу: столовая изба, в ней царь сидит и бояре… Какие хохлатые люди! Большие… царску руку целуют… А после них тот, что на тебя похож, тож руку у царя целует… На Арбате в саду ночью соловей заливается, а красная девица в слезах потопает… Сгинул добрый молодец, пошел искать за море живой и мертвой воды… Не нашел живой воды, кручину нашел… Томится добрый молодец, что птица в клетке: и дверцы отворены, и крылья есть, да летать страшно, коршуны кружат в небе… И запела пташечка: «Не белы-то снежки…» Плачется добрый молодец на свою горькую судьбину…
Цыганка остановилась, а Воин, казалось, все еще слушал ее: перед ним проходила вся его жизнь. Но в то же время он ясно видел, что эта женщина действительно много знает: несомненно, что ей известны главные моменты из последних лет его жизни. Но откуда она могла узнать все то, что известно только ему одному да его жене? И он решился выпытать, что еще ей известно.
– Хорошо говорит тебе твоя черная птица, – сказал он после небольшого раздумья. – А што она еще скажет тебе?
– Вижу, вижу, – заговорила она снова таинственно, – вон опять плывет оболочко в воде, и затем за ободочком летит из-за моря пташка… Откуда ни возьмись коршуна, и пымали бедную пташку… Опять пташка в полону… Это не пташка, а добрый молодец в полону у польских людей… Польские люди спят, а слепые люди выкрадывают добра молодца, и добрый молодец очутился у хохлатых людей… Над Москвою оболочко… В Новодевичьем монастыре всенощная, и добрый молодец там ищет красну девицу, а во вместо красной девицы – черная черница!
Цыганка вдруг замолчала и, казалось, собиралась совсем уходить.
– Ну, что ж дальше было с добрым молодцом и с черничкой? – спросил с улыбкою Воин.
– Что было, сам знаешь, – неохотно, по-видимому, отвечала цыганка, – а вот что было:
Как и курочка бычка родила,
Поросеночек яичко снес,
А черничка да сынка привела….
Воин в волнении схватил ее за руку.
– Так это правда?.. У меня сын родился?.. Сказывай!
Но цыганка вдруг вырвалась и побежала берегом Булака в город.
– Куда ж ты? Погоди! – кричал ей вслед Воин. – Возьми денег за труд.
– Черной птице твоей казны не надо! – не оборачиваясь, отвечала цыганка и скрылась.
В странном смущении остался на берегу Булака Воин. Что от него нужно было этой цыганке? Несомненно, она из Москвы и кем-нибудь подослана. Но кем? От кого она могла узнать такие подробности об его жизни? Она сказала, что снимет с его сердца кручину, а вместо кручины даст ему радость. И эту радость она поведала ему: она прямо сказала, что та, которая была черничкой, привела ему сына. Неужели это правда? А они с женой почти четыре года кручинилися, что у них нет детей. Его Наталья думала, что неплодием наказал ее Бог за побег из монастыря. И вот она теперь мать… Ясно, что цыганка ею подослана. Но отчего ж она этого не сказала прямо? Отчего Наталья не уведомила его о себе? Ведь почти четыре месяца как он с нею расстался, а она ничем не дала о себе знать. Да и где было искать его, когда он мыкался все лето по Вятке да по Каме?
Да и бог знает, когда еще им придется свидеться. Вон какой пожар распустили по всей Русской земле! С Дону началось, с какого-то кабака, а вон куда зарево хватает, до Москвы до самой, до державного места! Астрахань, Царицын, Саратов, Самара, вся низовая сторона, все в огне. И полымя все дальше и все шире захватывает – до Белого моря дошло, до Соловок, до Пустозерска; Аввакума-де из земляной тюрьмы выручать пошли, патриарха Никона из Ферапонтова вывести хотят…
А какие «прелестные» грамоты рассылает вор по всему Московскому государству! Хана крымского с ордами зовет на Русь, персидского шаха в братья себе прочит, в Запорожье его воры мутят… Теперь все языки поднимаются, татарва, черемиса, мордва, чуваши… Нижний обложили…
Такие невеселые мысли бродили в голове Воина, когда он после встречи с цыганкой возвращался от Булака.
А тестя, князя Прозоровского, не воротить уж к жизни. А знает ли об этом Наталья? Дошло ли до нее, что отца ее уже нет на свете? Снизу, говорят, нет к Москве ни проходу, ни проезду: всюду пожар и кровь.
В тихом, ясном осеннем воздухе стелются по небу белые нити паутины… Вёдро, значит, еще долго постоит… Но вон и гуси длинною вереницею тянутся уж на теплые воды, за море…
Воин грустно покачал головой: ему вспомнилось его мыканье по белу свету, там, в заморщине… А тут он мыкался по Вятке да по Каме… дикая, бедная сторона, не то, что там; какие города, села! А здесь одна беднота, голод… Вот голодные люди и идут добывать себе хлеба либо смерти: им все равно помирать голодною смертью с наготы да с босоты…
«Женишка и детишка испроели», – правда, правда: Воин сам все это видел… Он все это доложит великому государю, когда Бог живым донесет его до Москвы. А там его ждет сынок, Наталья, да дождутся ли…
– А! Воин Афаиасьич! Здравствуй на многие лета, до конца века!
– Спасибо, Афанасий Ивлич, как твое здоровье?
– Сам себе дивуюсь, как еще на ногах Бог держит.
– Да, правда, Афанасий Ивлич, кручинно тебе было с этою тяготою на Вятке: шутка ли! Сто стругов снарядить в такую пору, когда все в нетях. Ну, слава богу, за тобой государево дело не стало.
Это встретил Воина товарищ по наряду на Вятке ратных людей для плавной государевой службы и по постройке там же ста стругов для Волги, Афанасий Косых, мужчина лет под шестьдесят, но еще бодрый, с редкою сединой в русой бороде.
– Ты откудова это теперь? – спросил Воин Афанасия.
– От воеводы, от князя Юрья: на завтра поход объявил против вора, и стружочки мои чтоб наутро отошли от Бакалды вниз до Симбирского с кормом и с зелейными запасы, а сам он идет на вора по сухопутью, – отвечал Косых.
– Так завтра? Ну, слава богу! – И Воин перекрестился, хотя у него на сердце заскребли кошки. «Шутка ли! С самим встретиться», – подумал он.
XXXVI. Мониста князя Юрия Барятинского
– Кажись, он, соколик, глазки открыл?
– И точно, матушка Ираида, смотрит: не подымет ли ево Господь?
– Не говори, матушка, на все Божья воля: уж коли меня, старца негодного, Бог вызволил с турецкой каторги да из Шпанской земли довел досюдова и сподобил меня приложиться к мощам святых угодников, преподобных Гурия и Варсунофия, так ево, воина Христова, поднимет Господь.
Этот разговор осторожным шепотом вели между собой старый инок в черной скуфейке с старенькою живою монашкою, черные живые глаза которой так, по-видимому, не ладили с ее сухим, темным морщинистым лицом.
Они сидели в просторной горнице, в окна которой проникал нежный свет загоревшейся на востоке зари. В той же горнице, на высокой кровати у стены, полузадернутой зеленым тафтяным пологом, лежал мужчина, по-видимому, тяжело больной. Голова его, обрамленная спутавшимися волосами, и мертвенно-бледное, с следами сильного загара лицо резко оттенялись от белой подушки.
Больной действительно открыл глаза.
– Где я? – слабо прошептали его запекшиеся губы.
Старый инок на цыпочках подошел к нему и осторожно нагнулся.
– А! – с горечью протянул больной. – Так я все еще в Веницеи… а мне чаялось…
– Нету, батюшка, ты не в Веницеи, а на святой Руси, – с нежностью сказал старый инок, – ты, должно, меня, старого пса, признал, што выкупил с полону, с каторги: тебе и мерещится Веницея.
– Так где ж я? – изумленно спросил больной.
– В Синбирском, батюшка, у боярина и воеводы Ивана Михайлыча Милославского в почивальне, – проговорил старый инок.
Больной закрыл глаза. Ему казалось, что все это сон. Но между тем в уме его вставали новые неясные образы. Эти запорожцы, которых он видел в столовой избе у царя. Но это сон: он во сне, будто бы в Казани, на берегу Булака видел цыганку, и она ему много наговорила и о сыне, и о запорожцах. Только теперь он видел их не в столовой избе и не у Брюховецкого, а где-то здесь, близко… И тот еще, самый большой, что упал в столовой избе, закричал: «Вот оно, аспидово отродье, сынок Ордина-Нащокина!» А вот сам Разин… Он помнит, как он этого самого вора Разина хватил саблей по голове… Да, все это сон, хотя он, кажется, и лежит с открытыми глазами…
– Он опять, соколик, открыл глазки, – слышит он шепот.
– Бредит, должно, в огне.
– Кто это говорит? – спрашивает больной, силясь поворотить голову.
– Я, соколик, – говорит монашка, подходя к нему робко.
– Опять цыганка! – слабо простонал больной.
– Я не цыганка, я старица Ираида, от Натальи Семеновны к тебе прислана.
– От Натальи? А где она?
– В Москве, соколик.
– Так это сон?
– Не сон, соколик, опомнись… Припомни, ты был в бою с вором Стенькою, тебя порубили в бою казаки воровские, и мы не чаяли видеть тебя в живых. А теперь, слава Господу, ты в память приходишь… Перекрестись, родной.
Воин – это был он – хотел было перекреститься и не мог, застонал: рука его была на перевязи; он был ранен.
Но эта боль заставила его вспомнить все или почти все. Рать воеводы и князя Юрия Барятинского из Казани подоспела к Симбирску в то время, когда симбирский воевода, боярин Иван Милославский, истомленный почти месячным сидением в облоге от воров, уже хотел было сдаться, отворить ворота в кремль. Разин с казаками и татарами стремительно бросился на царское войско. Завязалась отчаянная борьба…
Воин все вспомнил, но это был какой-то ад… гром пушек, гиканье налетевших на них казаков, аллалаканье татар, вышедших с топорами и рогатинами, все это смешалось в какой-то страшной картине…
Лично он вспомнил, как на то крыло, где он находился, ударили татары под предводительством мурз Багая и Шелмеско; потом в середину лавы врезался сам Разин с тремя запорожцами… Запорожцы узнали его, он узнал их… Но тут все смешалось в его уме: мелькнул белый конь под Разиным, готовый, кажется, раздавить Воина; но Воин махнул саблей и угодил в голову Разину… Больше он ничего не помнит.
Теперь Воин осмотрелся кругом сознательно. Да, это не сон, и то не был сон.
Около его постели опять стояли старый инок и цыганка в монашеском одеянии. В первом он узнал бывшего полонянина Варсонофия, которого он выкупил в Венеции.
– Ты как сюда, старче, попал? – спросил его Воин, все еще смутно сознавая свое положение.
– К тебе, батюшка Воин Афанасьич, приплелся я с Москвы, – отвечал старик, – тебе отслуживать за мою волю, што ты дал.
– Как же ты узнал, что я здесь?
– Я с тобой, батюшка, с самой Казани.
Воин недоумевающе посмотрел на монашенку.
– А меня прости Христа ради, батюшка Воин Афанасьевич, за Казань, – сказала она, низко кланяясь. – Я не цыганка: я старица Ираида из Новодевичьей обители.
– Для чего ж ты в Казани цыганкой прикинулась? – спросил Воин с удивлением.
– Так, батюшка, приказала Наталья Семеновна, – отвечала монашка.
– Моя жена?
– Она самая, батюшка.
– А для чего? – еще с большим удивлением спросил Воин.
– Ее спытай, батюшка: ее это воля была, – отвечала монашка. – Для-ради ее супокою мы вот с Варсунофьюшком и пошли искать тебя, потому нас, людей божьих, старцев, кому охота обижать? А пошли она гонца с грамоткою, и по нонешнему времечку ему бы не сносить своей головы: ноне и царских гонцов по дорогам воры вешают. А мы што? Мы та же каличь, нишшая братья убогая, с нас нечево взять. А мы-то с Варсунофьюшком в бродячем деле дотошны: он, сам ведаешь, с самой бусурманской веры, да с Шпанской земли доплелся до Белокаменной; а я, родимый, с той самой поры, как нас с инокиней Надеждой, што ноне твоя благоверная, отпустила мать игуменья из Новодевичья за мирским сбором и как инокиня Надежда из Успенского собору ушла к тебе, с той поры и я все брожу по свету, по угодничкам; и киевским угодничкам маливалась, и самово етмаиа Брюхатово видала, и соловецким угодничкам, Зосиме – Савватею, маливалась же, да и у казанских чудотворцев, у Гурия и Варсунофея, святые раки лобызала. Там мы с Варсунофьюшком и тебя, соколика, сустрели, да за тобою, как псы верные, и сюда прибрели. А все для-ради суиокою матушки Натальи Семеновны. И цыганкой-то я обернулась для-ради ее же благополучия. А ноне вот Бог привел и за тобой походить. Как это пришел под Синбирской с ратными людьми с Казани князь Барятинский, и ты, батюшка, с ним же пришел, да как учинился у вас смертный бой с вором и антихристом Стенькой, с утра до ночи бой шел, а мы, ни живы ни мертвы, ждем, чем кончится, коли к ночи слышим: побили-де царские рати вора Стеньку наголову, и сам-де он бежал в малом числе, и голова-де у него перевязана, саблей рассечена, и рассек-де ево, сказывают, Воин Ордин-Нащокин, а сам-де Воин убит лежит. Как услыхали мы это, батюшка, Воин Афанасьич, что ты мертв лежишь, мы и света божьяво за слезами невзвидели. Коли слышим: жив-де еще Ордин-Нащокин, токмо зело порублен. И велел тогда воевода и боярин Иван Михайлович Милославский снести тебя, голубчика, к ему в палаты и лекаря к тебе приставил, а нас во хожалок место. И был ты все без памяти который день, а ноне вон Божиим изволением в себя пришел.
Монашка радостно при этом перекрестилась на иконы. Перекрестился и старик Варсонофий.
– Так вор Стенька, сказываете, разбит? – спросил Воин с просветлевшим взором.
– Разбит начисто, батюшка Воин Афанасьич, – в один голос отвечали старица и старец, – и тою же ночью бежал.
– Бегу яся, несолоно хлебавши, – добавил Варсонофий, – а клевреты его, што не успели бежать, вон все висят на виселицах вдоль берега, ишь какое ожерелье изнавешено их! – И старик показал рукою в окно.
– И запорожцев повесили, тех, что с тобой вместе, батюшка, в столовой избе у государевой руки были, Гараську, да Пашку, да Мишку, – добавила старица Ираида.
– Дай татарские мурзы Башай да Шелмеско, што государю челом били на государевых воевод, и они повешены ж, – присовокупил Варсонофий. – А этот мурза Багай, сказывали, мало не заколол боярина и воеводу Ивана Михайловича Милославского: мы, говорит, помираем голодной смертью, с наготы да с босоты, а вы, говорит, вон какие жирные, дак ево ратные люди с коня сбили и связали, а ноне вон он болтается у самой Волги, што твоя колода.
В это время в опочивальню, в которой лежал раненый Воин, вошел пожилой мужчина с окладистой бородой и широкой лысиной ото лба. На нем было богатое боярское одеяние.
– Ба-ба-ба! – весело заговорил вошедший. – Да кажись, наш богатырь Илья Муромец в добром здоровии.
– Спасибо, боярин Иван Михайлович, по милости Божьей, сам видишь, я очнулся, – отвечал Воин.
Вошедший был боярин и воевода симбирский Иван Михайлович Милославский.
– Слава богу, слава богу! – продолжал боярин. – Надо тотчас же еще гонца послать, родителя и супругу твою порадовать весточкою, што ты в себя пришел, наконец. Да и великий государь рад будет такой вести: вить ты саблей огрел вора прямо по башке, зело добре назнаменовал!.. Может, от твоего знаменья он, вор Стенька, и плечи нам показал: бежал, аки тот Святополк Окаянный.
– А где воевода князь Юрий? – спросил Воин.
– Да все еще монистом своим занят, – с улыбкой отвечал Милославский.
– Каким монистом, боярин? – удивился Воин.
– Да воров нанизывает на веревки, шутка ли, более шестисот зерен жемчугу бурмицково нанизал уже на свое монисто… Самые крупные зерна у нево – три запорожца, што еще с Брюховецким воровали, да двое мурзишек татарских, Багайка да Шелмеско, кои всю татарву да черемису на нас подняли, знатное монисто! Есть чем похвастать князю Юрью… А не подоспей он, я бы попал в монисто к вору Стеньке… Никто как Бог!