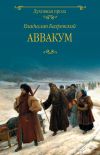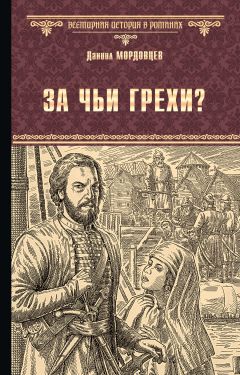
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
XVII. Только бы видеть его
После душевного потрясения, бывшего причиною обморока за всенощною, инокиня Надежда, перенесенная из церкви в свою келию, придя понемногу в себя, почувствовала глубокую, все ее существо охватившую радость. Она помнила только, что он не умер, что она не была причиною его смерти, не убила его, как казалось ей прежде. Он живет, он будет жить. Она будет думать о нем, будет знать, что он есть на свете, видит и землю, и небо, и солнце, а она будет молиться о нем, чего же ей больше!
Она встала со своего скромного ложа и стала молиться. Она теперь в первый раз почувствовала сладость молитвы. Теперь ей есть о чем молиться, и какою молитвою! Высшими степенями молитвы!
Матушка-игуменья, часто беседовавшая с нею о молитве, сказывала, что молитва не одна живет, а есть три степени молитвы: первая степень – это «прошение», просить Бога о чем-либо, о ком-либо, о себе, о прощении грехов, о душевном покое и т. д.; вторая степень, высшая, это «благодарение», благодарить Бога за то, что он дал нам жизнь и хлеб насущный, и душевный покой, что он печется о нашем здоровье, что он все дает нам по нашему «прошению»; это молитва человеческая; но есть еще высшая степень молитвы, молитва ангельская: это «славословие»; славословят Бога ангелы на небесах да святые угодники. Этой же благодати удостоены иноки и инокини, потому что они восприяли ангельский чин и носят ангельский образ. Монашествующие, удостоившиеся высшей благодати, ангельского чина, должны только славословить Бога, а просить и благодарить могут только за других. О чем им просить за себя? Они все имеют, даже больше, они сопричислены к ангельскому чину!
Теперь юная инокиня Надежда поняла всю глубину поучений матушки-игуменьи. Ей хотелось не только благодарить, но не за себя, а за него, что он жив, что он может жить; но ей теперь хотелось славословить!
И она, радостная, сияющая, распростерлась перед киотой, откуда глядел на нее кроткий лик Спасителя, и славословила, славословила! Ей казалось, что она действительно стала ангелом, она трепетала от счастья, поднималась с полу, поднимала к небу свои нежные руки, точно крылья ангела, и, казалось, неслась в пространстве, неслась все выше и выше, такая легкая, воздушная… Она чувствовала за собою веяние своих крыльев, чувствовала, как она рассекала воздух своим легким телом, и славословила: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы твоея!»
Это была какая-то детская радость, чистая, невинная. Расплетенная коса опутала прядями всю ее белую сорочку; ее босые ножки не чувствовали прикосновения к холодному полу; сорочка спустилась с плеч…
Но вдруг она опомнилась. Она, босая, в одной ночной сорочке, с распущенными и растрепанными волосами, она славословит Бога! Ей стало и стыдно, и страшно. Матушка-игуменья говорила ей, что на молитву надо приступать с благоговением и непременно в ангельском одеянии, чинно… А она вскочила с постели чуть не нагая и, как неистовая, поднимала руки, радовалась, трепетала от счастья, летела по небу!
Смущенная, она робко отошла от киоты, оделась снова вся, как бы к выходу в церковь, причесала и заплела косу, надела клобук и стала молиться смиренно, тихо, чинно.
Но теперь внутри нее клокотала радость, и она, сама того не сознавая, славословила Бога так же страстно, как и за несколько минут перед этим, когда она была в одной рубашонке и босая.
Наплакавшись потом счастливыми слезами, она уснула, как ребенок, не успев даже вытереть мокрые глаза и щеки.
И какие грезы окутали ее спящую! Такого высокого блаженства, такого счастья, от которого дух захватывал, она никогда не испытывала в жизни… Что-то сладостное до истомы, до изнеможения…
Когда она потом утром проснулась и вспомнила томительно-сладостные ощущения ночной грезы, когда ее, уже бодрствующую, охватила эта истома, смутное сознание чего-то невыразимо блаженного, совершившегося с нею, помимо ее воли, в сонном мечтании, «в тонце сне», она вся вдруг зарделась от стыда и счастья, больше от счастья, вся затрепетала… и расплакалась, расплакалась, как ребенок, у которого отняли что-то очень дорогое…
Она долго не могла встать с постели; ей не хотелось покинуть сейчас это теплое ложе, где ночью, в сонном мечтании, она ощутила что-то такое, чего с нею еще никогда не бывало в жизни… И это ощущение, это блаженство он ей дал, он и видимый и невидимый, и осязаемый и неосязаемый…
Когда затем она встала, тщательно, тщательнее, чем когда-либо, причесала, заплела косу, оделась в свое ангельское одеяние и стала молиться, она молиться уже не могла, не умела, не умела и не могла ни славословить, ни благодарить, ни даже просить. Она повторяла какие-то слова, потерявшие для нее силу и смысл, и, распростершись на полу перед киотою, думала только о нем: он здесь, в Москве, он так близко от нее.
Она приподнялась на колени и стала смотреть на лик Спасителя, такой кроткий, милостивый. Она хотела думать только о Спасителе; но его божественный лик мало-помалу затуманивался в какой-то дымке и исчезал, а вместо него вставала ночная греза, сладостное видение…
В этом положении застала ее мать-игуменья. Худая, маленькая, вся сморщенная старушка, но с живыми серыми большими глазами, она, казалось, видела все насквозь. Она пришла навестить свою любимую духовную дщерь, носившую прежде знатное, но суетное имя княжны Прозоровской. Вчерашний обморок и испугал и огорчил мать-игуменью. Она знала, как усердна была к своим обязанностям юная инокиня Надежда, как горячо она всегда молилась в храме, какая она была постница, и старушка думала, что юная черничка, не привыкшая к суровому монастырскому уставу, изнеженная в родительском доме, что она испостилась и изнемогла.
– Молись, молись, дщерь моя, – сказала она, входя в келью юной отшельницы и видя, что она встает с колен, – доканчивай молитву.
– Я кончила, матушка, – сказала девушка, подходя к руке игуменьи.
– Ну что, дитя мое, оправилась после вчерашнего-то? – спросила старушка.
– Оправилась, магушка.
– Ну и благодарение Создателю. Душно вчера в церкви-то было, ты же усердно, я видела, молилась; ну и сомлела. Это Он тебе зачтет, Отец небесный. Что наша жизнь? Тлен и прах: там наше житие, о нем надо думать, о вечном житии.
Теперь почему-то юная черничка смотрела на старушку с каким-то сожалением. Неужели вся ее жизнь протекла в этом? Неужели она…
И девушка почувствовала в душе своей холод, холод от этих стен, от окна с железною решеткою, от всего этого черного, мрачного.
Когда игуменья ушла, девушке стало как будто бы легче. Но это ненадолго.
Что-то холодное и безнадежное стало шевелиться у нее в душе и расти, расти! Вчерашнее блаженное состояние прошло. Тогда отуманило ее счастье сознания, что он жив, что она его видела. Но теперь она начала сознавать, что потеряла его навсегда, потеряла радость и счастье всей своей жизни. Для чего теперь ей жизнь? Чтобы ожидать другой жизни? Но для нее теперь не было другой жизни, кроме этой, кроме той, от которой она, в ослеплении горя, сама бежала. Но тогда она готова была убежать в могилу, не только в эти мрачные стены. А теперь вдруг все прошло! Все, все, и не для нее!
Где искать помощи? В молитве? В молитве? Но после вчерашнего молитвенного порыва она не могла больше молиться. Какою «степенью» молитвы могла она теперь молиться? «Славословием»? Но вчерашнее уже не повторится, оно прошло. Ей вчерашнего мало, ее душа требует большего. «Благодарением»? Но за что же ей благодарить? За то, что она сама оборвала нитку своей жизни? Благодарить! Нет, и эта степень молитвы отнята у нес, но кем? Она сама ее утратила. Остается «прошение». Но о чем просить, когда ничего уже воротить невозможно.
Где же помощь? К кому обратиться?
Она опять подошла к киоте и стала смотреть на лик Спасителя. С какою тоской она смотрела на этот кроткий, всепрощающий лик!
«Он всех прощал, – шевельнулось у нее в душе, – простил разбойника, простил ту бедную жену, которую хотели побить каменьями, а Он простил ее за то, что она много любила…»
И она любит!
Девушка с ужасом поняла, что теперь монастырь стал для нее ненавистен. И так быстро совершился этот переворот в ее душе! Она ненавидит его, как тюрьму, лишившую ее света, счастья. И чем дальше, тем больше она будет грешить этим чувством. Все равно душа ее погибнет, в монастыре ли или вне монастыря.
Но там, вне монастыря, он, который пришел вчера с того света, а ночью приходил к ней в видении, «в тонце сне». Там он и наяву придет, как тогда приходил к ней в сад, когда пел соловей и распускалась береза.
Девушка подошла к окну своей кельи, которое выходило на Девичье поле. Перед нею вставал Кремль, золотые маковки церквей, а там, невидимо, на Арбате, их дом, ее девичий терем, сад… Сирень давно отцвела, и соловей, и кукушка давно перестали петь…
Она отошла от окна и, припав лицом к подушке, горько плакала.
Но вдруг она увидела себя в церкви… он глянул ей в глаза… Как он похудел и постарел за то время, как она его не видела! Нерадостно и ему жилось…
Она услышала шорох за дверью. Вздыхая и крестясь, в келью вошла ее бывшая мамушка. Что-то родное, далекое, навеки потерянное напомнил ей этот приход старушки и дом отца, и ее светлый теремок, и тенистый сад со скамейкою, на которой он когда-то с нею сиживал.
Старушка с благоговением целовала руки своей боярышни.
– Что, мамушка, у нас дома? Что батюшка? – спросила юная затворница.
Старушка еще глубже вздохнула.
– Что, ягодка! Чему у нас быть хорошему? Тот же монастырь, – сказала она.
– А батюшка?
– Все то же; кручинится: осиротел он, как перст, один без тебя.
– А матушка и братцы не приезжали?
– Нету, родная; да они словно чужие для него.
Девушка хотела что-то спросить, но не решилась.
Ей все же хотелось заговорить о том, что ее терзало. Она заговорила стороной.
– А я, мамушка, вечор у всенощной сомлела, – сказала она.
– Господь с тобой! – встревожилась старушка. – С чего это, ягодка?
– Должно быть, от жару и ладанного духа… Я так с блюдом и грохнулась… И как бы ты думала, знаешь, кого я увидела в церкви?
– Ково, золотая моя?
– Воина Афанасьича… Я, может быть, с тово и сомлела: сказывали допреж того, что он пропал без вести, либо помер, либо убит, так и поминали его… Каково ж мне было увидать ево, мертвеца-то, да прямо пред моими очушками! Я не спомнилась, как меня из церкви-ту вынесли.
Мамушка в знак сожаления качала головой и охала; но для нее не было новостью, что молодой Ордин-Нащокин отыскался. Ее тревожила мысль, как ее боярышня-черничка примет это известие.
Теперь она поняла, почему боярышня ее «сомлела» вчера… Теперь быть беде! Как-то она, голубушка, перенесет это? Затем старушка и явилась в монастырь.
– Не след было ему приходить сюда! – сказала она строго.
– Для чево ж, мамушка, не прийти и сюда? Никому не заказано молиться.
– Не заказано-ту, не заказано, – качала укоризненно головой старушка, – да только смущать-ту чистую душеньку грех, ох, грех какой!
– Да это, мамушка, я испужалась только сразу, а вдругорядь не испужаюсь.
– А думать станешь, мысли пойдут мирские…
– Что ж, мамка, о мирском-ту и молиться.
– О-хо-хо! – качала головой мамка. – Смущать-ту грех.
Юная черничка в душе не соглашалась с этим. Как? Отказаться даже от того, чтобы его видеть иногда, когда можно! Одно, что осталось у нее, это видеть его, как видеть иногда вот ее, мамку, отца, и вдруг отказаться даже от этого?!
Но она не знала, что теперь, правда, достаточно только видеть его иногда; но скоро этого будет недостаточно. Она не знала, какое зерно заброшено было вчера в ее душу, что вырастет из этого зерна…
– Нет, нет! Только бы видеть его! Только бы знать, что он…
С большой тревогой старушка возвращалась из монастыря в город.
XVIII. Она больше не черница
Не в меньшем волнении, как и юная черничка, возвратился от всенощной Воин Ордин-Нащокин. Только волнение его было иного рода. После мгновенной радости и потрясения, какие испытал он в момент встречи с бывшей невестой, когда она узнала его и от радости или от неожиданности упала в обморок, им овладело глубокое отчаяние. Этот обморок доказал ему, как много она любила его, а быть может, и теперь любит. Что ж ему из этого? Сознание, что она любит его, еще более увеличивало в глазах его цену понесенной им утраты. Страдания, причиняемые этим сознанием, усугублялись еще мыслью, что его тогдашняя безумная вспышка столкнула ее в бездну отчаяния. Что тогда стоило выждать месяц-другой, наконец, целый год при спокойной уверенности, что ожидаемые им минуты полного блаженства только отсрочены? А что он сделал? В ослеплении минутной страсти он сам разбил свое счастье. Он тогда бросил ей в глаза не заслуженный ею укор: «Жди другого суженого!»
И она нашла его под саваном черницы…
Что ж ему оставалось теперь делать? Тогда впереди у него было что-то, много было впереди! Видеть чужие земли, все чудеса заморщины, сбросить с себя родительскую опеку, забыть на время постылую Москву: целый океан неизведанного был у него тогда впереди! И он изведал все это и кончил тем, что плакал в гондоле, в Венеции, когда вспоминал об этой самой Москве, о брошенной в ней невесте и пел «Не белы-то снежки», глотая слезы раскаяния.
И вот теперь… Нет, так оставаться нельзя! Теперь для него Москва – пытка: от нее так близок Новодевичий монастырь!
Теперь надо стараться забыть ее, похороненную в стенах монастыря. А как забыть? Где?
Он теперь знал, где: где люди умирают под свистом пуль и стрел. Он пойдет гуда, к запорожцам, к Брюховецкому, к Косатову, что воюют теперь с поляками, его лютыми врагами, отравившими ему жизнь своею польскою наукой, отнявшими у него счастье, любовь к родине.
А сложит он там голову, тем лучше! Слишком уж тяжело стало носить ее на плечах. Да и кому она нужна? Отцу? У него на плечах государские заботы. Ей? Все равно ей не обнимать уж, не целовать эту буйную головушку, как когда-то она целовала ее.
На другой же день он сказал о своем решении отцу. Старика удивило это внезапное решение: всего дней пять как воротился из долговременной отлучки, после скитаний по чужим землям, и вдруг опять покидать Москву!
– Хочу заслужить вины пред государем! – одно твердил он на все доводы отца. – Лягу костьми в поле ратном либо со славою возвращусь, дабы тебе не краснеть за блудного сына.
Решение это в то же время и радовало старика… «На путь истинный возвращается малый», – думал он и доложил об этом государю.
И Алексея Михайловича обрадовало это решение молодого человека. Он полюбил его, как сына, особенно после его чистосердечного раскаяния в своем опрометчивом поступке. Отца же, старика Афанасия, он давно любил и высоко ценил его государственный ум.
Он велел Воину явиться к нему попросту, не во время смотра и купанья запоздавших стольников, а в его образную и в то же время рабочую горницу, по-нынешнему – в свой кабинет, смежный с молельнею государыни.
Царь принял Воина милостиво, хвалил за доброе решение.
– Хощу вины свои заслужить перед тобою, пресветлый государь! – повторял и здесь то же самое Воин, что говорил и отцу. – Либо положу свою голову в ратном поле…
– Зачем же? – ласково перебил его государь, любуясь мужественной его осанкой.
– Батя! Ты знаешь, мы от рода римского кесаря Августа.
Это стрелой влетела в отцовскую рабочую горницу царевна Софья, думая, что отец у себя один, и остолбенела, вся вспыхнув: серебристый голосок ее оборвался на «Августе».
Она стояла с тетрадкой в руках, как зайчик, застигнутый врасплох.
Воин низко поклонился ей.
– Что? Что? – с любовною улыбкой глядел на нее Алексей Михайлович. – От рода кесаря Августа, говоришь?
– Да, батюшка государь, – несколько оправившись от смущения, проговорила она и взглянула на Воина.
Заметив, что статный молодой человек любуется ею, она стала смелей.
– Откудова ж ты это узнала, всезнайка? – спросил отец, продолжая любоваться девочкой.
– А вот в этой книге написано, – прозвенела она и подошла к отцу, – вот, читай: «Выписано из жития преподобного Нила, Столбенского Чудотворца…»
– Ну, читай ты, у тебя глазки лучше моих: а тут так бледно написано, – сказал Алексей Михайлович, гладя головку дочери.
– Вот! – И Софья прочла: – «Прииди во обитель преподобного Нила…» Ах! – остановила она себя. – Не с того листа начала… Это о некоей девице, не о кесаре Августе.
Алексей Михайлович рассмеялся и повернул девочку лицом к себе.
– Ты чтой-то путаешь, торопыга.
Софья вспыхнула: она не хотела показаться смешной перед молодым человеком, который ей нравился, когда она была еще совсем «чюпишная», а теперь уже ей почти четырнадцать лет.
– Нет, не путаю! – Она перевернула лист. – Вот: «Грань десятая, глава вторая. В лето проименитого и самодержавного царя и великого князя Владимира, просветившего всю Российскую землю святым крещением, в храбрости великого князя Святослава, внука самодержавного Игоря и достохвальные в премудрости блаженные великие княгини Ольги правнука Рюрекова…»
– Рюрикова, – поправил ее отец.
– Нет, Рюрекова! – настаивала упрямая девочка. – Тут так написано! Смотри.
– Ну, добро, – согласился отец. – Читай дальше.
– «…первовладычествующего в Великом Новеграде и всей Русской земле, не худа рода бяху и незнаема, но опаче проименитого и славного римского кесаря Августа, обладающего всею вселенною, единоначальствующего на земли, во время первого пришествия на землю Господа Бога Спаса Нашего Иисуса Христа, иже нашего ради спасения изводи роди гися от безневестныя…»
Девочка остановилась и вопросительно посмотрела на отца.
– Что такое «безневестныя»? – спросила она.
– Это так Богородицу величают, – отвечал Алексей Михайлович.
– Для чего ж «без невесты»? – недоумевала Софья. – На что ей невеста?
– Ну, ин читай дальше! – перебил ее отец.
– «От безневестныя, – покорно продолжала юная царевна, – и пресвятыя и приснодевы Марии».
– Воистину так: при римском кесаре воплотился Сын Божий, при Августе, – заметил Алексей Михайлович. – А вот Воин и сам был в Риме, – указал он на молодого человека.
Юная царевна так, кажется, и облила его с головы до ног светом своих ясных глаз.
Воин скромно улыбнулся:
– Точно… сподобился… был в Риме и лобызал каменные ступени лестницы дома Пилатова, по ней же сводили на пропятие Спасителя, – пояснил он.
– А разве в Риме? – удивился Алексей Михайлович.
– В Риме, государь, – отвечал Воин, – ее перенесли из Иерусалима крестоносные рыцари.
– Эка святыня какая, Господи! – покачал головою царь. – Ну, что ж кесарь Август? – обратился он к царевне.
Та в это время так и пронизывала своими лучистыми глазами молодого Нащокина. «Шутка ли! В Риме был, вон этими губами целовал лестницу Липатову, следы Христовых ножек», – казалось, говорили ее глаза.
Слова отца заставили ее опомниться. Она нагнулась к книге.
– «Сей кесарь, – начала она снова читать, – Август раздели вселенную братии своей и сродником, ему же быта присный брат, именем Прус, и сему Прусу тогда поручено бысть властодержательство в березех Висле реке град Мовберок[8]8
Малборк, Мариенбург. (Примеч. автора.)
[Закрыть] и Турок[9]9
Торун, Торн. (Примеч. автора.)
[Закрыть] Хваница (?) и преславный Гданск, и иные многие городы по реке глаголемую Неман, впадшую, иже зовется и поныне Прусская земля; сего же Пруса семени отъята вышереченный Рюрек и братия его; егда еще живяху за морем, и тогда варяги именовахуся и из-заморья имаху дань на чюди, то есть на немцех и на словянех, то есть на новгородцех, и на кривичех, т. е. на торопчанех»[10]10
Из старинной рукописи, принадлежащей автору, а прежде принадлежавшей «лейб-гвардии Преображенского полку бонбордирской роте от мушкетер каптенармусу Михайле Голенищеву-Кутузову». (Примеч. автора.)
[Закрыть].
Кончив чтение, Софья Алексеевна с торжествующим видом посмотрела на отца и на молодого Ордина-Нащокина.
– Так вот откудова мы родом, – улыбаясь, сказал Алексей Михайлович, – а я думал, что мы простого роду; а оно вон куда махнуло, в родню с кесарем Августом! Не махонька у нас роденька! А где ты взяла эту книгу? – спросил он.
– Симеон Ситианович Полоцкой принес мне, – отвечала царевна.
– Балует он тебя, я вижу.
– А потому и балует, что я хорошо учу все уроки.
– Добро, добро! Ты у меня умница! Иди же к матери.
Алексей Михайлович погладил дочь по головке, и царевна, поцеловав у отца руку, вышла из горницы, с улыбкой кивнув головой Дойну.
Скоро государь отпустил и этого последнего, пожаловав к руке и пожелав ему счастья на ратном поле.
Три дня Воин лихорадочно готовился к отъезду: выбирал лошадей, накупал нового оружия, заказывал дорожное и боевое платье.
А на душе у него было очень тяжело. Хотел он было еще раз съездить в Новодевичий монастырь ко всенощной, но решимости не хватило: «Увижу ее, и все прахом пойдет…»
На четвертый день утром, когда отец заседал в царской думе, Воину доложили, что его желает видеть монашка из Новодевичьего. Сердце у него дрогнуло при этом слове. Но он велел впустить: «За сбором, должно быть, в монастырь».
Но сердце у него так и колотилось. Он встал.
В дверях стояла она в своем монашеском одеянии, бледная-бледная…
Он протянул к ней руки. Она бросилась к нему, да так и повисла у него на шее.
– Милый мой! Суженый мой! – шептала она и плакала.
Он сжимал ее в своих объятиях.
– Милая! Наташечка! Да как же ты?
– Я совсем к тебе, совсем! И до гробовой доски! Я твоя… бери меня, как знаешь… в жены, в полюбовницы… все равно я пропала, погубила мою душеньку… Я только твоя, твоя!
– А монастырь?
– Не черница я больше! Не Надежда! Я твоя Наташа! Твоя вся! Вся!
Он ласкал ее, шептал всевозможные нежные слова, целовал ее светло-русую головку…
Клобук ее упал с головы на пол. Она больше не черница.