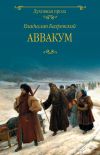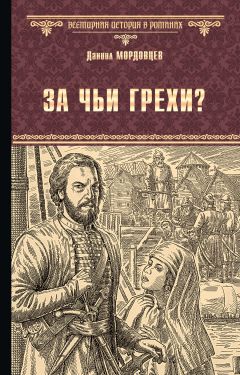
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
XXX. Струги с мертвой кладью
Разин между тем делал распоряжения о встрече стрельцов, которые плыли сверху на защиту как, собственно, Царицына, так и других низовых городов.
Все свое «толпище», как иногда называли в казенных отписках его войско, он разделил на две части: одну половину, меньшую, под начальством Васьки Уса, он оставлял в городе, с другою, большею, он сам выступил для встречи московских гостей и для усиления отряда, находившегося на его флотилии.
Есаул должен был выстроить свой отряд вдоль городских стен, обращенных к Волге, и всю крепостную артиллерию расположить так, чтобы она могла обстреливать всю поверхность Волги вплоть до небольшого островка, лежащего как раз против Царицына и заросшего густым тальником и верболозом.
Лодки же, на которые он посадил часть пехоты, он приказал отвести за островок и там укрыть их за верболозом. Он это сделал для того, чтобы когда стрельцы, подплыв к городу и встретив там артиллерийский огонь с крепостных стен, вздумают укрыться за островом, то чтобы там их встретил не менее губительный огонь с флотилии, которая и должна была отрезать стрельцам отступление.
Сам же он с небольшим отрядом конницы пошел вверх, берегом, прямо навстречу московским гостям.
Скоро показались и струги с стрельцами. Издали уже слышно было, что стрельцы шли с полной уверенностью «разнести воровскую сволочь», и на первом же струге раздавалась удалая верховая стрелецкая песня, до сих пор раздающаяся по Волге от Рыбинска, в то время Рыбное, до Астрахани. Стрельцы пели:
Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке
Сизый селезень плывет!
Ишь ты, подишь ты, что ж ты говоришь ты, –
Сизый селезень плывет!
Но стрелецкое пение вдруг оборвалось, когда с берега казаки, среди которых было немало волжского бурлачья, гаркнули продолжение этой песни:
Вдоль да по бережку, вдоль да по крутому
Добрый молодец идет:
Он со кудрями, он со русыми
Разговаривает!
Ишь ты, подишь ты, что ты говоришь ты,
Разговаривает!
Увидев на берегу небольшой отряд, стрельцы направили свои струги ближе к берегу и открыли по казакам огонь. Казаки отвечали им тем же, и началась перестрелка.
По мере усиления огня казаки отступали, все более и более приближаясь к городу. Стрельцы из этого заключили, что казаки не выдерживают огня, и пустились за ними вдогонку.
Но в это время со стен города, о взятии которого стрельцы и не подозревали, открыли по стругам убийственный огонь. Пораженные неожиданностью стрельцы не выдержали артиллерийского огня и повернули от города, чтоб укрыться за островом, но там их встретила такая же убийственная пальба из засады.
Царское войско растерялось, поражаемое с двух сторон и ядрами, и пулями. Но стрельцы все-таки упорно защищались и только тогда, когда две трети их было перебито, стали просить пощады.
Разин велел прекратить пальбу и привести струги с остальными стрельцами к берегу.
Когда струги причалили к берегу, казаки стали считать убитых и насчитали более пятисот трупов. В живых осталось до трехсот стрельцов.
Они вышли на берег и кланялись победителю. Разин сказал им:
– Коли хотите служить мне, оставайтесь со мною, а нет…
– Хотим, хотим, батюшка Степан Тимофеич! – закричали побежденные. – Мы шли против тебя неволею… Прости нас!
– Добро, – сказал Разин, – оставайтесь с нами. А чтобы воеводам да боярам впредь неповадно было перечить мне, я им покажу, какая ждет их «широкая масленица». Атаманы-молодцы! – крикнул он казакам. – Снарядимте-ка два струга, которые будут залипшие, и изукрасим их, как вон в песне поется:
Хорошо были стружочки изукрашены,
Они копьями, знаменами, будто лесом, поросли.
А мы изукрасим их получше, поцветнее.
Казаки, по-видимому, не понимали его и ждали, что будет дальше. Тогда Разин указал на два морских струга из тех, которые им были оставлены прошлой осенью в Царицыне после морского похода и стояли теперь у пристани порожние.
– Вот что, братцы, – сказал он, – сносите всех убитых стрельцов на эти струга, сносите поровну, а там я скажу, что дальше делать. Помогайте и вы, ребята, – сказал он оставшимся в живых стрельцам. – А у ково в кармане сыщете деньги, сносите их есаулу, в дуван пойдут.
Все принялись за работу, не понимая, для чего это, и скоро оба струга наполнены были трупами. Разин взошел на один из стругов.
– Эх! – обратился он к трупам. – Жаль мне вас, горюны, да что делать! Коли лес рубят, то и щепки летят… А я, ох… какой лес задумал вырубить! Заповедной! Да хочу вырубить дочиста, чтоб и побегов не осталось. Ну, теперь, братцы, распоясывайте у мертвецов кушаки! – снова заговорил Разин.
Казаки повиновались. Когда было распоясано несколько десятков на том и другом струге, Разин остановил эту странную работу.
– Ну, довольно, братцы: есть чем изукрасить стружочки, – сказал он. – Теперь развешивайте мертвецов по всем снастям, вот как в Астрахани белорыбицу либо осетрину, а то и воблу развешивают вялить, да балыки провесные делают… Да чтоб понаряднее были, все бы снасти и мачты и шесты изнавесить боярскими балыками… Пущай любуются да кушают на здоровье… А я из них таких балыков наделаю!
Только теперь все поняли, к чему клонились эти странные распоряжения атамана.
И вот казаки и стрельцы принялись развешивать мертвецов, подвязывая их к снастям кушаками.
Страшную картину представляло это необычайное зрелище. Из Царицына все население высыпало смотреть на то, что делали казаки. Весь берег был усыпан зрителями.
А Разин ходил по стругу, иногда останавливался и задумывался, качал головою, как бы отгоняя назойливые мысли, и потом встряхивал кудрями и отдавал приказания:
– Выше, выше подвешивай! Да шапку набекрень надень… Так, так, ладно… Каковы балыки! Это я моему другу любезному, князю Прозоровскому… Пущай отпишет к Москве тестеньке своему Ордин-Нащокину, каковы-таковы казаки бывают. А то на! Перевести казаков, вольный Дон да Волгу-матушку перелить в Москву-реку да в Яузу… Захлебнетесь Доном да Волгою… Я вам не Ермак дался, не поклонюсь ни Доном, ни Волгою, ни казацкою волею, как тот поклонился царством сибирским: глуп был батюшка Ермак Тимофеич, не тем будь помянут… Да отольются волку овечьи слезки… Ей! Этово гладково на самый верх посадите, на палю, как вон у запорожцев да у турок делают, так, так, ишь важно на пале сидит! А то на, милостивая грамота… похваляем, а там и в бараний рог, как старца Аввакума… Нет, я вам не Аввакум!..
Когда ужасная оснастка стругов была окончена, Разин обратился к стрельцам:
– А кто ваши головы? – спросил он.
Стрельцы отвечали:
– Были у нас, батюшка Степан Тимофеич, пять голов с нами из Казани послано, да ноне в бою твоими казаками трое из них убиты до смерти, а осталось только двое, вот они.
Разин подозвал их к себе. Те стояли ни живы ни мертвы.
– Я всех начальных людей, и голов, и бояр, убиваю, – сказал Разин. – Вас я не трону: вы так головами и останетесь: одново из вас я посажу на один струг, другова на другой. Плывите в Астрахань с своими стрельцами, как плыли сюда из Казани, и кланяйтесь от меня астраханскому воеводе князю Прозоровскому и скажите, что я ему балыков посылаю… Вон какие осетры висят! Да скажите астраханцам, всякого звания людям, что я чиню расправу только над боярами да мироедами, а бедных людей не трогаю: бедные – мои братья, и все мы промеж себя ровня. Слышали?
– Слышали, батюшка Степан Тимофеич, – покорно отвечали стрелецкие головы.
– Так помните, что я вам сказал, и астраханцам всякого звания людям передайте мои речи от слова до слова, как я сказал, – заключил свою речь Разин.
– А теперь, – обратился Разин к казакам, – снесите на оба струга корму всякого и питья на неделю и больше тово, чтоб головам было чем дорогою кормиться. Живо!
Казаки бросились исполнять приказание атамана, и через несколько минут из города принесено было множество калачей, несколько окороков, балыков, копченой воблы и несколько бочонков вина.
– Это вам на корм, – сказал Разин головам, – голодны не будете. Да не перепейтесь дорогой.
Головы кланялись и благодарили.
– А чтоб вы не бежали с дороги, я вас обоих велю приковать, каждого к своему рулю, – пояснил Разин, – рулем-то вы будете править, а бежать не бежите… Гребцов вам не надо: сама Волга-матушка донесет вас до Астрахани. Эй! Атаманы-молодцы! Принесите две якорных цепи, да подлиннее, и прикуйте господ голов, каждого к своему рулю.
Казаки принесли две цепи и исполнили, что им приказывал атаман: одного стрелецкого голову поместили на одном струге с мертвецами и приковали, другого – на другом и тоже приковали.
Затем оба струга с мертвою кладью и с прикованными рулевыми отвели на середину Волги и пустили на произвол судьбы.
Струги тихо поплыли по течению…
Зрелище было до того ужасно, что многие стрельцы, те, что остались в живых, глядя, как уплывали их мертвые товарищи, горько плакали.
Разин долго провожал струги глазами и затем молча воротился в город.
XXXI. Страшная весть
Царь Алексей Михайлович, впечатлительный и мечтательный по природе, поэт в душе, говоря современным языком, очень любил всякую торжественную обрядность и «действо», вроде «пещерного действа», а впоследствии и «комидийных действ». Нравились ему и благочестивые зрелища с обрядовою обстановкою, и благочестивое, душеспасительное песнопение странников и «калик перехожих», и он охотно слушал духовные стихи о «богатом и убогом Лазаре», о «грешной душе».
И теперь, когда он занимался в своей образной горнице с дьяком Алмазом Ивановым, на заднем крыльце Коломенского дворца сидели двое «калик перехожих», о которых он слышал от царевен, и в особенности от царевны Софьи, что они поют разные «зело предивные стихи».
Дела были неотложные. С Нижней Волги с самого ее вскрытия не было вестей, а между тем ходили слухи, что Разин с Дону уже двинулся к Волге. Нужно было озаботиться о снаряжении на Волгу, «в плавную службу», как можно более ратных людей с верхней Волги и с Камы. Поэтому сегодня должен был выехать на Вятку с государевою «памятью» молодой Ордин-Нащокин, Воин, который с ратными людьми просился в Астрахань, на всякий случай, в помощь к тестю своему, к князю Прозоровскому.
Вот эту «память» и докладывал теперь царю Алмаз Иванов. О взятии Разиным Царицына и о разгроме посланных из Казани стрельцов до Москвы еще не дошли слухи, так как единственный путь для сношения с низовыми городами – Волга – был уже в руках у казаков, один отряд которых, посланный Разиным из Царицына вверх по Волге, овладел Дмитриевском, что ныне Камышин.
– Да, да, настали для нас «злы дни», – говорил Алексей Михайлович как бы сам с собою, пока Алмаз Иванов надевал очки, чтобы читать «память», – надо торопить с плавною службою. Ну, вычти…
Алмаз Иванов начал читать:
– «Лета 7179-го, майя 30 день, по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу, память Воину Ордину-Нащокину. Ехати ему на Вятку, для того: по государеву указу велено быти на государевой службе, в плавной, с боярином и воеводою, со князем с Юрьем Борятинским с товарищи, с Вятки ратным людем полтретьи тысячи человеком; да велено на Вятке для государевы плавныя службы сделати сто стругов».
– Сто стругов? Не мало? – спросил государь.
– В первую версту, государь, довольно, – отвечал дьяк.
– Добро. Ну?
Дьяк продолжал:
– «А послан из Казани для тех судов Офонька Косых. И Воину, приехав на Вятку, от дата от боярина и воеводы от князя Юрья Борятинскова с товарищи дьяку Сергею Резанцеву с товарищи ж отписку и говорити им, чтоб они собрали на Вятке ратных людей полтретьи тысячи человек тотчас, с вогненным и с лучным боем, и рогатины б у них с прапоры были; а были б ратные люди молоды и резвы…»
– Не то, что мы с тобой, – улыбнулся Алексей Михайлович.
– Где ж нам, государь, холопем твоим, тягаться с твоею государевою резвостью! – пробурчал дьяк свой придворный комплимент и продолжал доклад: «И из пищалей бы стрелять были горазды, а старых бы и недорослей в них не было. А как на Вятке ратных людей сберут, и Воину с теми ратными людьми ехати в Казань тотчас вешнею водою вместе, а Офонасью Косых со стругами велети ехати в Казань тот же час не мешкая, чтоб за тем государеве службе молчанья не было. А не пришлют с Вятки ратных людей вскоре, по государеве указу, всех сполна, а государеве службе учинитца за ними молчанье, и вятчан пошлют из прогонов и пеню им учинять по государеву указу».
Алмаз Иванов кончил.
– Быть по сему, – заключил государь. – Пущай же Воин едет без молчанья. Все доложил?
– Все, государь, – отвечал дьяк, собирая в сумку докладные свитки.
Дьяк откланялся и вышел, а государь отправился на девичью половину. Там в покоях царевны он застал постоянного посетителя девичьих покоев Симеона Полоцкого, который продолжал заниматься с любознательной царевной, а также приятельницу ее, молоденькую жену Воина Ордина-Нащокина, Наталью Семеновну, и Артамона Сергеевича Матвеева с своею юной воспитанницей, Натальей же Кирилловной Нарышкиной.
– А! И ты, старый, тут с молоденькими, – милостиво поздоровался государь с Матвеевым.
Матвеев стал замечать, что Алексей Михайлович, встречая иногда у дочери юную его воспитанницу, обращал на нее особенное внимание, и, казалось, она ему серьезно нравилась. Это и заставило его учащать к Софье Алексеевне с своею «царевною Несмеяною», как он называл ее за то, что она почти никогда не смеялась и хорошенькие глазки ее были всегда серьезны и задумчивы.
– Да вот, государь, моя-то царевна Несмеяна соскучилась по государыне Софье Алексеевне, я и привез ее, – отвечал Матвеев, кланяясь. – А я у нее и мамка, и нянька.
– Что же, дело хорошее, – заметил Алексей Михайлович. – Нам, старикам, чем же иным и быть, как не няньками?
– Помилуй, государь! – возразил Матвеев. – Не тебе бы это говорить, не нам бы слушать! Тебе, великому государю, самая верста жениться.
Алексей Михайлович поспешил замять этот разговор и обратился к Симеону Полоцкому.
– А слыхал ты, Симеон Ситианович, што ноне весной было трясение земли в Персиде? – сказал он, садясь около дочери.
– Сказывали, государь, – отвечал ученый белорус. – Был трус и в греках.
– А отчего оное трясение земли бывает? – спросил государь.
– Я знаю, батюшка, отчего, – отозвалась Софья.
– О! Да ты у меня всезнайка, – улыбнулся государь. – А ну-ну, расскажи.
– Оттого, – начала царевна Софья по-книжному, – егда ветры внидут в скважни под землю и паки оттуду исходити имут, и не могут поразится вон, и тогда от них бывает трясение земли.
– Так, так… Ну, а с чево эти скважни бывают? – допытывался государь.
– А с тово, где земля вельми жестока, тамо есть на всяком месте вода под тою землею в исподе, и егда та бездна водная подвизается от ветров и вон выразится вода жестокости ради земныя не может, тогда раздирает землю великою силою, и сице ту страну двизает, – скороговоркой проговорила Софья, как заученный урок[12]12
«Книга, глаголемая Лусидариус». (Примеч. автора.)
[Закрыть].
Симеон Полоцкий с любовью смотрел на свою ученицу – она не ударила лицом в грязь.
– Да, дивны дела рук Божиих, – задумчиво проговорил Алексей Михайлович; и потом, обратясь к молодой Ординой-Нащокиной, с улыбкой спросил: – А что, Наталья, будешь плакать, муженька провожамши на ратное дело?
– Я уж и так, государь, плакала, – вспыхнула молодая женщина. – Я бы и сама с ним, коли можно, к батюшке поехала.
– О-о! Прыткая! – улыбнулся государь. – А впротчем, што дивить! Уж коли матушки-игуменьи не испужалась, бежала к жениху, дак вора Стеньки и подавно не испужаешься.
Молодая беглянка еще больше покраснела. Но Софья Алексеевна замяла этот разговор:
– Что ж, батюшка, позвать калик? – сказала она.
– Позови, позови, – согласился Алексей Михайлович.
Царевна вышла и вскоре воротилась, но уже не одна: за нею, осторожно ступая, как бы опасаясь провалиться, вошли в светлицу два странника. Один из них, помоложе, был совсем слепой: волосы его, сбившиеся шапкой и никогда, по-видимому, нечесанные, падали на лоб и на слепые глаза. Другой был зрячий старик, но без правой руки. Войдя в светлицу, они разом поклонились земно, а потом, стоя на коленях, проговорили, осенясь крестным знамением:
– Благословение дому сему и всем обитающим в оном.
– Аминь, – набожно сказал царь. – Встаньте, странники, куда путь держите?
– К преподобным Зосиме – Савватию на Соловки, – отвечал слепец.
– А откуда Бог несет?
– С Астрахани, государь-батюшка.
Этот ответ произвел общее движение. Молодая Ордина-Нащокина даже привскочила на месте.
– Из Астрахани? – переспросил Алексей Михайлович. – А что там слышно? Что воевода, князь Прозоровский?
– Были мы, государь-батюшка, у воеводы, – отвечал зрячий, – он нас милостиво принял, отпустил с миром и с милостынею и велел помолиться святым угодникам о здравии рабы Божией Натальи.
– Батюшка, родной мой! – вырвалось у Ординой-Нащокиной.
– Да приказал еще воевода, – продолжал старший калика, – помолиться об избавлении града Астрахани от вора и супостата Стеньки Разина.
– А што о нем слышно, где он? Над кем промысл чинит? – встрепенулся Алексей Михайлович. – Оттудова давно нет вестей.
– Слышно, надежа-государь, сказывали, быдто вор город Царицын добыл и воеводу предал лютой смерти, – отвечал чуть слышно калика.
– Боже Всемогущий! – воскликнул Алексей Михайлович, бледнея. – Пощади люди твоя и грады и веси, всемилостивый Господи! Што ж еще слышно, сказывайте.
– Ох, надежа-государь! – заплакал старший странник. – Не слыхали мы, а сам я своими глазами видел злое дело ево, как и глаза у меня не ослепли от тово, што видели… Прошли мы это уж Енотаевский город и Черный Яр, идем Волгою, бережочком, коли слышим: птица эта каркает, воронье, да коршуны и орлы клекочут, аж страшно стало. Смотрю я: птица над Волгой тучею носится, так хмарою и застилает небо. Далее – более, надежа-государь, вижу я: кружит та хма-ра не то над высокими деревами, не то над островом каким, и то подымается хмара, то спустится к тем деревам. Дале-ближе, государь-батюшка, вижу я: то не дерева и не островы, а плывут по Волге как бы две посудины, не то расшивы, не то струги большие, а на снастях у тех стругов изнавешено что-то будто красное, а на том красном нонассло птицы видимо-невидимо: и коя птица стаями садится на те снасти, да на то красное, а коя птица хмарою кружит да каркает да клекочет, и уму непостижимо! Дале-ближе, надеженька-государь, вижу ясно: плывут два больших струга, а помосты-то у них, вымолвить страшно! – устланы мертвыми людьми, мертвец на мертвеце, и все то стрельцы…
– Стрельцы! – в ужасе проговорил царь.
– Стрельцы, надежа-государь, – продолжал калика, – сотни их там поналетано, либо и тысщи, и на снастях-ту все висят стрельцы: што их там изнавешено, и сказать не умею! А на всем этом трупе сидит воронье да орлы, да коршуны, и клюют те трупы, и дерутся промеж себя за добычу, и каркают, и клекочут, и тучею-хмарою кружат! Волосы ожили у меня на голове, надежа-государь, дыбом встали! Мы стоим, смотрим, да только крестимся. А струги все плывут тихо, все плывут. И слышим мы, надежа-государь, с тех стругов гласы человеческие: «Люди божьи! Помолитесь об нас, грешных, об рабе Божьем Ларивоне, да об рабе Божьем Панкрате: мы-де стрелецкие головы, посланы были с Казани с ратными людьми для сбережения низовых государевых городов, и супостат-вор Стенька над нами-де воровской промысл под Царицыном учинил и всю государеву рать мало не до единого перебил вогненным смертным боем, а нас-де, Ларивона да Панкрата, оставил в живых для тово: плыли бы мы, Ларивон да Панкрат, с мертвою государевою ратью и сказали бы воеводе, чтоб он скоро ждал к себе ево, вора Стеньки, приходу. А мы-де, говорят Ларивон да Панкрат, прикованы к стругам чепью».
Как громом поразила всех эта страшная весть. Алексей Михайлович, бледный, с дрожащими губами, растерянно озирался. Симеон Полоцкий крестил и дул в лицо молодой Ординой-Нащокиной, которая лежала в обмороке. Юная Нарышкина Наталья вся дрожала и плакала. Одна царевна Софья, по-видимому, не растерялась: бледная, с плотно сжатыми губами, она подошла к отцу, который как-то беспомощно шептал: «Злодей, злодей».
– Батюшка, касатик! – взяла она его за руку. – Пойдем… Созови сейчас думу… бояр всех, дьяков… За тебя станет вся Русская земля, за тебя Бог.
И как бы в подкрепление мужественных слов юной царевны, калики тихо, молитвенно запели:
Ой, у Бога великая сила…
XXXII. Братские похороны и поход
Струги с мертвой кладью достигли наконец Астрахани.
Этот страшный караван с мертвецами, расклеванными до костей хищными птицами, прежде всех увидели астраханские рыбаки, закидывавшие тони выше Астрахани. Как и калики перехожие, они не могли сначала понять, что такое плыло по Волге и почему над этим неведомым «что-то» тучами кружились и кричали птицы.
Но скоро и для них это «что-то», что-то страшное, стало понятным, особенно когда струги подплыли ближе и с них послышались слабые человеческие голоса, скорее два стона, исходившие от каждого струга. Приблизившись к ним на лодках, рыбаки, не смея взойти на страшные пловучие кладбища, от прикованных к рулям стрелецких голов узнали всю ужасную их историю. Невольные рулевые были чуть живы, но все еще настолько владели мускулами рук, что могли с трудом направлять свои струги по стрежню реки: они боялись приткнуться где-либо к берегу или к острову, чтоб не погибнуть голодною смертью за недостатком корма. Когда же они плыли мимо Черного Яра и Енотаевска, то жители как того, так и другого, узнав, что это за струги такие и какую они кладь везут, с ужасом уплывали от них к берегу.
Выслушав эту страшную историю, астраханские рыбаки тотчас же поспешили с ужасною вестью в город.
– Недаром тогда старый Илья Осипов из Рыбнова ряду сказывал, когда, летось, мы пымали тех ужастенных осетров, что послали тады одного государю-царю, другого святому владыке-патриарху, а третьим поклонились батюшке Степану Тимофеевичу, недаром, чу, Осипов сказывал, что с самой с той поры, как в Астрахани у нас царила Маришка-безбожница с Ивашкою Заруцковым, таких осетров в Волге не видывали, – говорил один старый рыбак, поспешая с товарищами в город. – Должно, и ноне будет господствовать над нами батюшка Степан Тимофеич.
– Дай-то Бог! – отозвался на это молодой пловец из защитников.
– Так-ту так, милый, може, и будет он государствовать, да надолго ли? – возразил старый ловец. – У бояр-ту на Москве сила немахонька.
Рыбаки тотчас же поспешили к воеводскому подворью.
Князь Прозоровский в это время объезжал у себя на дворе прекрасного карабахского коня, присланного ему из Испагании в подарок персидским купцом Сэхамбетом в благодарность за то, что в прошлом году, когда Разин ограбил на Каспийском море купеческую персидскую бусу, везшую поминки шаха царю Алексей Михайловичу, и захватил в полон ехавшего на этой бусе сына Сэхамбета, князь Прозоровский своим влиянием на Разина, смягченного тогда любовью к прекрасной Заире, способствовал выкупу из полона молодого перса.
Вместе с отцом упражнялся на дворе в верховой езде и старший сынишка князя, десятилетний княжич Степа, под руководством опытного наездника, пятидесятника конных стрельцов Фрола Дуры.
– Я теперь, батя, и свово тезки не испужаюсь, Стеньки Разина, – хвастался мальчик, трепля гриву своего смирного киргизского конька.
– О! Княжич! – улыбнулся его ментор, Фрол Дура. – Да Стенька теперь тебя сам испужается: вон какой ты ратник, страх!
– Да, – улыбался и воевода, – по нынешним временам, сынок, нам нужны ратники: не ровен час, опять нагрянет чадушка.
В это время вошли на двор рыбаки.
Принесенная ими весть до того ошеломила всех, что воевода, видимо, растерялся. Он не ожидал, что в смирившемся было крамольнике опять проснулся кровожадный зверь. Послав тотчас же конного пятидесятника с этим известием к своему товарищу, к князю Семену Ивановичу Львову, он приказал вместе с тем созвать к себе всех стрелецких голов, а сам поскакал к митрополиту Иосифу, просить его совета.
Едва он вошел во владычные палаты, как под окнами раздались крики:
– Плывут! Плывут струги с мертвецами!
Услыхав страшную весть, митрополит тотчас же поспешил в соборную церковь, приказав по пути немедленно собраться туда же и прочему духовенству.
Скоро от собора к Волге потянулась церковная процессия с крестами, иконами и хоругвями. Митрополит и прочее духовенство были облачены в черные ризы. За процессией повалил народ со всех концов города.
На Волге процессию ожидало потрясающее зрелище. Выехавшие с пристани навстречу стругам ловцы и ратные люди плавной службы буксировали к берегу страшные струги. Испуганные необычайным движением на берегу, вороны, сидевшие на трупах и кружившиеся в воздухе, оглашали воздух еще более оглушительным карканьем. В толпе слышался плач женщин и детей, и весь этот плач и карканье хищных птиц покрывал похоронный звон всех астраханских церквей.
Наконец, струги были прибуксированы к берегу, и на борты их кинуты сходни. Когда стрельцы отковали прикованных к рулю голов и свели их под руки на землю, митрополит и священники, поднявшись по сходням и не вступая на струги, где за трупами негде было стать, начали общее отпевание на брани побиенных.
В воздухе почти не слышно было трупного запаха, потому что мертвецы обклеваны были птицею до костей, а от многих и кости были растащены и разнесены по степям орлами и коршунами.
За воплями женщин почти не слышно было погребальных гимнов, и только кадильный дым вился струйками в воздухе и таял, да от времени до времени с крепостных стен пушкари и затинщики пушечными выстрелами отдавали последнюю честь погибшим в бою товарищам.
Между тем на кладбище Троицкого монастыря сторожа и боярские холопы, по распоряжению городового приказчика, копали несколько огромных ям для общих братских могил.
Из города в то же время выслано было на пристань несколько телег для перевозки трупов, и скоро началась страшная процессия перенесения их с стругов в телеги. Зрелище было потрясающее.
Но когда хор митрополичьих певчих вместе со всем духовенством возгласил стихиру Иоанна Дамаскина: «Плачу и рыдаю, внегда помышляю смерть», и когда в этом надрывающем душу пении слышались такие слова, как «вижу красоту твою, безобразную и бесславную, не имущую виду» или «како предаемся тлению», то со всех сторон послышались глухие рыдания.
Плакал и князь Прозоровский. Никогда не мог он и подумать, чтобы когда-нибудь привелось ему видеть такое зрелище или чтобы, отправляясь на воеводство в Астрахань, он мог ожидать, что еще будет когда-либо плакать так, как в последний раз плакал четыре года тому назад в Москве, в Новодевичьем монастыре, когда там постригали, а ему казалось, хоронили его любимицу, юную дочку Наталеньку…
«Плачу и рыдаю», – стонало у него в душе, и он плакал, плакал, как бы предчувствуя, что через несколько дней и его самого будут стрельцы тащить, такого же «безобразного, бесславного, не имущего виду», и бросят в общую могилу с сотнями таких же, как и он, «бесславных и обезображенных».
И вот под заунывный, нестройный, но тем более удручающий душу перезвон колоколов всех астраханских церквей потянулся ряд телег с мертвецами к Троицкому кладбищу, телега за телегой, по тряской и изрытой водороинами дороге, а трупы в лохмотьях, в красных, изодранных когтями и клювами орлов и коршунов стрелецких кафтанах, точно недобитые и недоеденные, подпрыгивали на этих водороинах и еще более увеличивали тем ужас общей картины. За ними валил толпами народ, жадный до всякого рода зрелищ, даже до таких, каково было это…
Скоро на кладбище образовалось около десятка высоких земляных бугров.
А к вечеру новое зрелище. За день воеводы и стрелецкие головы успели снарядить и вооружить до сорока больших морских стругов и посадить на них около трех тысяч ратных людей, стрельцов и других служилых с князем Львовым во главе. Флотилия эта должна была идти навстречу Разину и истребить его «воровское толпище» до последнего человека.
С возгласами и песнями отплывали стрельцы от Астрахани. Чтобы показать свою удаль, стрельцы, едва отплыли от берега под прощальные выстрелы крепостных пушек, как тотчас же грянули хором любимую тогда всеми ратными людьми «весловую песню», которая в одном старинном сборнике записана была дословно еще в 1619 году. Запевалой был Костька-«гудошник», и он начал подголоском:
Сотворил же, Боже,
Да и небо-землю.
Сотворил ты, Боже,
Весновую службу.
Не давай ты, Боже,
Зимовые службы!
На соседнем струге подхватили хором, низкими голосами:
Зимовая служба –
Молодцам кручинно
Да сердцу надсадно.
Ино дай же, Боже,
Весновую службу:
Весновая служба –
Молодцам веселье,
А сердцу утеха.
– Любо! Любо! – кричали стрельцы из вятичей и ветлужан. – Ай да понизовые! У нас так не сумеют голосом низы забирать.
А понизовые, поощряемые похвалами, наддавали верхними голосами с подголосками:
А емлите, братцы,
Яровы весельца.
А сядемте, братцы,
В ветляны стружочки,
Да грянемте, братцы,
В яровы весельца
Ино вниз по Волги…
– Не вниз, братцы, а вверх! – поправил Костька-«гудошник». – Вверх по Волге.
– Инно верх – точно…
Сотворил нам Боже
Весновую службу[13]13
Эта замечательная песня записана, как сказано выше, в 1619 г., для оксфордского бакалавра Ричарда Джемса, вместе с другими шестью песнями, в том числе знаменитые песни царевны Ксении Годуновой, которые и доныне хранятся в Оксфорде. Напечатаны в «Известиях II отд. Акад. Наук». (Примеч. автора.)
[Закрыть].
Князь Львов, сидя под наметом на передовом струге и слушая эту песню, самодовольно улыбался: он видел, что его ратные люди с добрым духом и с «резвостью» идут против вора и злодея Стеньки.
Скоро флотилия князя Львова скрылась из глаз провожавших ее астраханцев, а они все стояли на берегу и прислушивались к молодецкому пению, все более и более замиравшему вдали.
Флотилии этой, однако, не суждено было воротиться в Астрахань…
Что с нею сталось, это мы узнаем из последующих глав.