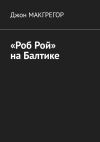Текст книги "Москитолэнд"

Автор книги: Дэвид Арнольд
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
35. Улица обоняния
5 сентября, утро
Дорогая Изабель.
В первом к тебе письме я заявила, что не способна на умиление. И это правда. В обычное время ты даже можешь называть меня неумилимая. (О боже, называй, а?) Но сегодня утром я ощущаю непривычную для себя живость. Бодрость. Всякие типичные для ранних пташек штуки и, да, даже немного умиление. И вот, воспользовавшись этой редкой утренней энергией, я перечитала некоторые из предыдущих своих посланий и хотела бы по горячим следам предложить несколько поправок. Надеюсь, ты не против. Собственно…
Поправка первая. В отношении этих поправок я только что сказала «надеюсь, ты не против». Но на самом деле мне все равно. До вручения адресату письмо принадлежит автору. Я вношу поправки, так как имею право, независимо от того, возражаешь ты или нет. (Ба-бамс.)
Поправка вторая. 1 сентября я написала о боли: «…знаю: лишь она стоит между мной и самой жалкой разновидностью человека – Безликими». И хотя боль и правда не дает мне стать Безликой, я беру назад слова о том, что эта разновидность «самая жалкая». Будь уверена, из всех презренных качеств, свойственных человечку, самое жалкое на сегодня – это пытаться быть тем, кем не являешься. (Точно знаю.)
Поправка третья. 2 сентября я писала: «Не уверена, что богатое воображение так уж заслуженно нахваливают». Более того, я там жаловалась на это тяжкое бремя. Но я долго размышляла, и в свете последних событий хочу, чтобы ты проигнорировала все написанное мною о воображении. Свое я бы не променяла ни на грамм практичности.
Поправка четвертая. В последнем письме я написала: «…большинство людей – эгоистичные, невротичные, зацикленные на себе овощи, предпочитающие носить близорукие очки в дальнозорком мире». Ха-ха. Вполне в стиле Мим. Цинично и остроумно, да? Что ж. Пусть я по-прежнему придерживаюсь того же направления, вероятно, я недостаточно осветила вторую, хорошую сторону: Хороших Людей. Такие тоже порой встречаются. И… ладно, обещаю не трещать об этом без умолку (чтобы ты не сочла меня членом партии Безликих), но, если я не расскажу тебе об одном из этих Хороших Людей, моя голова взорвется. Не бойся, я не скачусь в сплошное «дорогой дневник, я встретила парня, и он весь такой секси, и моя жизнь теперь обрела смысл, и прочая фигня! Лол».
Приступ мгновенной тошноты ощутила? Наверняка. И все же…
Я встретила парня. И он весь такой секси. И прочая фигня. Лол.
Фотка в моем кармане. Мой надломленный герой, мой рыцарь в синем нейлоне. Моя Новая Пангея. Его зовут Бек, он красивый, умный и добрый. Он бросает вызов моему духу и успокаивает все остальное. Бек учит меня, как стать лучше, и когда находишь того, кто так тебя вдохновляет, то держишься за него изо всех сил.
И последнее, что я скажу о нем: он мой друг. Знаю, звучит глупо, но я бы предпочла это чему угодно. В своей жизни я несколько раз лажала по крупному, но одна ошибка превзошла прочие. Избежать подобного так просто, что даже не верится, и так важно, что я напишу это прописными, подчеркнуто и курсивом.
Готова?
Вот.
НЕ СТОИТ НЕДООЦЕНИВАТЬ ЗНАЧИМОСТЬ ДРУЗЕЙ.
Боюсь, любые уточнения лишь принизят мощную простоту сего заявления. Так что пока все.
До связи,
Мэри Ирис Мэлоун,
ранняя пташка по совместительству
* * * * *
Не так много в мире зрелищ более удручающих, чем опустошенный дом твоего детства. Кофейный столик с тысячами отпечатков от стаканов исчез. Акварели, купленные у мошенника (серьезно) на улицах Парижа, исчезли. Перепачканное кресло, взявшееся неизвестно откуда, но нежно всеми любимое, исчезло. Нет мебели. Нет света. Нет жизни.
– Вряд ли внутри кто-то есть, – говорит Бек, подергав цифровой замок на дверной ручке.
Я отшатываюсь от переднего эркера безжизненного дома номер 18 по Мидоу-лейн и сглатываю ком в горле:
– Я просто… дом-то отличный, почему простаивает?
Бек подходит к табличке «ПРОДАЕТСЯ», засовывает одну руку в карман, затем другую.
– Твою же…
– Что такое?
Он бежит в грузовику и роется в своей сумке:
– Кажется, я забыл телефон в мотеле.
Я достаю из рюкзака собственный мобильник и шагаю к табличке:
– Бек, Бек, Бек. Ты бы и голову где-нибудь забыл, если б она не крепилась к телу
– В смысле руку?
Мы улыбаемся друг другу, вспоминая одну из наших первых бесед. Беку я б ни за что не призналась, но я думаю о ней как о нашем первом свидании, включающем ужин (яблоки) и представление (зажигательный танец Уолта во имя собранного кубика Рубика).
Я набираю номер с таблички, но никто не отвечает. Лгать по телефону достаточно сложно, но лгать по голосовой почте… Вряд ли мне доступен такой уровень мастерства. Я сбрасываю и проверяю список звонков. Я очищала его лишь раз, в Нэшвилле. С тех пор Кэти звонила шестьдесят восемь раз. (Стиви Уандер, наверное, заработал воспаление узелков горла.)
Уолт бродит туда-сюда, что-то бормоча под нос и разглядывая землю.
– Уолт, – зовет Бек, – ты в порядке?
Ноль реакции. Уолт уже на подъездной дорожке, бродит фигурными восьмерками, бормочет, смотрит под ноги и, едва я успеваю испугаться, не заболел ли он снова, вдруг замирает как вкопанный и вскидывает указательный палец:
– Нашел!
Он поднимает камень размером с софтбольный мяч, и мы с Беком переглядываемся.
– Уолт, – говорит Бек, – что ты делаешь, дружище?
А Уолт внезапно срывается с места и летит к входной двери.
– Нет, стой!
Слишком поздно. Одним плавным, но мощным движением он сбивает камнем цифровой замок вместе с дверной ручкой. Затем, я не шучу, оборачивается ко мне, кланяется до земли и жестом предлагает мне войти:
– Дамы вперед.
– Парень полон сюрпризов, – ухмыляется Бек, когда я прохожу мимо.
За порогом ноздри тут же наполняет знакомый мускусный запах, и вот… я дома. Чувствую руку Бека на своей, и хотя я рада его присутствию, его прикосновениям, но должна справиться в одиночку. Словно прочитав мои мысли, Бек слегка сжимает пальцы и отступает:
– Мы быстренько скатаемся до мотеля. Проверим, там ли мой телефон. Все нормально?
Я киваю:
– Вы вернетесь?
– Обязательно. – Он легонько меня обнимает, затем обхватывает рукой Уолта и выводит его за дверь.

Помню, как однажды услышала, мол, участок мозга, отвечающий за обоняние, расположен рядом с участком, где хранятся воспоминания. И выходит, что человек в самом деле может унюхать прошлое. (Вероятно, Бек прав. Наверное, наши загадочно-чудесные тела и правда божественны.)
Стоя в одиночестве посреди своей старой гостиной, я вдруг понимаю, что безумно хочу кешью и кровавых видеоигр. И вспоминаю…
Как-то на Рождество, много лет назад, мама с чего-то вдруг помешалась на восемнадцатом веке и решила украсить елку настоящими свечами вместо электрических гирлянд. Дерево сгорело, испепелив заодно ковер и оставив после себя своеобразный и не то чтобы совсем противный мускусно-сосновый аромат. В то же Рождество я получила новую «PlayStation» и распробовала, насколько вкусны кешью.
Я отбрасываю с глаз челку, затем сую руку в карман и стискиваю боевую раскраску. И запоздало прикасаюсь к слепому глазу, дабы убедиться, что он открыт. Пусть разницы я не замечаю, но порой просто приятно знать, что все на своих местах. Вдыхая мускус, древесный пепел, счастливые времена, я опускаю голову, и любимые кроссовки на липучках несут меня вперед.
В столовой запах сгоревшей елки сменяется другим, но тоже дымным. Пролетаю через комнату и распахиваю окно. Нос жжет, язык отекает, я вспоминаю…
Мне, наверное, было не больше девяти, когда выяснилось, что папа тайком курит. Ну, мама наверняка знала, а меня ждал сюрприз. Папа сидел прямо здесь, выпускал дым в окно, когда я спросила, могу ли попробовать. Он протянул пачку с ехидной ухмылкой:
– Конечно.
Я взглянула на него с подозрением:
– В чем подвох?
– Никакого подвоха. Дерзай.
Я вытащила сигарету, удивленная тем, насколько она легкая. Папа поджег кончик и велел мне глубоко вдохнуть. Я четко выполнила инструкции и вдохнула, решив, что папа гораздо круче, чем я считала. А потом легкие взорвались, и меня вывернуло на любимые мамины жалюзи. То была моя первая и последняя сигарета.
Выхожу на заднюю веранду, вдыхаю благоухания со двора: хризантемы, легкая сладость удобрений, власть осени над умирающей летней землей. Инстинктивно оглядываюсь в поисках светлячков и чувствую бесконечное одиночество. Я вспоминаю…
Жаркими летними вечерами, в сумерках, папа совал мне в руки бейсбольную биту и показывал, как «расфигачивать» светлячков. Прямое попадание, как он говорил, вознаграждалось брызгами неоновой слизи. Он называл это «слизкобол». Я всегда знала, что папа хотел сына, но в такие вечера это было особенно очевидно. (Я обычно нарочно промахивалась. Бедные жуки.)
А дальше, на правой стороне двора, обособленный гараж. Я чувствую запах дешевого пива и черепашьего воска. Столько воспоминаний о том, как папа моет и полирует свой драгоценный, так и не объезженный мотоцикл, пока мы с мамой слушаем пластинки. На старом продавленном диване, который, как и меня, потом перевезли на юг. Я возвращаюсь в дом, размышляя о последнем разговоре, состоявшемся на этом диване. Ни капли не удивлюсь, если его клетчатые подушки теперь набиты не ватой, а злобой.
В доме открываю дверь в подвал. Высокую и тяжеленную, точно врата темницы в каком-нибудь фильме о Средневековье. И извечно сломанный замок болтается на месте, как будто ничего и не случилось. Как будто весь мой мир не развалился на части в этом подвале. За этой дверью обонятельных воспоминаний не будет.
Глубокий вдох. Еще один. Иду дальше.
Направляюсь к другой лестнице, безопасной, ведущей вверх. Четырнадцать ступеней, если не ошибаюсь. На верхней площадке пригибаюсь, чтоб не удариться о наклонный потолок, миную чулан/шкаф (укромный уголок, где я когда-то спала) и шагаю прямиком в свою старую спальню. Жадно глазею на закрученные уголки обоев, на темное пятно в углу (мои первые месячные). Ненужная двухъярусная кровать исчезла. Развратный постер «Титаника» исчез. Пишущая машинка, футон, коллекция пластинок, лава-лампа – исчезло все, но дух комнаты сохранился. По крайней мере, для меня. Я прогуливаюсь, я размышляю, я вдыхаю. Аромарецепт моей комнаты: смешайте поровну крем от прыщей, соленые слезы и неловкое самопознание. Я вспоминаю…
В восьмом классе Томми Макдугал бросил меня у шеста для тетербола. (Мяча на шесте не было.) Он сказал, что я похожа на мальчика. Что у меня нет груди. Что я ботанка. Сказал, что не хочет встречаться с той, кто использует всякие заумные слова. Я ответила, мол, надеюсь, что он готов до конца жизни спариваться лишь с самим собой. Думала, что одним выстрелом убью сразу всех зайцев, но, поскольку Томми такого слова не знал, я добилась лишь одного: почувствовала себя еще хуже. Тем вечером я заперлась в спальне и рыдала то под Элвиса (альбом «Heartbreak Hotel»), то под Эллиотта Смита (альбом «Either/Or»). Все повторилось, когда меня бросил Эрик-с-одной-р, и когда ссоры родителей стали громче, и когда мне просто был нужен шум, чтобы заглушить грохочущую фабрику моих внутренностей. Очень грустно. Я излила весь жизненный запас слез за одну короткую юность, и никто, кроме моих музыкальных аномалий, не услышал моей боли.
Иду дальше.
В коридор и в комнату родителей. Здесь запах смешанный. Духи. Хлипкие тапочки. И, словно всеми покинутый сиротка, в дальнем углу притулился мамин туалетный столик – единственное, что осталось в доме из мебели. Поддавшись воплям внутренних порывов, шагаю к зеркалу и достаю из кармана боевую раскраску.
Вот она.
Точка отсчета.
Мамина помада. Мамина спальня. Мамин столик.
Интересно, что было бы, если б она сейчас вошла в эту дверь? Если б увидела, как я разрисовываю лицо, будто какой-то неполиткорректный вождь чероки? Что бы я ей сказала? Надеюсь, правду. Что в моем стремлении к оригинальности, относительной честности и сотне других черт-его-знает-штук действие сие, хоть и странное и социально неловкое, все же несет в себе больше смысла, чем что-либо еще в моем мире. И пусть это непонятно и дико, но порой лучше уж непонятно и дико, чем лечь лапками кверху. Возможно, я расскажу маме, как боевая раскраска помогла мне пережить времена, когда всем было плевать, кто я такая и чего хочу. Возможно, я даже наберусь смелость и произнесу то, на что немногие отваживаются: «Я понятия не имею, почему делаю то, что делаю. Так бывает».
Возможно.
Я выкручиваю из тюбика остатки помады и пялюсь на отражение маминой комнаты за спиной. И еще свежий в памяти сон всплывает перед глазами: наши старые ноги медленно бредут по комнате, точно грузовое судно; наша помада – масло, наше лицо – холст, и мы приступаем; рисуем снова и снова, и снова, но ничего не остается. Ничего, кроме боевой раскраски. Нашего единственного цвета.
Эта тонкая грань, где кончается «мам» и начинается «Мим».
Разница в одну букву.
– Как символично, – говорю я вслух, нанося боевую раскраску на левую щеку.
Двустороння стрелка тянется прямо к носу.
И в этот миг из глубины холщовой гробницы доносятся вопли Стиви Уандера. Я вытаскиваю из рюкзака телефон и отключаю звук:
– Сдавайся, чувак. Твои чувства безответны.
Затем возвращаюсь к зеркалу, готовая провести следующую лини…
– Я подумала, что найду тебя здесь.
Я застываю с рукой у лица.
– Что ты делаешь?
С щелчком закрывается телефон.
– Мим, я…
– Какого хрена ты тут делаешь?
– Мило, Мим. Очень мило.
Способность двигаться возвращается. Не потрудившись стереть незавершенную боевую маску, я разворачиваюсь к мачехе лицом. Вообще, именно сейчас боевая раскраска как нельзя кстати.
– Иди в задницу, Кэти.
Ее глаза наполняются слезами, но она улыбается. И одной рукой выводит круги по чуть выпуклому животу, вверх и вниз, круг за кругом. Интересно, малютка Изабель это чувствует? Погруженная в собственные дела и всякую дородовою жижу, осознает ли она, что снаружи есть целый мир, который только и ждет, когда можно будет ее любить, ломать, ненавидеть, обожать, разочаровывать и восхищать? Знает ли Изабель о нас? Вряд ли, если учесть, что она размером с манго. Боже, если б она только могла отрастить себе крошечные лапки и, намертво вцепившись в матку Кэти, сделать ее милым-домом-навсегда. Да, тесноватая квартирка, но здесь ненамного лучше.
– Мим, я даже вообразить не могу, каково тебе сейчас. Но ты должна понять… мы с твоим папой чуть не свихнулись от беспокойства. – Кэти шагает в комнату. Ближе ко мне. – Знаю, ты винишь меня, но…
– Ты не моя мать.
Я произношу это спокойно, словно мы в суде, и она пытается доказать обратное. Кэти начинает плакать, а потом говорит волшебные слова:
– Мне не нужно быть твоей матерью, чтобы о тебе заботиться.
Теперь она достаточно близко, чтобы ощутить запах: ее рецепт – поровну моющих средств, тако и упрямого отрицания. Я вспоминаю…
36. Последние новости
– Почему бы тебе не присесть, Мим? – попросил папа.
– Почему бы тебе не сдохнуть?
Он тяжко вздохнул, а затем:
– Мэри, сядь. Мы с твоей мате… мы с Кэти должны тебе кое-что сказать.
– Ох срань. Пап, серьезно?
– Боже, Мим, следи за языком.
Я указала на Кэти, которая, судя по виду, собиралась вот-вот разрыдаться:
– Эта женщина мне не мать. И я не Мэри – не для тебя.
– У нас есть новости. Ты хочешь их услышать или нет?
– Барри… – начала Кэти, но осеклась.
– Блин, да ради бога. – Я плюхнулась на старый продавленный диван, скопивший в себе море музыкальных воспоминаний.
(Еще в Ашленде, после маминого ухода, папа заявил, что диван надо выбросить, что он не подходит к остальным «нашим вещам». Я спросила, чьим это, «нашим». Он не ответил. Тогда я заявила, что скорее сигану с крыши, предварительно наглотавшись снотворного, чем уеду в Миссисипи без проклятого дивана. За сим переговоры и завершились.)
Не успела я очухаться, как папа и Кэти тоже уселись на диван, зажав меня с двух сторон. Краем здорового глаза я видела, что они сцепили руки за моей головой, и даже попыталась активировать свой смещенный надгортанник. О да, это был бы блевотный фонтан на века.
Начала разговор Кэти. Всего с двух слов, крайне простых по отдельности, но в тандеме породивших катастрофичную пандемию безумия.
– Я беременна, – прошептала она. Покраснела, обменялась улыбками с папой и вновь посмотрела на меня. – Мим, у тебя будет сестренка.
Я знала, что мои реакции тщательно отслеживают, словно я могу в любой момент выпрыгнуть в закрытое окно. Собственно, идея-то неплохая…
– Прикалываешься? – Я перевела взгляд с одного на другую. – Вы ж чуть ли не вчера поженились!
Их улыбки, и без того натянутые и нервные, задрожали. Папа с Кэти переглянулись, вновь уставились на меня и еще не произнесли ни слова, а я уже знала неизбежный финал этой ужасной истории. Чертовски предсказуемо. Я посмотрела на Кэти и только теперь заметила, что да, грудь ее слегка увеличилась, и да, со свадьбы она ощутимо поправилась, и да, ее лицо действительно казалось красноватым и опухшим. По мере моего осмотра в ее глазах копились слезы.
Я моргнула.
Они поженились, едва оформился развод.
Я выдохнула.
Сверхскоростная свадьба, все так говорили. А переезд на юг еще быстрее.
Я Мэри Ирис Мэлоун, и я была не в порядке.
– И сильно ты беременна? – прошептала я.
Папа положил руку мне на колено. Ту же руку, которой полировал и перекрашивал так и не объезженный мотоцикл. Ту же руку, которой клал мячик для гольфа на таком расстоянии от лунки, чтобы я наверняка выиграла. Ту же руку, которая в мое детство шлепала меня и кормила, окончательно перевоплотившись в злодейского героя.
И вот те на, мой герой оказался говнюком.
Я впервые за несколько недель взглянула отцу в глаза, поражаясь таившейся там грусти.
– Ты изменил ей? – просипела я.
Он попытался что-то сказать, но захлебнулся словами.
Я тоже плакала, но слова выпорхнули на ура:
– Ты изменил маме?
– Мэри, – выдавил папа, – все…
– Никогда меня так не называй.
Я сидела там застывшая и гадала, растает ли когда-нибудь сковавший тело лед правды, излечат ли когда-нибудь объявшее мир безумие.
Кто-то не выключил телик в гостиной…
– …и пока нет сведений ни о количестве пропавших солдат, ни о выживших. Источники, близкие к Пентагону, как всегда молчат. И в этой неизвестности остается только молиться за их родных и близких. Слово тебе, Брайан.
– Спасибо, Дебби. С нами была Дебби Франклин из Кабула. Еще раз для тех, кто только что к нам присоединился, – последние новости из Афганистана…
Я вжалась в старый мамин диван, переваривая последние новости. Будто какая-то гигантская головоломка, тысячи разрозненных штук сложились в одну уродливую и постыдную фигуру.
– Мы назовем ее Изабель, – произнесла Кэти сквозь слезы.
– Что?
– Твою сестру. Мы назовем ее в честь твоей тети. Изабель.
«Ну разумеется», – подумала я. Но ничего не сказала.
Папа из ниоткуда выудил маленький бумажный сверток, как попало обвязанный широкой красной лентой, и положил мне на колени.
– А это что за хренотня? – Я намеревалась ругаться как можно чаще и отвратительнее.
– Это дневник, – ответила Кэти, будто это все объясняло.
Будто дневник – честная плата за то, что папа изменил маме и обрюхатил этот мамозаменитель.
– На кой хрен мне дневник?
Кэти прочистила горло и посмотрела на папу.
– Чтобы ты могла писать письма сестренке, – прошептал тот.
Я уставилась вниз, на пакет, лишь бы избежать зрительного контакта.
– Я об этом читал, – продолжил папа, – и подумал, вдруг ты захочешь попробовать. Так ты сможешь общаться с ней еще до рождения. И… не знаю, вдруг это поможет тебе со всем справиться. Как-то так.
Я развязала ленту, развернула бумагу, взяла дневник. Никакого кожаного переплета или типа того, и уголки уже потрепанные. Я думала, папа извиняется. Что это его откуп. Но блокнот оказался дешевым – во всех смыслах.
Настоящие извинения стоят дорого, потому что приходится стоять там как идиоту и каяться вслух, чтоб весь мир услышал: «Мне жаль». А мир как обычно ответит громогласным: «Да, да, тебе жаль». Папа ничего подобного делать не собирался. Вообще не уверена, что он на это способен. Такого рода смирение требует любви глубочайшей, коей он никогда не испытывал.
– Конечно, если планируешь однажды отдать ей дневник, наверное, лучше избегать размышлений о, ну… знаешь, трагической реальности. Или хотя бы об отчаянии.
Я уставилась на него, недоумевая, как меня могли породить чресла вот этого человека.
– И как ты себе это представляешь, пап, учитывая, что наша семья весьма реально погрязла в отчаянии?
Он закатил глаза и раздул ноздри:
– Я пошутил, Мим. Пытаюсь немного снять напряжение. Пиши, что хочешь. Расскажи малышке Из обо всех зверствах жизни. Я просто надеюсь, что и о чем-нибудь хорошем ты тоже вспомнишь.
Я посмотрела на дневник и вдруг вспомнила тот давний день, когда я читала книгу у ног тети Изабель.
– Я смогу сгладить острые углы в моем мозгу.
Не стоило говорить так громко. Папа и Кэти переглянулись. От их ощутимой тревоги дышать стало нечем. Все еще сжимая дневник, я встала с дивана.
– О, погоди, – позвала Кэти. – Я захватила тако.
Я вылупилась на нее, не веря, что она на самом деле это сказала. Нет, ерунда. Разумеется, даже она должна понимать, что «я захватила тако» – совсем не то, чем должен заканчиваться столь колоссальный разговор. Разумеется…
– Ты… что?
Кэти моргнула:
– Из ресторана по-соседству. Подумала, что мы могли бы поужинать и… поболтать.
Увы. Она не понимала. Никогда не понимала. Я развернулась и вышла из комнаты.
– Зайка, ты куда? – окликнул папа.
Но вопрос был не в том, куда, а когда и как. Куда – я уже знала, потому что давно посмотрела в справочнике.
«За девятьсот сорок семь миль отсюда, – подумала я. – За девятьсот сорок семь миль…»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.