Читать книгу "Изобретение науки. Новая история научной революции"
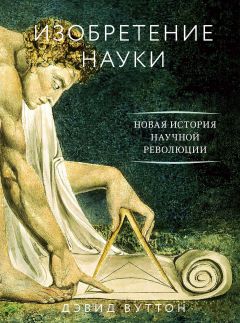
Автор книги: Дэвид Вуттон
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Эти ученые рассматривают науку с точки зрения риторики, убеждения и авторитета, потому что принцип симметрии обязывает их предполагать, что суть науки именно в этом. И это прямо противоречит взглядам самих первых ученых. Так, например, широко известна статья «Totius in verba: риторика и авторитеты раннего Королевского общества» (Totius in verba: Rhetoric and Authority in the Early Royal Society), хотя само Королевское общество выбрало девиз nullius in verba («слова не считаются», то есть «ничего не принимать на веру»), – основатели общества заявляли, что отказываются от форм знания, основанных на риторике и авторитетах[66]66
Dear. Totius in verba (1985). Что Дир подразумевает под выражением totius in verba? Он так и не говорит. Правильный перевод с латыни nullius in verba – «ничьими словами», поскольку это цитата из Горация, и именно таков смысл фразы в оригинальном контексте (Sutton. Nullius in verba (1994). Цитата из Горация уже была использована в Carpenter. Philosophia libera (1622) (текст отличается от издания 1621 г.), но nullius может означать nihil, и поэтому перевод «слова не считаются» тоже допустим. Однако фраза totius in verba не может означать «считается только язык [или риторика]» (что явно подразумевает Дир); она должна означать «вообще словом» – totius и nullius не являются антонимами во всех своих значениях. К фразе nullius in verba я вернусь ниже, в гл. 7. Отказ Галилея считать, что успех в науке может определяться искусством риторики, см. в гл. 15.
[Закрыть]. Разновидность истории, которая позиционирует себя как чрезвычайно чувствительная к языку людей прошлого, решительно отвергает все, что эти люди говорили о себе, причем неоднократно. Анахронизм, с позором выдворенный через черный ход, триумфально возвращается через парадную дверь.
Возможно, в это трудно поверить, но сторонники сильной программы заняли доминирующее положение в истории науки. Наиболее ярким проявлением такого подхода в действии служит книга «Левиафан и воздушный насос» (Leviathan and the Air-pump) Стивена Шейпина и Саймона Шеффера, которая признана самой влиятельной работой в этой области после «Структуры научных революций» Томаса Куна[67]67
См. комментарий «Релятивизм и релятивисты», 3.
[Закрыть]. По слова Стивена Шейпина, новая история науки предлагает социальную историю истины[68]68
См. комментарий «Релятивизм и релятивисты», 4.
[Закрыть]. Утверждается, что научный метод постоянно меняется, и поэтому такого понятия, как научный метод, просто не существует. Знаменитая книга Пола Фейерабенда называлась «Против метода» (Against Method)[69]69
Работа «Против метода» была издана в виде книги только в 1975 г., но в виде доклада на конференции появилась в 1966 г. (Feyerabend. Against Method, 1970). На суперобложке первого издания поместили не биографию автора, как обычно, а его гороскоп: Фейерабенд был последователен в своем релятивизме (и обыгрывал его). Его защиту астрологии см.: Feyerabend. Science in a Free Society (1978). 91–96.
[Закрыть] и имела подзаголовок «Все проходит»; за ней последовала работа «Прощай, разум» (Farewell to Reason){102}102
Feyerabend. Against Method (1975); Feyerabend. Farewell to Reason (1987).
[Закрыть]. Некоторые философы и почти все антропологи согласны с ним: стандарты рациональности, утверждают они, локальны и чрезвычайно изменчивы{103}103
Wilson (ed.). Rationality (1970); и Hollis & Lukes (eds.). Rationality and Relativism (1982).
[Закрыть].
Но мы должны отвергнуть идею Витгенштейна, что истина есть просто консенсус, поскольку она несовместима с пониманием одной из фундаментальных задач науки – показать, что от общепринятых взглядов следует отказаться, когда они противоречат фактам[70]70
Последователи Витгенштейна настаивают, что система верований не может быть опровергнута новыми фактами; последователи Поппера утверждают, что опровержение носит непосредственный характер, а последователи Куна – что новые факты могут вызвать кризис в системе верований, что в конечном итоге приведет к революционному переходу к новому консенсусу. Позиции Куна и Поппера в принципе совместимы с пониманием целей науки; витгенштейновская точка зрения, как ее представляют его последователи, полностью антинаучна. К этому вопросу я возвращаюсь ниже, в гл. 15.
[Закрыть]. Классическим в этом отношении является «Письмо к Кристине Лотарингской» Галилея (1615) в защиту учения Коперника. Галилей начинает с того, что есть вопросы, по которым философы согласны друг с другом, однако он с помощью своего телескопа обнаружил факты, которые полностью противоречат их убеждениям; следовательно, им нужно пересмотреть свои взгляды{104}104
Galilei. Le opere (1890). Vol. 5. 309, 310.
[Закрыть]. То, что казалось истиной, больше не может считаться таковой. Галилей здесь участвует в том, что Шейпин и Шеффер называют «эмпирической языковой игрой» (можно даже сказать, изобретает ее), в которой факты скорее «открываются, чем изобретаются»{105}105
Shapin & Schaffer. Leviathan and the Air-pump (1985). 67.
[Закрыть]. Это верно. Но последователи Витгенштейна считают, что нет никаких оснований думать, что эта игра более обоснованна, чем любая другая, и в этом случае Галилей становится не более убедительным, чем философы, которым он оппонирует[71]71
Вопрос же вот в чем: «А что, если бы ты должен был изменить свое мнение и об этих фундаментальных вещах?» И ответ на это, как мне кажется, таков: «Ты не должен его изменять» (Wittgenstein. On Certainty, 1969. § 512).
[Закрыть]. И в этот момент витгенштейновская история науки прямо противоречит свидетельству самого Галилея о том, что он делает, и история науки вступает в прямой конфликт с наукой[72]72
Витгенштейн пишет: «Допустим, мы встретили людей, которые не считают это убедительным основанием. И все же как мы себе это представляем? Ну, скажем, вместо физика они вопрошают оракула. (И потому мы считаем их примитивными.) Ошибочно ли то, что они советуются с оракулом и следуют ему? Называя это “неправильным”, не выходим ли мы уже за пределы нашей языковой игры, возражая им?» (Wittgenstein. On Certainty, 1969. § 609). В данном случае вместо того, чтобы обратиться к Галилею (или к Бойлю, который намеренно копирует Галилея), Шейпин и Шеффер обращаются к Витгенштейну и используют его языковую игру как базу для сражения с наукой.
[Закрыть].
Когда Шейпин и Шеффер говорят о «эмпирической языковой игре», словно это одна из многих равноценных языковых игр, они предполагают, что за языковыми играми Галилея и его противников нет никакой реальности, поскольку сама реальность определяется языковыми играми; они предполагают, что «границы моего мира суть границы моего языка»[73]73
На самом деле сторонники сильной программы относятся к эмпирической языковой игре как к одной из одинаково ложных языковых игр, поскольку, на их взгляд, единственной правомерной языковой игрой является витгенштейновская метаигра. Все ограничены языком, за исключением тех, кто пишет о том, как все ограничены языком. Но не стоит задерживаться на этой фатальной ошибке.
[Закрыть]. Это не может быть истиной в абсолютном смысле; телескоп Галилея трансформировал мир астрономов раньше, чем у них появились новые слова для описания того, что они теперь могли видеть, – даже до появления слова «телескоп». Когда Галилей писал о своих открытиях, он не был обязан делать это так, чтобы вызвать недоумение остальных: ужас вызвал смысл его слов, а не форма. Но, хотя философы прекрасно его поняли, некоторые продолжали настаивать: того, что якобы видели Галилей и другие астрономы, там быть не могло. Два мира, Галилея и их, имели разные границы, и тем не менее они прекрасно понимали друг друга. Границы были установлены не языком, а приоритетами, ощущением того, что можно обсуждать, а что нет[74]74
Кун утверждал, что существуют ограничения для коммуникации между людьми, населяющими разные интеллектуальные миры, но считается, что он переоценивал этот аргумент: трудности Галилея и его критиков заключались не в коммуникации, а в согласии; они играли по разным правилам, но могли понять смысл ходов противника. Взгляды Куна описаны в Sankey. Kuhn’s Changing Concept of Incommensurability (1993) и критикуются в: Sankey. Taxonomic Incommensurability (1998); см. также: Hacking. Was There Ever a Radical Mistranslation? (1981).
[Закрыть].
Может показаться, что телескоп – это особый случай. Разумеется, наш мир меняется, когда мы изобретаем новую технологию или проникаем туда, где раньше не были. Но мы ежедневно сталкиваемся с тем, для чего у нас нет названия, и в таких обстоятельствах мы часто не находим нужных слов или говорим, что «этого не описать словами». И только позже мы иногда находим слова (любви, горя, ревности, отчаяния) для того, что чувствуем. «Ему и в голову не приходило, – писал Толстой о князе Андрее, – чтобы он был влюблен в Ростову». В целом главная особенность некоторых переживаний – музыки, секса, смеха – состоит в том, что нет и не может быть адекватных слов, чтобы их описать. Но это не значит, что они не существуют.
Но, даже несмотря на то, что положение «границы моего мира суть границы моего языка» действительно не всегда, мы должны признать, что язык зачастую определяет границы наших дискуссий и точного понимания. Облака получили названия только в XIX в. – термины cirrus (перистое облако) и nimbus (дождевое облако) могут показаться устаревшими, поскольку они латинские, однако римляне не различали разных типов облаков{106}106
Hamblyn. The Invention of Clouds (2001); и Gombrich. Art and Illusion (1960). 150–152.
[Закрыть]. Разумеется, задолго до того, как появились названия для разных типов облаков, люди воспринимали их примерно так же, как мы: достаточно взглянуть на голландские морские пейзажи XVII в., чтобы понять, что на них точно воспроизведены разные облака, хотя художники не знали их названий. Очевидно, Роберт Гук совершенно четко видел облака, когда спрашивал: «Какова причина разной формы облаков – складчатых, пушистых, кудрявых, закрученных, туманных и тому подобное?»{107}107
Hooke. The Posthumous Works (1705). 3.
[Закрыть] Но он прекрасно понимал свои ограниченные лингвистические возможности в описании этого природного явления. Классификация облаков является важным событием в истории метеорологии, после которого стали возможны их более серьезное обсуждение и глубокое понимание.
Когда мы изучаем идеи, лингвистические изменения являются ключом к выяснению того, что люди понимают такого, чего не понимали их предшественники. За десять лет до открытий Галилея, сделанных с помощью телескопа, первый ученый-экспериментатор Уильям Гильберт признал: «Таким образом, иногда мы используем новые и необычные слова, но не для того, дабы с помощью глупой завесы слов закрыть факты [rebus] тенями и туманами (как к тому стремятся алхимики), а для того, чтобы ясно и правильно изложить сокрытые вещи, которые не имеют названия и которых мы до сей поры не сознавали»{108}108
Gilbert. On the Magnet (1900). iii. Это суть вопроса. Вся концепция Витгенштейна, как ее толкуют социологи, направлена на оспаривание идеи восприятия, которое не зависит от изложения. Так, он говорит, что «представление о «соответствии действительности» не имеет какого-то ясного применения». Наука, естественно, стремится доказать, что имеет, – точно так же, как Рассел хотел доказать, что в комнате нет гиппопотамов.
[Закрыть]. Он начинает свою книгу со словаря, чтобы помочь читателю понять смысл новых слов. Затем, через несколько месяцев после того как Галилей открыл небесные тела, которые мы называем лунами Юпитера, Иоганн Кеплер изобрел новое слово для этих новых объектов: они стали «спутниками»[75]75
Работа «Narratio de observatis Jovis satellitibus» датирована 11 сентября 1610 г., но опубликована в 1611 г. (современное издание в: Kepler. Dissertatio cum nuncio sidereo, 1993). На классической латыни satellitium означает эскорт или охрану.
[Закрыть]. Таким образом, историкам, которые воспринимают язык всерьез, необходимо искать появление новых языков, которые должны отражать изменения в том, что люди могут думать, и в том, как они могут осмысливать свой мир[76]76
«Когда изменяются языковые игры, изменяются и понятия, а вместе с понятиями и значения слов». Wittgenstein. On Certainty (1969). § 65.
[Закрыть].
Здесь важно различать это утверждение и аргумент, с которого началась эта глава. Историк всегда должен изучать язык, который использовали люди в прошлом, и быть внимательным к изменениям в этом языке, но это не означает, что ему всегда следует использовать этот язык при описании прошлого. Термин Кеплера «спутник» указывает, что Галилей открыл новую разновидность сущности, но вполне допустимо сказать, что Галилей открыл луны Юпитера (эту терминологию не использовал ни Галилей, ни Кеплер – насколько мне известно, самое раннее ее использование относится к 1665 г., и, строго говоря, в этом случае мы имеем дело с анахронизмом), особенно если учесть, что для нас звезды (термин Галилея) неподвижны, а спутники (термин Кеплера) представляют собой рукотворные объекты, запущенные в космос.
Современная история науки, несмотря на все рассуждения о языках и дискурсах, была недостаточно внимательна к появлению в XVII в. нового языка, предназначенного для науки о природе, – его мы будем рассматривать в части III. И действительно, этот язык был таким незаметным, что те же самые исследователи, которые до второй половины XIX в. отказывались использовать слово «ученый» в отношении кого-либо, с готовностью рассуждали о «фактах», «гипотезах» и «теориях», словно это транскультурные понятия. Данная книга стремится исправить этот очевидный промах[77]77
Примечательно, что по прошествии такого времени после «лингвистического поворота» базовая история некоторых ключевых слов/понятий, благодаря которым возможна научная деятельность, еще не написана. Таким образом, данную книгу отчасти можно рассматривать как дополнение к рассказу Бруно Снелла о зачатках науки: Snell. The Origin of Scientific Thought (1953, впервые опубликован в 1929) и Snell. The Forging of a Language for Science in Ancient Greece (1960).
[Закрыть]. Один из ее главных постулатов формулируется просто: революция в идеях требует революции в языке. Утверждение о существовании научной революции XVII в. проверить несложно – достаточно взглянуть на сопровождавшую ее революцию в языке. И действительно, революция в языке является лучшим доказательством реальности революции в науке.
По мере того как будет продвигаться наш рассказ, полезно помнить некоторые особенности лингвистических изменений. Очевидно (в чем мы уже убедились на примере «искусств» и «наук»), что со временем значение слов меняется. Но зачастую слова не просто меняют значение, а приобретают новые, иногда явно не связанные с оригинальным. Мы видели, что слово «революция» в настоящее время имеет самые разные значения, и одним из источников путаницы в вопросе существования научной революции служит невозможность отделить эти значении одно от другого. Когда я прихожу в местное отделение (branch – ветвь) своего банка, то не думаю о его разветвленном бизнесе как о дереве; в данном случае «ветвь» (branch) – просто устоявшаяся метафора. Нечто похожее произошло со словом volume (том), когда его используют в контексте измерений: сначала во французском, а затем и в английском языке его стали применять для обозначения не книги, а пространства, занимаемого трехмерным объектом (объем). Говоря об измерении volume сферы, я использую метафору.
Когда мы пишем о «законах природы», слово «законы» тоже имеет метафорический смысл. Что такое законы природы? Для понимания разных контекстов, в которых используется эта фраза, полезно вспомнить о ее происхождении; в конечном итоге это поможет понять, что лучший ответ на вопрос: «Что такое законы природы?» – перечисление того, каким образом мы используем это выражение (в данном случае, как выразился Витгенштейн, значение есть использование). Так, например, в Великобритании есть неписаная конституция. Что такое неписаная конституция? Любой достойный ответ будет полон загадок и парадоксов, но он должен включать рассказ о том, что мысль о необходимости конституции для государства впервые высказал в 1735 г. Болингброк и что идея неписаной конституции отличает Великобританию от Соединенных Штатов и Франции, первых стран, принявших конституцию. После того как писаные конституции стали нормой, понятие неписаной конституции стало включать явно неразрешимые загадки (как понять, что такое неписаная конституция? В чем источник ее власти?), и точно так же понятия, которые мы используем при обсуждении науки («открытия», «законы природы») по сути своей загадочны – по крайней мере, для нас. Единственный способ понять их – восстановить их историю{109}109
Tuck. Natural Rights Theories (1979). 1, 2.
[Закрыть]. По моему мнению, в XVII в. понятие естественных наук подверглось фундаментальному пересмотру, и к концу столетия в основном приняло современную форму. Я не утверждаю, что оно устойчиво и правильно, – оно просто успешно в том смысле, что дало основу для открытия новых знаний и новых технологий[78]78
«Для понимания и поддержки научной практики, – пишет Хасок Чан, – я бы предложил фундаментальную переориентацию нашей концепции знания, чтобы воспринимать его как возможность, а не как веру» (Chang. Is Water Н2О? 2012. 215; и об «успехе», 227–233). К этой мысли я вернусь в последней главе.
[Закрыть].
§ 6
Бо́льшая часть этой главы была посвящена языку науки, как и бо́льшая часть книги, однако аргументы книги в равной степени относятся к тому, что Леонардо называл «проверкой опытом». Первое поколение историков и философов, изучавших научную революцию, принижало значение новых фактов и новых экспериментов, утверждая, что значение имеет лишь то, что Баттерфилд называл «транспозицией в мышлении самого ученого». Основы современной науки, как утверждал в 1924 г. философ Эдвин Берт, были метафизическими{110}110
Burtt. The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science (1924).
[Закрыть]. По мнению Койре, «мысль, чистая, незамутненная мысль, а не опыт или чувственное восприятие… лежит в основе «новой науки» Галилео Галилея»{111}111
Butterfield. The Origins of Modern Science (1950). 5; Burtt. The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science (1924) (об этой работе см.: Daston. History of Science in an Elegiac Mode (1991); и Koyré. Galileo and the Scientific Revolution of the Seventeenth Century (1943). 346.
[Закрыть]. Таким образом, ключевая (на взгляд Койре) идея, сделавшая возможной современную науку, идея инерции, была следствием размышлений Галилея о повседневном опыте, обычного мысленного эксперимента. Я считаю это ошибкой, переворачивающей всю историю современной науки с ног на голову и выворачивающей ее наизнанку[79]79
И разумеется, неверным пониманием Галилея: см., например, работу Галилея о приливах (Galilei. Le opera, 1890. Vol. 5. 371–395), в которой опыт описывается как надежный ориентир – «sensate esperienze (scorte sicure nel vero filosofare)» (378); Stabile. Il concetto di esperienza in Galilei, 2002); Galilei. Le opera, 1890. Vol. 10. 118 (Galileo to Altobelli), Vol. 18. 249 (Galileo to Liceti) & 69 (Baliani to Galileo). Отец Галилея, Винченцо, уже многократно подчеркивал первичность опыта: Palisca. Vincenzo Galileo (2000).
[Закрыть]. Суть научной революции как раз и состоит в новом опыте и новом чувственном восприятии. Совершенно очевидно, что если бы для научной революции требовалось только новое мышление, то было бы невозможно объяснить, почему она не произошла раньше XVII в.[80]80
Если бы для порождения новой науки было достаточно только мышления, она началась бы не с Галилея, а с философа XIV в. Николая Орезмского. Можно возразить, что важным условием нового мышления было повторное открытие некоторых классических текстов (Архимеда, Лукреция, Платона), однако этот процесс завершился к середине XV в.
[Закрыть]
Тем не менее вот уже тридцать лет второе поколение историков и философов науки атакует утверждение, что научная революция значительно расширила возможность человека понять природу; став на релятивистскую точку зрения, они отказываются признавать превосходство Ньютона над Аристотелем или Николаем Орезмским даже в том смысле, что его теории сделали возможными более точные предсказания и новые типы вмешательства в природу. Их аргументы убедили почти всех антропологов, почти всех профессиональных историков и многих философов. Но они ошибаются. Благодаря научной революции мы обладаем гораздо более надежным знанием, чем древние и средневековые философы, – мы называем его наукой. Для первого поколения суть новой науки состояла в мышлении, для второго это просто языковая игра. Две эти дискуссии, о мышлении и о знании, взаимосвязаны, поскольку оба поколения отвергали идею о том, что новая наука основана на новом типе взаимодействия с чувственной реальностью. Оба не видели главную особенность новой науки: она систематически применяла проверку опытом.
Положение новых ученых второй половины XVII в. кардинальным образом отличалось от положения их древних, арабских и средневековых предшественников. У них был печатный станок (изобретение XV в., влияние которого усилилось в XVII в.), создавший новые типы интеллектуального сообщества и изменивший доступ к информации; у них был набор инструментов (телескопы, микроскопы, барометры), изготовленных из стекла, которые служили агентами перемен; они обладали новым стремлением все проверять опытом, что дало начало экспериментальному методу; у них был новый, критический взгляд на авторитеты, и у них был новый язык – язык, на котором мы теперь говорим и на котором гораздо легче формулировать новые мысли. Взаимосвязанные и усиливающие друг друга, все эти элементы создали предпосылки для научной революции.
§ 7
В 1748 г. Дени Дидро, великий философ Просвещения, анонимно опубликовал эротический роман под названием «Нескромные сокровища» (слово «сокровище» в данном случае является эвфемизмом для вагины). Книга была сразу же запрещена – в чем, вероятно, не сомневался ни он, ни его издатель – и имела огромный успех. Глава 32 снабжена подзаголовком «…быть может, не лучшая и наименее читаемая в этой книге» – наименее читаемая, потому что, в отличие от других, в ней не было секса. В главе описывается, как главный герой (султан Мангогул, лестное изображение Людовика XV) видит сон, в котором он летит на спине мифического крылатого зверя к парившему в воздухе зданию. Вокруг здания собралась толпа уродливых людей, а перед ними на трибуне, над которой натянута паутина, стоит старик и выдувает мыльные пузыри. Все обнажены, если не считать маленьких лоскутков ткани – как оказалось, клочков одежды Сократа. Выясняется, что здание – это храм философии. Внезапно «…я заметил вдалеке ребенка, направлявшегося к нам медленными, но уверенными шагами. У него была маленькая головка, миниатюрное тело, слабые руки и короткие ноги, но все его члены увеличивались в объеме и удлинялись, по мере того как он продвигался. В процессе этого быстрого роста он представлялся мне в различных образах: я видел, как он направлял на небо длинный телескоп, устанавливал при помощи маятника быстроту падения тел, определял посредством трубочки, наполненной ртутью, вес воздуха и с призмой в руках разлагал световой луч. К этому времени он стал колоссом, головой он поднимался до облаков, ноги его исчезали в бездне, а простертые руки касались обоих полюсов. Правой рукой он потрясал факелом, свет которого разливался по небу, озарял до дна море и проникал в недра земли[81]81
Здесь и далее «Нескромные сокровища» Дидро цитируются в переводе Д. Лившиц, Э. Шлосберг.
[Закрыть].
Колосс ударил по зданию, и оно рухнуло. Мангогул проснулся{112}112
Diderot. The Indiscreet Jewels (1993). 136.
[Закрыть].
«Что это за гигант направляется к нам?» – спросил Мангогул перед тем как проснуться. Ответ может показаться очевидным: Дидро, пишущий о трансформации знания, которую мы теперь называем научной революцией. Вскоре мы увидим, что Галилей направил свой телескоп на небо, Мерсенн (следуя примеру Галилея) точно измерил скорость падающих тел, Паскаль взвесил воздух, Ньютон расщепил свет с помощью призмы. Но Дидро назвал новорожденного колосса вовсе не «Наука», как мы могли ожидать. Во французском языке слово «наука» недостаточно конкретно для обозначения новых наук Галилея и Ньютона, поскольку, как мы видели, существовали и существуют разные науки, в том числе (в наше время) общественные. Не подходят и «естественные науки», поскольку этот термин, как и «натурфилософия», не делает различия между новой наукой и старой. Платон, вызвавшийся объяснить, что происходит, говорит: «Узнайте же, это Опыт»[82]82
«Reconnoissez l’Expérience, me répondit-il; c’est elle-même» (Diderot. Les Bijoux indiscrets, 1748. Vol. 1. 352).
[Закрыть]. Но разве в опыте есть что-то новое? Разве опыт не есть нечто общее для всех человеческих существ? Как может «Опыт» быть подходящим названием для новой науки?
Отвечая на этот вопрос, я буду возвращаться к проблеме, на которую указывает нам Дидро, называя своего колосса «Опытом», – трудности нахождения адекватного языка для описания новой науки. С этой проблемой сталкиваемся не только мы, когда пытаемся понять ее, – серьезные трудности испытывали и те, кто изобрел новую науку, и те, кто подобно Дидро, восхвалял ее. Я приведу аргументы, что новая наука была бы невозможна без создания нового языка, который необходим для размышлений и который должен был сформироваться из доступных слов и фраз. Сначала это произошло в английском языке, где, например, в XVII в. стали расходиться значения слов experience (опыт) и experiment (эксперимент). (Дидро, который начинал свою литературную карьеру с переводов с английского на французский, был хорошо знаком с этим новым языком.) Таким образом, expérience Дидро переводится не как «эксперимент» (во французском языке до сих пор нет такого слова), однако совершенно очевидно, что «эксперимент» больше подходит для описания новой науки, чем «опыт», хотя Леонардо считал опыт ключом к надежному знанию. Мы можем точно определить, когда начался процесс формирования нового языка науки: с нового слова, еще больше расширившего ту роль, которую должен был сыграть опыт. Это слово discovery (открытие), существующее во всех европейских языках.
Далее мы увидим, как в XVII в. опыт в форме наблюдений и экспериментов, ведущих к открытиям, приобрел новое значение, как новая концепция открытия сделала возможным появление науки и как эта новая наука начала менять мир, результатом чего стали новые технологии, без которых мы уже не можем обойтись. Это история рождения науки, ее младенчества и ее удивительного превращения в колосса, под тенью которого мы все живем. Но необычная глава из книги Дидро содержит и предупреждение: сон, чудовища и аллегории, лингвистическая неопределенность – все это передает ощущение тревоги. Какова будет история опыта, точнее, этой новой разновидности опыта?
Может показаться, что нам ответить на этот вопрос гораздо проще, чем Дидро, поскольку он все еще находился в плену ньютоновской философии (во Францию она пришла позже, чем в Англию), а мы уже можем оглянуться на пройденный путь. Но у Дидро было перед нами одно преимущество: он окончил Сорбонну в 1732 г. и получил образование в мире философии Аристотеля. Он знал, каким потрясением стало разрушение привычного мира, поскольку сам пережил его. С высоты птичьего полета – а именно так смотрят историки – научная революция выглядит долгим и медленным процессом, который начался с Тихо Браге и закончился Ньютоном. Но для людей, которые в ней участвовали, – Галилея, Гука, Бойля и их коллег – она представляет собой череду внезапных, резких перемен. В 1735 г. Дидро, получивший традиционное образование, по-прежнему собирался стать католическим священником, но в 1748 г., по прошествии чуть более десяти лет, уже работал над своей великой «Энциклопедией» (Encyclopaedia), первый том которой появился в 1751 г. Для него разрушение храма философии было не историческим событием, а личным переживанием – моментом, когда он очнулся от ночного кошмара.









































