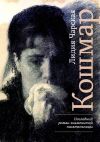Читать книгу "Кошмар: литература и жизнь"
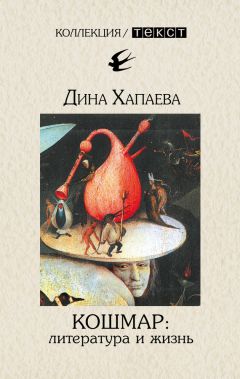
Автор книги: Дина Хапаева
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Дина Хапаева
Кошмар: литература и жизнь
Тем, кому снятся кошмары
Авласавлалакавла
Высоко над моей годовой, распадаясь на отдельные буквы, парили фразы, но мне это не мешало читать – это место из романа Томаса Манна «Иосиф и его братья» я знала почти наизусть:
«Это были юродивые, бесноватые, блаженные, делавшие свою способность пророчествовать в исступленном состоянии источником заработка, – вещуны, которые, странствуя с места на место или же сидя в пещерах, добывали деньги и съестные припасы указанием благоприятных для тех или иных дел дней или предсказанием неведомого. Иаков не любил их по долгу перед Богом, да и никто, собственно, их не любил, хотя все остерегались их обижать. Это были грязные, шальные и дикие люди; дети бегали за ними и кричали им вдогонку: «Авласавлалакавла», ибо примерно так звучали вешания этих безумцев…»
Звукослово Авласавлалакавла навевало мысли о долгом борении иудейско-христианской, европейской культуры, медленно и постепенно выдавливавшей из своих социальных практик и политического опыта кошмар и пророчества – ради торжества чистого логоса, прозрачного слова. Почему-то к этому примешивался образ переливания крови – из вен в текст, из жизни в литературу…
Авласавлалакавла. Противоестественное слово, судорожно корчащееся в преддверии невыразимого кошмара. Навязчивым повтором бессмысленных звуков оно вызывало томительное чувство, стеснение в груди.
Медленно кружась, словно осенние листья, буквы начали падать вниз. Их движение все убыстрялось, они повалили сильнее, и оттого, что за ними надо было неотрывно следить глазами, кружилась голова. Теперь они были со всех сторон, и из образовавшейся стремительной воронки уже не было никаких шансов выбраться наружу. Смерч букв подхватил меня, скрутил и понес, и тут стало темно.
Очнувшись, я ощутила ту скованность во всем теле, какую и должна чувствовать заглавная буква А.
Благодарности
Во время работы над этой книгой мне были необходимы помощь и внимание моих друзей и коллег. Если бы Кэрил Эмерсон не отозвалась одобрительно о моем тексте о Гоголе и о Бахтине и не поддержала идею написать о кошмарах, этой книжки точно не было бы.
Мне было очень важно услышать доброжелательный отзыв Владимира Марковича Марковича, читавшего отрывки из этой книги.
Я признательна Якову Аркадьевичу Гордину, Гансу Ульриху Гумбрехту, Ирине Гробман, Наталье Борисовне Ивановой, Даниле Корогодскому, Глебу Мореву, Юхе Сиволя, Мариэтте Омаровне Чудаковой, Габриель Шпигель и Ирине Ясиной, дружеской поддержкой которых я пользовалась на разных этапах работы.
Более всего я обязана Николаю Колосову, который уже много лет героически критикует и совершенствует мои тексты. В спорах с Катей Колосовой, которая очень помогла мне в поиске литературных кошмаров, рождались многие идеи кошмароведения. Николай и Катя мужественно вытерпели мое погружение в кошмар, и за это им обоим большое спасибо.
Работа над книгой была завершена в Коллегиуме Хельсинкского университета, и этому учреждению я с удовольствием выражаю здесь свою признательность.
I
КОШМАР ЛИТЕРАТУРЫ
Воздух тяжел и влажен. Давящее серое небо, берег, поросший густой, ядовито-зеленой травой. Моя бабушка стоит по колено в мутной воде. В руках она держит большую рыбу. У рыбы вспорото брюхо. Наружу, бабушке на руки, свисает склизкая, розово-разлагающаяся рыбья плоть. От отвращения трудно дышать, но страх еще сильнее. Я хочу, чтобы бабушка немедленно бросила эту гнусную дохлятину, вышла из воды, иначе случится что-то ужасное, но она меня не слышит. Я просыпаюсь, рыдая, – мне очень страшно за бабушку. Бабушка, в то утро еще совершенно здоровая и бодрая, математик и убежденный скептик, высмеивает «эти глупости». Мне 11 лет, и я еще не знаю, что кошмары сбываются. Что они безжалостно срывают покровы тайны, которую ты больше всего боишься узнать.
Как всегда, мне было тяжело рассказывать свой детский кошмар. Не только потому, что перед моим мысленным взором вставали все те же, не потускневшие от времени образы, но и потому, что я снова, в который раз, с раздражением чувствовала свое бессилие, свою неспособность передать его словами. А мне этого очень хотелось: мой собеседник, «знаменитый литературовед», который прежде казался мне образном интеллектуальной открытости, уже косился на меня так, будто я предложила ему заняться спиритизмом.
«А ведь этот все-таки еще не психолог, – подумала я со злобой. – И сам, я же знаю, пробавляется писательством, не только «чистой наукой». А меня уже зачислил в буйнопомешанные. А может, и в свежеуверовавшие православные…»
«Что такое кошмар? Что происходит в нашем сознании, когда он нам снится? И почему кошмары – хотя бы иногда – сбываются, превращаясь в пророчества?» – незаданные, мои вопросы повисли в пустоте. Продолжать не стоило, было и так понятно, что «об этом не говорят». В приличном «научном сообществе». Действительно, зачем портить себе репутацию? От злости и неудачи, как всегда, хотелось курить.
Лучше бы я нашла сигарету, и тогда мой коллега не узнал бы, что его взгляд на кошмар мне представляется последствием тяжелой родовой травмы, полученной науками о человеке в процессе высвобождения из лона религии и мистицизма; что именно в память об этом болезненном высвобождении научная инквизиция превратила в табу многие понятия лишь потому, что они ускользали от неповоротливых орудий «научного сознания», что драматически сказалось на дорогой моему собеседнику «объективности» гуманитарных исследований…
После этого разговора мне приснился отличный сон: люди в сером, лица которых, за исключением Фрейда, я не могла различить, тыкали чем-то, похожим на огромные ржавые клеши, в светящийся живой воздух. «Это их метод, а это – сознание», – догадалась я.
Проснувшись, я стала думать о том, что ни психологи, ни психоаналитики никогда не допускали мысли о том, что сны могут обладать своей собственной, особой природой. И поэтому их никогда не волновал вопрос, кошмарами они были или не кошмарами. В теории Фрейда сны служили символическим выражением подавленных желаний, иллюстрацией истинности психоаналитического метода. Хотя достаточно вычесть из «толкования сновидений» теорию психоанализа, чтобы убедиться: после такого простого действия в психоанализе не останется никакого «позитивного знания», никакой информации о снах «самих по себе».
Пора было вставать, чтобы идти на встречу с «известным психологом», – не зря же я в Нью-Йорке. Я представила себе, что будет, если дать ему прочесть цитату из Джерома К. Джерома: «Говорят, что сновидения – это комплекс мыслей, мгновенно возникающих под влиянием того внешнего обстоятельства, от которого мы просыпаемся. Как многие другие научные гипотезы, эта тоже иногда соответствует истине». К цитате должен был бы прилагаться примерно такой комментарий: «Так писал Джером К. Джером еще в 1891 г., не подозревая, что подход к снам как к исковерканному отражению событий внешнего мира будет преобладать в психологии и сто лет спустя».
Вообще, психологов и психоаналитиков объединяет сугубо утилитарный подход к снам и уверенность в «лженаучности» кошмара – и понятия, и явления. Психологи рассматривают сон как кривое зеркало, в котором отражаются искаженные до неузнаваемости факты реальности и психические состояния, в основном нежелательные. В зависимости от конкретной школы, психологи по-разному объясняют эти состояния, но никогда не задаются вопросом о том, что именно сон привносит в них из своей собственной, независимой от психических расстройств, природы. Я знала, что всякий психолог не преминет указать на прогресс, достигнутый в исследованиях физиологии сна. Но даже психологу понятно, что в рамках этих исследований исключается всякая возможность задуматься об особенностях сна как ментального состояния, не говоря уж о кошмаре.
Психолог выслушал меня профессионально-внимательно – он вообще был похож на мышкующую лису. Он не хотел показаться ретроградом, учил меня заваривать чай («Ровно три минуты, и крышечку вот так…») и долго распространялся о том, что о природе снов науке известно до удивления мало, что, оказывается, сон способствует обучению и даже может «предупреждать» организм о грозящих болезнях. Потом он подробно описал мне, какие опыты он ставит на своих студентах и пациентах и какие научные выводы можно сделать, если замерить продолжительность сна с помощью наручных часов.
На мой вопрос – почему, если нас интересует, что такое кошмар, мы должны предположить, что рядовой пациент-невротик, или студент – участник психологического эксперимента, или даже незаурядно талантливый психолог в состоянии лучше и точнее изобразить кошмар, чем, например, Гоголь или Достоевский? – он ничего не ответил, но посмотрел на меня так, что стало ясно: он готов нажать кнопку вызова охраны. Но тут мне вдруг стало все равно. Потому что в этот момент я поняла, как будет начинаться моя книга.
Тайны кошмара хранит литература. Ибо исследование природы кошмара было важнейшей темой творчества целой плеяды гениальных писателей.
Разумеется, воссоздание кошмара как особого ментального состояния вовсе не есть универсальное свойство всех художественных произведений, в которых герою снится страшный сон. Сквозь призму «кошмароведения» нельзя прочесть Пушкина или Тургенева, Голсуорси или Эмиля Золя. Они писали совсем о другом. Их волновали те проблемы и сюжеты, на которые обычно и обращают внимание литературоведы: драмы человеческих отношений и этические вопросы, проблемы взаимодействия героя и общества, поэта и царя, описание социальной реальности и ее пороков.
Напротив, творчество Чарльза Метьюрина и Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского и Томаса Манна, Г.Ф. Лавкрафта и Виктора Пелевина трудно понять, игнорируя перспективу «кошмароведения». Сквозь призму интереса к кошмару можно по-новому истолковать их замыслы и обнаружить преемственность между ними. Кошмар – цель, смысл, суть их произведений – неуловим посредством обычных литературоведческих приемов и методов анализа подобно тому, как изучение природы кошмара лежит за гранью современной психологии. Тем более что литературоведы (как и их собратья-психологи), никогда не считали кошмар предметом, достойным внимания.
И еще я поняла: для того, чтобы начать писать, мне следует перестать думать о коллегах и вообразить себе вас, читатель. И если вас не смущает, что кошмар – и явление, и понятие – это подлинный эпистемологический скандал для гуманитарного знания, если вы готовы рискнуть оказаться вне «сообщества ученых» (хотя бы потому, что специалистов по кошмару просто нет), и если поиск ответа на вопросы о природе кошмара представляется вам столь же важным, как и мне, то почему бы нам не затеять с вами такой чернокнижный разговор?
Я предлагаю называть техники письма, необходимые для изображения кошмара, для его перевода из жизни в литературу, словом гипнотика. Новое слово нужно потому, что слово «поэтика», которым любят пользоваться филологи, подразумевает, что автор не до конца понимает подлинные причины, в силу которых он пишет так, а не иначе, и зачастую бессознательно применяет те или иные литературные приемы. Тогда как нас будет интересовать как раз активная роль автора – создателя прозы о кошмаре. Гоголь и Достоевский, Лавкрафт и Пелевин с увлечением ставили смелые опыты и над своими героями, и над своими читателями, чтобы исследовать секреты кошмара и научиться их использовать в своем творчестве. А Томас Манн в романе «Иосиф и его братья» напряженно размышлял над сутью пророчеств.
Для исследования кошмара нам потребуется еще одно понятие – литературная реальность, а именно то, что представляется нам правдоподобным в художественном тексте, то, что мы легко принимаем за его «действительность». Ибо все авторы, живописавшие кошмары, задавались вопросами о том, где пролегает грань между кошмаром и жизнью и в чем отличие – если оно есть – между реальностью и художественным вымыслом. Чтобы ответить на эти вопросы, они пытались нащупать границу между «действительностью» реалистичного литературного вымысла и кошмаром, понять, как возникает «эффект реальности» в литературе, и использовать его для воздействия на читателя.
Воссозданный в художественном тексте, кошмар приобрел огромное влияние на читателя и превратился в культурную норму и культурную форму современности. Литература послужила отправной точкой для создания культуры потребления кошмара, породив «жанр ужасов» и вызвав к жизни Готическую эстетику.
Но читатель, рассчитывающий найти на этих страницах сонники, Каббалу или «Молот ведьм», будет разочарован. Мистические учения, как и божественные откровения, не в силах помочь нам приблизиться к пониманию природы кошмара или пророчеств. И не они ответственны за внутреннее перерождение проекта европейского рационализма, приведшее к глубоким изменениям в современной культуре.
У этой книги триединая задача: понять особенности кошмара как психологического переживания, литературного процесса и культурного проекта. Я попытаюсь восстановить мозаику совпадений, благодаря которым литературный эксперимент превратился в нашу повседневность.
Выплескивания кошмара из жизни в литературу и из литературы в жизнь я и предлагаю вам, читатель, обсудить на этих страницах.
1
У истоков
НЕОКОНЧЕННЫЕ ОПЫТЫ НАД ЧИТАТЕЛЕМН.В. ГОГОЛЬ. ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОВЕСТИ
Когда я писал мои незрелые и неокончательные опыты, – которые я потому только назвал повестями, что нужно же было чем-нибудь назвать их, – я писал их для того только, чтобы пробовать мои силы и знать, так ли очинено перо мое, как мне нужно, чтобы приняться за дело. Видевши негодность его, я опять чинил его и опять пробовал. Это были бледные отрывки тех явлений, которыми полна была голова моя и из которых долженствовала некогда создаться полная картина. Но не вечно же пробовать. Пора наконец приняться за дело.
Н.В. Гоголь. Из письма М.П. Погодину
«Незнакомое существо, к которому так прильнули его глаза, мысли и чувства, вдруг поворотило голову и взглянуло на него»[1]1
«Невский проспект» (далее – НП). Здесь и далее цитирую по изданию: Н.В. Гоголь. Полное собрание сочинений. Под ред. Н.Ф. Бельчикова, Б.В. Томашевского. Ленинград, изд-во АН СССР, 1938, т. 3 с.18.
[Закрыть]. Не правда ли, кровь стынет в жилах от такого описания? Опытному читателю современной фэнтези, любителю ужасов, очевидно, с кем ему пришлось столкнуться на этой странице: нет сомнений, это чудовище, которое сейчас пожрет свою жертву. И только подлинный любитель творчества Н.В. Гоголя вспомнит, что эта фраза относится к романтической красавице, очаровавшей в «Невском проспекте» героя-художника. Зачем, в самом деле, так отзываться о красавицах, что читателя мороз подирает по коже? Правда, уже в следующей фразе автор одергивает себя и начинает описывать ее божественные черты. И зачарованный читатель переводит дух и послушно умиляется ее облику.Но попытаемся вырваться из цепких объятий гоголевского слова и вглядеться в незнакомку, только что встреченную нами на Невском проспекте. Что нам известно о ней? Прежде всего, восклицание художника: «…чудная, совершенно Перуждинова Бианка (…) И какие глаза! боже, какие глаза! все положение, и контура, и оклад лица – чудеса!»[2]2
Там же, с. 15.
[Закрыть] Вот, действительно, описание, вполне достойное красавицы. Ну, а дальше? А дальше Гоголь, бескомпромиссный критик меркантильной пошлости, продолжает пленять нас рассуждениями… о ее плаще. Да, да, именно так: уже третья фраза, посвященная красавице, сказана героем о ее плаще: «один плащ на ней стоит рублей восемьдесят»[3]3
Там же, с. 16.
[Закрыть]. Роковым образом именно в сторону, «где развевался яркий плащ ее», «насильно» толкает Пискарева Пирогов. И именно за плащом гонится наш герой, стремясь навстречу своему кошмару и неминуемой трагической гибели. Что же столь особенного в этом плаще, пусть даже и ценой в восемьдесят рублей? И почему, напутствуя своего читателя перед расставанием, Гоголь завершает свою повесть словами все о том же плаще: «Как ни развевайся вдали плащ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далее, ради Бога, далее от фонаря! и скорее, сколько можно скорее, проходите мимо»[4]4
Там же, с. 76.
[Закрыть].Теперь давайте оставим и дорогой плащ, и его удивительную обладательницу и обратимся к главному событию повести – к погоне.
Итак, погоня, погоня, которая заставляет текст мчаться по ее горячим следам, задает все ускоряющийся темп рассказа, несущегося на всех парах к своей кульминации, к трагедии, а затем – под откос, кубарем, к развязке… И следом – точно чтобы что-то утаить – внимание читателя резко переключается с драматического впечатления от страшной судьбы художника к пошлой историйке про наглеца Пирогова.
Как помнит читатель, два сюжета составляют «Невский проспект»: романтическая история художника Пискарева, не сумевшего пережить, что очаровавшая его «ангел красоты» оказалась продажной женщиной, и пошлая история Пирогова, приударившего за хорошенькой немкой и выпоротого за это жестяных дел мастером Шиллером, сапожником Гофманом и столяром Кунием. («И можно ли сказать, что всякий немей есть Шиллер?! Я согласен, что он Шиллер, но только тот Шиллер, о котором вы можете узнать, если будете когда-нибудь иметь терпение прочесть мою повесть „Невский проспект”»)[5]5
Из письма М.П. Балавиной, Гоголь, ПСС, т.11., с. 229.
[Закрыть]. Критики не преминули отметить, что эти истории служат для противопоставления высокого и низкого во всевозможных ипостасях. В одном из своих писем Гоголь так выразил этот эстетический принцип: «Я люблю вдруг возле одной песни встретить другую, совершенно противного содержания»[6]6
Из письма М.А. Максимовичу, Гоголь, ПСС, т. 10, с. 46.
[Закрыть].Но у этой второй истории есть еще одна важная роль, которую не заметили критики. По своему сюжету – погоня за приглянувшейся красавицей, – темпу, стилю, ироническому пародированию эта вторая история создает мутное кривое зеркало, в котором отражается драма Пискарева. Вглядываясь в него, читатель должен практически полностью утратить воспоминания о пережитом им в первой части повести и сохранить лишь смутное чувство произведенного на него неясного, но сильного впечатления. Эта вторая история помогает автору скрыть от читателя то, что происходило с ним, с читателем, в первой.
Ибо если бы Гоголь относился к читателю так же трогательно, как к Акакию Акакиевичу, он бы начал свои «Петербургские повести» примерно вот с такого признания: «Потрудитесь расслабиться и ничему не удивляйтесь. Я незаметно вторгнусь в ваше сознание и овладею им настолько быстро, что вы даже ничего не почувствуете. Я покажу такие чудеса в вашей избитой повседневности, какие вы сами никогда не отваживаетесь помыслить. Вам откроется мир, полный ярких красок, необычайных загадок и драматических страстей. От вас я ничего не прошу – только читайте, читайте дальше!» Но Гоголь не мог быть вполне откровенен со своим читателем, ибо это помешало бы ему осуществить эксперимент, который так много для него значил.
Как отмечали многие, читатель испытывает при чтении Гоголя дискомфорт. Может быть, причина в том, что над сознанием читателя ставятся опыты, которые ему не всегда приятны? Чувство дискомфорта, конечно, не единственная эмоция, вызываемая чтением: с удовольствием распознавая знакомое-незнакомое в своей повседневности, читатель впитывает новую и непонятную систему художественных приемов, складывающихся в эстетическую концепцию, которую автор не проговаривает, но которой он дорожит больше идей и сюжетов. Эксперимент, который предпринимает Гоголь, – это вовсе не отвлеченный эксперимент с художественным словом, «искусство для искусства». Это психологический эксперимент с сознанием читателя, который преследовал вполне определенные внелитературные цели.
Действительно, внимание читателя – и это характерно для всех повестей петербургского цикла – все время раздвоено (чтобы не сказать – расстроено), распылено на разные детали, сообщения и предметы. Оно мечется между «высоким и низким»[7]7
О «высоком и низком» у Гоголя см.: R. L. Jackson «Gogol’s “The Portrait”: The Simultaneity of Madness, Naturalism, and the Supernatural». Essays on Gogol: Logos and the Russian Word. Ed. by S. Fusso, P. Meyer. Evantson, 1992.
[Закрыть], силясь понять «идею» или извлечь «мораль», оно захвачено полемикой, в которую вовлекает его автор, оно все время занято разными планами повествования. Читатель должен напряженно следить – за интригой, за погоней, силясь не упустить стремительный темп рассказа. Может быть, именно поэтому в фантасмагориях Гоголя так выпукло выступают тщательно прописанные красочные, даже несколько бурлескные детали повседневности – подобно тому, как у Пруста так много светских сплетен и так внимательно отделываются элементы пейзажей, так ярко цветет боярышник?Текст имеет много уровней, заставляя читателя одновременно присутствовать в его разных регистрах. Например, в «Невском проспекте» Гоголь вовлекает читателя в полемику о соотношении добра и красоты, о противоположности эстетического и этического начал[8]8
«(…) но красота, красота нежная… она с одной непорочностью и чистотой сливается в наших мыслях». НП, с. 22.
[Закрыть]. Другая полемическая тема – переосмысление романтизма, отстранение от него и попытка его преодоления.Но помимо развития сюжета и полемики, которые Гоголь открыто преподносит читателю, он использует целый ряд изобразительных приемов, от читателя в основном скрытых, направленных на выполнение важной задачи автора – испытать на читателе границы власти литературы, художественного слова, и опытным путем установить, на что способна преобразующая сила искусства. «Петербургские повести» представляют собой серию экспериментов с читательским сознанием, причем в каждой повести разрабатывается новый набор художественных средств и приемов. Эти приемы и станут предметом нашего пристального внимания.