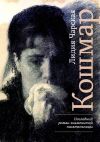Текст книги "Кошмар: литература и жизнь"
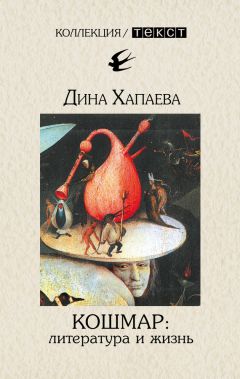
Автор книги: Дина Хапаева
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
«Потом я понял, что страшно устал. (…) Мне вдруг пришло в голову, что с начала времен я просто лежу на берегу Урала и вижу сменяющие друг друга сны, опять и опять просыпаясь здесь же. (…) Кто, подумал я, прочтет описание моих снов? (…) Неужели, подумал я, я так и засну опять на этом берегу? Не оставив себе ни секунды на раздумье, я вскочил на ноги, разбежался и бросился в Урал. Я не почувствовал почти ничего – просто теперь он был со всех сторон, и поэтому никаких сторон уже не было. Я увидел то место, где начинается этот поток, – я сразу понял, что это и есть мой настоящий дом. Словно подхваченная ветром снежинка, я понесся к этой точке. Сначала мое движение было легким и невесомым, а потом произошло что-то странное – мне стало казаться, что непонятное трение тянет назад мои голени и локти, и мое движение замедляется. А как только оно замедлилось, окружавшее меня сияние стало меркнуть, и в момент, когда я остановился совсем, свет сменился тусклой полутьмой, источником которой была горевшая под потолком электрическая лампа. Мои руки и ноги были пристегнуты ремнями к креслу, а голова лежала на маленькой клеенчатой подушке[145]145
Пелевин. Чапаев…, с. 444.
[Закрыть].
Согласитесь, читатель, что, хотя никому из нас никогда не снился именно такой кошмар, мы безоговорочно верим в его достоверность. Происходит это, скорее всего, потому, что в тексте Пелевина и, в частности, в этом описании заложены важнейшие элементы «магической формулы» кошмара, его секреты, скрытые покровом ночи. Взять хотя бы то, как полноценный кошмар соткался из счастливого сна – исполнения желаний. В тот момент, когда герой, как и читатель, ожидает катарсиса, счастливой развязки, когда он, наконец, падает в УРАЛ – Условную Реку Абсолютной Любви, – светлая греза сменяется безобразным кошмаром. Как многим из нас, подобно многим литературным героям, доводилось переживать такое потрясение!
Почему это происходит? Что творится в нашем сознании, в сознании спящего, когда счастливый сон превращается в кошмар? Почему и в грезах Петьки, и в наших собственных снах грезы так часто оборачиваются кошмаром? Где пролегает та роковая грань, за которой гармония сменяется ужасом?
«Плохие новости» приходят в тот момент, когда в сознании сновидца возникает точка, приковывающая его внимание, – начало потока, к которому он безрассудно устремляется. Пристальное всматривание, вглядывание в пустоту предваряет галлюцинации, болезненные видения, что хорошо известно и писателям, и даже некоторым психологам. Случайно ли Поприщин, а позднее его литературные потомки господин Голядкин и Иван Карамазов, а также их дальний родственник Иванушка Бездомный, как, собственно, и многие другие герои, постоянно щурятся, вглядываются, всматриваются в пустоту прежде, чем увидеть черта или монстра?
Он сидел на диване и чувствовал головокружение. Он чувствовал, что болен и бессилен. Стал было засыпать, но в беспокойстве встал и прошелся по комнате, чтобы прогнать сон. Минутами мерещилось ему, что как будто он бредит. Но не болезнь занимала его всего более; усевшись опять, он начал изредка оглядываться кругом, как будто что-то высматривая. Так было несколько раз. Наконец взгляд его пристально направился в одну точку. Иван усмехнулся, но краска гнева залила его лицо. Он долго сидел на своем месте, крепко подперев обеими руками голову и все-таки кося глазами на прежнюю точку, на стоявший у противоположной стены диван. Его видимо что-то там раздражало, какой-то предмет, беспокоило, мучило. (…) Итак, он сидел теперь, почти сознавая сам, что в бреду, и, как уже и сказал я, упорно приглядывался к какому-то предмету у противоположной стены на диване. Там вдруг оказался сидящим некто, бог знает как вошедший, потому что его еще не было в комнате, когда Иван Федорович, возвратясь от Смердякова, вступил в нее[146]146
Достоевский. Братья Карамазовы, с. 69–70.
[Закрыть].
Хотя, конечно, это был вовсе не господин, а черт, точнее – кошмар Ивана Федоровича Карамазова. (Мы пока оставим в стороне вопрос об отличие кошмара от безумия и вернемся к нему позже.)
Направленное внимание – интенциональность сознания спящего, как сказали бы феноменологи, если бы их интересовали кошмары, – превращается в порождающий кошмар источник. Сосредоточенное всматривание, вглядывание в пустоту, в неясную точку на горизонте, в полоску света ввергает сновидца в оцепенение. Герой Пелевина тоже переживает рождение кошмара из точки концентрации внимания, из пустоты:
Укол, несомненно, продолжал действовать – со мной происходило то же, что и в ванной. Я не был способен воспринимать реальность в ее полноте. Элементы окружающего мира появлялись в тот момент, когда на них падал мой взгляд, и у меня росло головокружительное чувство, что именно мой взгляд и создает их[147]147
Пелевин. Чапаев…, с. 140. «Видимо, слова насчет укола были правдой. С моим восприятием действительно творилось что-то странное. Несколько секунд Володин существовал в нем сам по себе, без всякого фона, словно фотография в виде на жительство. Уже рассмотрев его лицо и фигуру во всех подробностях, я вдруг задумался над тем, где все это происходит. И только после того, как я подумал о месте, где мы находимся, это место возникло – такое, во всяком случае, у меня осталось чувство». (Там же, с. 132).
[Закрыть].
Усилие сознания – или бессилие не концентрироваться? – образует смысловой центр кошмара, его завязку. Вспомним гипнотизирующую роль полоски света, видную сквозь щели ширм в «Портрете» Гоголя.
Магическая точка пустоты обладает еще одним любопытным свойством: стоит ей возникнуть, как в образованном ею центре все приходит в движение. Она становится эпицентром кошмара и центром воронки, засасывающей спящего. Вокруг нее организуются образы, воспоминания о событиях, обрывки фраз, отголоски звуков. Точка образует, как выразились бы физики, горизонт событий кошмара, притягивая к себе все, что раньше никак не было связано с ней:
Завороженный загадочной точкой, как шариком гипнотизера, сновидец погружается в кошмар, покидая пространство счастливого сна. Стоило только сновидцу увидеть «место, где начинался поток», и, кружась в засасывающей воронке, он устремился со все возрастающей скоростью к катастрофе.
Точка может разрастись до огромных размеров, а ее притяжение – увеличится и стать непреодолимым:
А теперь Сердюк (…) поплыл в бескачественной пустоте и чувствовал, что движется к чему-то огромному, излучающему нестерпимый жар. Самым ужасным было то, что это огромное и пышущее огнем приближалось к нему со спины, и никакой возможности увидеть, что это такое на самом деле, не было. Ощущение было невыносимым, и Сердюк стал лихорадочно искать ту точку, где остался весь знакомый ему мир. (…) Долгое время после этого не было ничего вообще – так что даже неверно говорить, что долгое время, потому что времени тоже не было. А потом послышались кашель, скрип каких-то половиц…[149]149
Там же, с. 285.
[Закрыть]
Магическая точка играет в кошмарах Пелевина еще одну важную роль: она оказывается идеальным мостом, через который читатель переправляется, сам того не подозревая, из одного кошмара в другой.
Как только тебя охватывает поток сновидения, ты сам становишься их частью, потому что в этом потоке все относительно, все движется, и нет ничего такого, за что можно было бы ухватиться. Когда тебя засасывает в водоворот, ты этого не понимаешь потому, что сам движешься вместе с водой, и она кажется неподвижной. Так во сне появляется ощущение реальности[150]150
Там же, с. 422.
[Закрыть].
Бешеное вращение воронки кошмара перекликается с другими художественными приемами, которыми пользуется Пелевин. Ощущение кружения – вот эффект, которого добивается Пелевин, а дежавю – опыт, который он заставляет пережить читателя. Роман изобилует повторами, будь то поразивший Петьку в сумасшедшем доме рисунок «Битвы на станции Лозовая», эксцентрические сцены в кафе «Музыкальная табакерка» или образ снежинок, с которыми герой сравнивает себя в самые драматические моменты своей жизни[151]151
Другие дежавю в «Чапаеве» см. с. 44, 45, 469, 474.
[Закрыть]. Вся композиция романа заключена в круг, образует рондо. Описание заснеженного Тверского бульвара в последней фразе романа дословно повторяет первую фразу[152]152
«Тверской бульвар был почти таким же, как и тогда, когда я последний раз его видел – опять был февраль, сугробы и мгла, странным образом проникавшая даже в дневной свет. На скамейках сидели неподвижные старухи, стерегущие пестро одетых детей, занятых затяжной сугробной войной; вверху, над черной сеткой проводов, висело близкое-близкое к земле небо» (Там же, с. 463). «Тверской бульвар был почти таким же, как и два года назад, когда я последний раз его видел – опять был февраль, сугробы и мгла, странным образом проникавшая даже в дневной свет. На скамейках сидели те же неподвижные старухи; вверху, над черной сеткой ветвей, серело то же небо, похожее на ветхий, до земли провисший под тяжестью спящего Бога матрас. (…) Бронзовый Пушкин казался чуть печальней, чем обычно. (…) Страстной бульвар был еле виден за снежной мглой» (Там же, с. 11).
[Закрыть]. Один и тот же «невыразимо угнетающий двор», проходом сквозь который начинаются странствия героя в 1918 г., становится и последней деталью московского пейзажа 90-х, которую мы увидим глазами Петьки[153]153
«Пройдя невыразимо угнетающий двор, мы оказались перед дверью, над которой торчал чугунный козырек с завитками и амурами в купеческом духе» (Там же, с. 31).
[Закрыть]. Между ними есть лишь одно, не бросающееся в глаза отличие: пропавшее – выпавшее из памяти? – столетье.
Дежавю, стирающее грань между началом и концом текста и между описанными в нем кошмарами, должно окончательно снять вопрос об «экстралингвистической реальности», лежащей за пределами романа, полностью замкнув повествование на себе самом, – таково постмодернистское прочтение романа.
Однако значение дежавю этим вовсе не исчерпывается. У него есть и другая важная роль – и в романе Пелевина, и в кошмаре. Классиком изображения замкнутого круга дежавю, однако, следует признать вовсе не постмодерниста Пелевина и даже не живописателя кошмара Ф.М. Достоевского, но столпа реалистического метода, Л.Н. Толстого, в чьих произведениях этот прием, как мы увидим ниже, неожиданно получил свое полное развитие.
Любители готического романа, конечно, знают, насколько важную роль в нем играет музыка. Речь идет не о музыке вообще, но об особенной, инфернальной музыке. Она завораживающе прекрасна, но раздается будто из-под земли, и слышна она только тому, кому она адресована, только тому, кому она подает знак, – герою, обреченному на скорую, неминуемую и загадочную гибель. Мотив инфернальной музыки пережил готический роман и заново обрел свое место в современной прозе, став верным спутником ее кошмаров и чудовищ.
Убийство тоже способно заставить зазвучать инфернальную музыку на страницах современных романов. Так, Петька, только что задушив своего приятеля, сел к роялю «и стал тихо наигрывать из Моцарта, свою любимую фугу фа минор, всегда заставлявшую меня жалеть, что у меня нет тех четырех рук…»[154]154
Там же, с. 25.
[Закрыть]. Эта фуга Моцарта превращается в лейтмотив кошмаров романа. В следующий раз герой слышит ее по радио в сумасшедшем доме, в исполнении группы «Воспаление придатков»: «Заиграла дикая музыка, похожая на завывание метели в тюремной трубе»[155]155
Там же, с. 95.
[Закрыть]. Та же фуга – тема нового кошмара Петьки, который, проснувшись после кошмара постсоветской психбольницы в революционной Москве, в квартире, где остался лежать труп задушенного приятеля, снова слышит ее, но уже в исполнении Чапаева[156]156
Там же, с. 98.
[Закрыть]. Похоже, что эта вещь Моцарта помогает поддерживать единство рассказа, является его постоянным и неизменным ключом. Ведь ничто не свидетельствует в пользу неизменности идентичности рассказчика, – мы даже не можем утверждать, что есть только один Петька.
Помимо фуги в «Чапаеве» есть еще один предмет, природа которого весьма загадочна. Это – орден Октябрьской звезды. За исключением понятной насмешки над советской символикой, мы ничего не знаем ни о нем – ни орденом какой страны или общества он является, ни за какие заслуги его дают. Кроме одного: орден с удивительным постоянством переходит из кошмара в кошмар, оставаясь связующей нитью повествования[157]157
Там же, с. 249.
[Закрыть]. Может быть, секрет ордена состоит в том, что он и есть точка, на которой сконцентрировался взгляд рассказчика-сновидца, точка, из которой и родились все описываемые в романе кошмары?
Только до тех пор, пока фуга звучит из кошмара в кошмар, а орден Октябрьской звезды переносится из истории в историю, мы можем быть уверены в том, что читаем единое произведение. Путеводная нить в кошмарах, фуга превращается в важнейшее акустическое связующе звено повествования, а орден – в визуальное. Музыка, как и зрительная точка в пространстве, приковывает к себе внимание, и ее аккомпанемент помогает нам углубиться в кошмар.
Но можем ли мы с уверенностью заключить, положившись на анализ Пелевина, что, когда мы видим кошмары, мы действительно слышим какую-то музыку? Иными словами, является ли музыка частью нашего опыта кошмара? Или, несмотря на ее распространенность в литературе, инфернальная музыка – лишь метафора, скрывающая собой особое свойство кошмара? Ответить на эти вопросы мы сможем несколько позже, обратившись к творчеству Достоевского.
Теперь поговорим о том, что творится в кошмаре, ибо у кошмара, несмотря на все разнообразие ночных ужасов, есть один наиболее часто повторяющийся сюжет – это преследование. Бегство или погоня и есть то главное, что мы запоминаем и с замиранием сердца пересказываем утром близким. «Краткое содержание» кошмара практически всегда сводится к попытке ускользнуть, скрыться, спастись от рокового неминуемого ужаса, от которого, по правилам всякого кошмара, нет, и не может быть спасения. Бегство выражает стремление уклониться от неминуемой катастрофы, от чудовищных обстоятельств, избежать страшного знания того, что неотвратимо надвигается на тебя. Тщетные попытки изменить то, что изменить невозможно, не дать случиться тому, что неизбежно должно произойти, избежать столкновения с тем, что будет, или с тем, что уже есть, но в чем сновидец – жертва кошмара – отчаянно боится себе признаться, тоже есть один из вариантов бегства, необратимости надвигающегося рока. И хотя мы практически всегда просыпаемся прежде, чем на нас обрушивается самое страшное, спастись от наступающего кошмара нам практически никогда не удается.
Преследование происходит со сверхъестественной, фантастической скоростью, когда мгновенно чередуются события, молниеносно меняется ритм, а сновидец ощущает колоссальные перегрузки от немыслимых ускорений[158]158
«…Огни, мимо которых мы шли, уносились с чудовищной быстротой. Казалось, что мы с ним неспешно идем по какой-то платформе, которую с невероятной скоростью тянет за собой невидимый поезд, а направление движения этого поезда определяется тем, в какую сторону поворачивает барон. Впереди нас возникла точка одного из костров, понеслась на нас и замерла у наших ног, когда барон остановился» (Там же, с. 312).
[Закрыть].
Кто же гонится за нами по пятам и от кого – или от чего? – мы «силимся бежать»? Что мы переживаем и какой опыт мы пытаемся передать, проснувшись, несмотря на то что выразить его так трудно? И в чем причина навязчивого повторения бегства и погони в наших кошмарах?
Кто-то идет со мною рядом, но кто – я не вижу (…) когда я подхожу к повороту, мне становится страшно, не знаю почему. Здесь, в узком тупике, стоит дом, в котором я жил ребенком, а теперь там кто-то ждет меня и хочет мне что-то сказать. Я бросаюсь бежать от этого дома. Идет блэкуоллский омнибус, я бегу ему наперерез, хочу остановить лошадей – и вдруг вижу, что это уже не лошади, а лошадиные скелеты, и они галопом уносятся от меня прочь. Ноги у меня будто налиты свинцом, а какое-то существо, которого я не вижу, хватает меня за руку и тащит меня обратно в дом.
Оно заставляет меня войти в дом, дверь за нами захлопывается – и гул прокатывается по комнатам. (…) Я взбираюсь на верхний этаж, где была моя детская. (…) В комнату входит какой-то старик, сгорбленный, весь в морщинах, в поднятой руке он держит лампу. Я вглядываюсь в его лицо и вижу, что это я сам. Входит кто-то другой, и этот другой – тоже я. Они идут один за другим – и комната наполняется все новыми и новыми лицами, а сколько их еще на лестнице! Они заполонили весь этот заброшенный дом. Одни старые, другие молодые, есть среди них приятные, они улыбаются мне, но есть и противные, их много, и они злобно на меня косятся. И каждое из этих лиц – мое собственное лицо, но ни одно из них не похоже на другое.
Я не знаю, почему мне так страшно видеть самого себя, но я в ужасе убегаю из этого дома, и все эти лица бросаются за мной в погоню. Я бегу быстрее и быстрее, но я знаю, что мне все равно от них не убежать[159]159
Джером К. Джером. Наброски для романа 1891 г. М., 1968, с. 450.
[Закрыть].
Так передает кошмар в своем неоконченном произведении «Наброски для романа 1891 г.» Джером К. Джером. Ужас кошмара здесь схвачен очень точно: он – в совмещении разных времен, в совпадении в едином пространстве дома детства лирического героя, прошлого, настоящего и будущего его собственной жизни и в вопиющей прерывности течения собственного времени героя, обретшего в кошмаре образы отдельных самостоятельных ипостасей. Это описание раскрывает одну принципиальную особенность кошмара как психологического состояния: бегство является способом говорить о катастрофе выпадения из привычного течения времени.
Когда нам снится, что нас преследует убийца или что мы пытаемся предотвратить ужасное событие, – это выражает субъективное переживание изменения хода времени, которое оборачивается прорывом в другую темпоральность, в другое время – или часто пробуждением. Соскальзывание в эту темпоральность сознание ощущает как катаклизм. Что объясняет и другую важную черту кошмара – способность менять местами последовательность прошлого и будущего, перемещать события не в свое время, спутанность порядка причин и следствий, причудливо искажающих предметы и уродующих пространство.
Погоня и бегство – простейший способ сознания представить в виде внятного образа то, что происходит в кошмаре. Кошмар – маленькая катастрофа спящего сознания – наступает в момент слома привычного чувства времени. Воронка, водоворот, стремительно ускоряющееся кружение искривляют последовательное течение событий, устремленных к развязке – к катастрофе разрыва времени. Так возникает темпоральность кошмара, в которой сновидец одновременно присутствует в разных моментах собственной жизни, а причинно-следственные связи между событиями драматически ломаются. Но, в отличие от «вывернутого через себя» времени П. Флоренского[160]160
П.А. Флоренский. Иконостас: Богословские труды. М., 1972, вып. 9.
[Закрыть], важнейшей особенностью времени кошмара оказывается разрыв. Именно разрыв подрывает необратимость времени и смешивает порядок времен. Все ускоряющееся кружение воронки подхватывает сновидца и выбрасывает его из привычного времени, обрываясь в особую темопральность. Но это – не мистическое зазеркалье, а горизонт собственного времени, в котором разрушена необратимость прошлого, настоящего и будущего.
Может быть, самое кошмарное свойство кошмара состоит как раз в том, что он представляет собой машину времени, которую непроизвольно запускает наше спящее сознание, способную перенести в будущее и возвратить прошлое, мучительно перемешать последовательность времен?
Во всяком случае, именно потребность нарушить линейную темпоральность рассказа является важнейшим композиционным приемом, исключительно значимым для авторов, описывающих кошмар. Спутанность хронологии, внезапные скачки из одного времени в другое, из одной эпохи в другую – таков способ воссоздания особой темпоральности кошмара в художественном тексте. В частности, этим приемом постоянно пользуется Пелевин, в романе которого герой кочует между историческим прошлым и настоящим, совершая в каждой главе путешествия против привычного хода времени. Таков один из приемов гипнотики, те художественные средства выражения, которые необходимы для воспроизведения кошмара в романе. Вся композиция «Чапаева» «работает» на поддержание кошмара, создавая дополнительные возможности для его воспроизведения.
Здесь следует обратить внимание на то, что и наши ночные кошмары, и описания кошмаров в художественной литературе очень часто сопровождаются головокружением. Оно принимает различные формы: иногда это может быть головокружительное чувство, испытываемое героем, или головокружительные скорости, с которыми развивается действие. Иногда это чувство материализуется в образе бездны или оно возникает у сновидца от ощущения падения. Вполне вероятно, что именно слом в темпоральности, переход от линейного восприятия времени к хаосу времен, знаменующему прорыв к темпоральности кошмара, вызывает у нас головокружительное чувство. Возможно, так проявляется физиологическая реакция на психологические впечатления – взгляд в бездну кошмара вызывает ту же реакцию, что и огромная высота. Но может быть так мы переживаем «перегрузки», вызываемые изменением чувства времени?
Владимир Володин (…) Поскольку вы решили в очередной раз потерять память, впору знакомиться заново. (…) А как моя фамилия? – с беспокойством просил я. – Ваша фамилия – Пустота, ответил Володин. – И ваше помешательство связано именно с тем, что вы отрицаете существование своей личности, заменив ее совершенно другой, выдуманной от начала и до конца[161]161
Пелевин. Чапаев…, с. 130–134.
[Закрыть].
Так читатель Пелевина получает одно из возможных объяснений кошмаров романа. Диагноз амнезии – частичной потери памяти – оглашает герою романа Петру Пустоте его сосед по палате:
Амнезия создает выразительный фон для развития кошмаров. Она вызывает чувство неуверенности в прошлом:
А о чем было стихотворение? – О, совершенно абстрактное. Там было о потоке времени, который размывает стену настоящего, и на ней появляются все новые и новые узоры, часть которых мы называем прошлым. Память уверяет нас, что вчерашний день действительно был, но как знать, не появилась ли эта память с первым утренним лучом[163]163
Там же, с. 20.
[Закрыть].
Частичная потеря памяти порождает неуверенность и в собственной личности, и в будущем, и в настоящем:
– Не забивайте себе голову тем, что не имеет отношения к настоящему, – сказал Чапаев. – В будущее, о котором вы говорите, надо еще суметь попасть. Быть может, вы попадете в будущее, где никакого Фурманова не будет. А может быть, вы попадете в будущее, где не будет вас[164]164
Там же, с. 119.
[Закрыть].
Амнезия играет важную роль в романе: без нее был бы невозможен переход из кошмара в кошмар. Композиция романа, в самом деле, держится на пустоте – на отсутствующей памяти, на избирательной амнезии. В этом смысле «Чапаев и пустота» имитирует важнейшую фигуру современного исторического сознания наших соотечественников и в силу этого является точным диагнозом постсоветской эпохи. Амнезия, провал в исторической памяти, позволяет заместить выдуманным героическим прошлым советский террор, хотя опасные последствия такой операции очевидны даже пациенту дома умалишенных. Действие романа происходит между двумя разделенными пустотой беспамятства событиями – революцией 1917-го и постсоветской мутацией, крайними точками кошмара советской истории. Пропасть отечественного исторического беспамятства, разверзшаяся между ними, обнажает тот факт, что как и композиция романа, постсоветская идентичность повисает в полной пустоте.
Петькина амнезия, как и историческая амнезия в сознании современных россиян, скрыла все то, что происходило при советской власти между 1917-м и серединой 90-х гг. Но, скрыв события, она оставила героям важное культурное наследие – нередуцируемый опыт неразделенности зоны и общества, слившихся воедино за годы советской власти. Избирательная историческая амнезия – нежелание наших сограждан взглянуть в лицо своему преступному прошлому, последовательно осудить его и принять на себя историческую ответственность за его последствия – активно способствует превращению зоны и свойственных ей особых форм поведения, иерархии и отношений между людьми в структурообразующий элемент российского общества[165]165
Подробнее о влиянии постсоветского беспамятства на формирование российского готического общества см. в: Хапаева. Готическое общество…, с. 126–135.
[Закрыть]. Об этом философствуют, обкурившись грибами, бандиты, герои одного из кошмаров:
Исчезновение событий, отказ задумываться об их значении или просто вспоминать их не избавляют героя от тяжкого груза прошлого, на которое обречен наследник советского ГУЛАГа. В поезде, захваченном ордой ивановских ткачей, Петр Пустота рассуждает об этом наследии так:
…Человек чем-то похож на этот поезд. Он точно так же обречен вечно тащить за собой из прошлого цепь темных, страшных, неизвестно от кого доставшихся в наследство вагонов. А бессмысленный грохот этой случайной сцепки надежд, мнений и страхов он называет своей жизнью. И нет никакого способа избегнуть этой судьбы[167]167
Там же, с. 128.
[Закрыть].
Пожалуй, тема трудности покаяния – это единственная тема, которую Пелевин действительно заимствует у Достоевского[168]168
«Но тут было другое, тут была какая-то темная достоевщина – пустая квартира, труп, накрытый английским пальто, и дверь во враждебный мир, к которой уже шли, может быть, досужие люди… Усилием воли я прогнал эти мысли – вся достоевщина, разумеется, была не в этом трупе и не в этой двери с пулевой пробоиной, а во мне самом, в моем сознании, пораженном метастазами чужого покаяния». (Там же, с. 23). «О, черт бы взял эту вечную достоевщину, преследующую русского человека! И черт бы взял русского человека, который только ее и видит вокруг!» (Там же, с. 41).
[Закрыть]. Катастрофа 1917 г., как и современный готический авторитаризм, неразрывно связана в романе с темой предательства интеллигенции. Идеологическую и политическую значимость этой темы для понимания «Чапаева» трудно переоценить.
«Многие декаденты, вроде Маяковского, учуяв явно адский характер новой власти, поспешили предложить ей свои услуги. Я, кстати, думаю, что ими двигал не сознательный сатанизм – для этого они были слишком инфантильны, – а эстетический инстинкт: красная пентаграмма великолепно дополняет желтую кофту[169]169
Там же, с. 15.
[Закрыть].
Утрата нравственных устоев и тяга заигрывать со злом превращает «испитых Чернышевских, исколотых Рахметовых, накокаиненных Кибальчичей» в заступников и вожаков, либо в платных «толмачей» варварских толп «недосверхчеловеков»: революционного пролетариата и его прямого потомка – постсоветского бандита. Неудивительно, что «корпоративная подлость людей искусства» и «лживая судьба интеллигента» приводят лирического героя к последовательному антиинтеллектуализму[170]170
Там же, с. 213. См. также: 115, 116, 144, 404.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.